Алексей Алексеевич Боровой
Анархизм
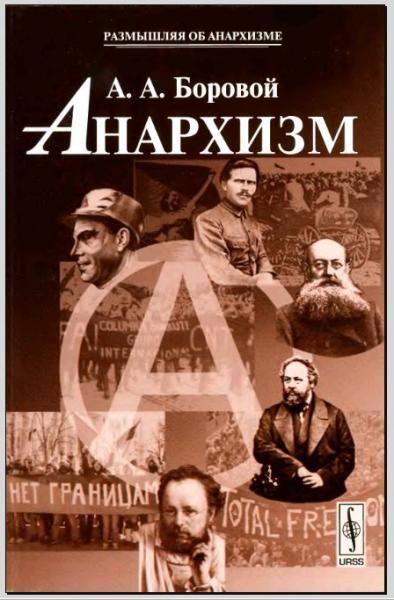
Алексей Алексеевич Боровой и его книга «Анархизм»
ГЛАВА I.
Анархизмъ и абсолютный индивидуализмъ.
ГЛАВА II.
Анархизмъ и общественность.
ГЛАВА III.
Анархизмъ и раціонализмъ.
ГЛАВА IV.
Анархизмъ и энономическій матеріализмъ.
ГЛАВА VI.
Анархизмъ и его средства.
Глава VIII.
Анархизмъ и націонализмъ.
ГЛАВА IX.
Анархизмъ, какъ общественный идеалъ.
(Анархо-гуманизмъ).
Петру Алексѣевичу Кропоткину
съ глубокимъ уваженіемъ авторъ.
Алексей Алексеевич Боровой и его книга «Анархизм»
Имя Алексея Алексеевича Борового почти наверняка неизвестно сегодняшнему читателю. А между тем этот человек — крупнейший мыслитель российского анархизма первой трети XX века после П. А. Кропоткина, незаурядный оратор, педагог, философ, социолог, экономист, правовед, историк, библиофил, литературовед, поистине энциклопедическая личность — отнюдь не заслуживает забвения. Без него наши представления об истории отечественной культуры и освободительного движения будут неполны.
Алексей Алексеевич Боровой родился 30 октября 1875 года в дворянской семье в Москве. Его отец был преподавателем математики, а мать страстно увлекалась музыкой. В 1894-1898 годах Алексей учился на юридическом факультете Московского университета, выделяясь среди товарищей своими способностями, и по окончании был оставлен при кафедре. В эти годы он был увлечен марксизмом (позднее называл это увлечение «религиозной страстью») и написал свои первые научные труды: о рабочем дне, о французских и русских экономистах XVII-ХVІІІ веков и другие. Романтик и жизнелюб, любознательный, талантливый, энергичный, Алексей Алексеевич в 1898-1903 годах сочетал преподавание политической экономии, географии и права в Университете и других учебных заведениях с учебой в Консерватории (обладая музыкальными способностями, он музыкально воспринимал мир), общался с учеными, философами и литераторами, увлекался философией Ницше и поэзией символизма, пропагандировал идеи революционного синдикализма... Общительность, душевная восприимчивость, развитая интуиция, ораторский талант, превосходная память, исключительная работоспособность, бунтарство, влюбчивость и духовный максимализм, характерные для Алексея Алексеевича Борового, обусловили его эволюцию от марксизма к анархизму.
В 1903-1905 годах молодой приват-доцент совершает длительную поездку во Францию и Германию для продолжения научных занятий и сбора материала для диссертации. Там, в Париже осенью 1904 года он осознал себя анархистом — навсегда, до конца. Это откровение пришло к нему не «свыше», но «изнутри», внезапно и окончательно. По его признанию: «я чувствовал, что я родился анархистом — с отвращением и естественным протестом против всякого организованного насилия». Анархизм стал для Борового не просто социальным учением или «идеологией партии», но осознанным исповеданием личного мировоззрения. Придя к анархизму совершенно самостоятельно и в зрелом возрасте, Алексей Боровой долгое время был идейно-психологически дистанцирован от массового анархического движения (на преодоление этой дистанции ушло целое десятилетие) и оказался в состоянии действовать в одиночку, как теоретик и пропагандист анархизма, самостоятельно генерируя идеи и смыслы, сохраняя самобытность и верность себе даже в безнадежных ситуациях.
Вернувшись в Россию в 1905 году, в разгар Революции, Боровой быстро стал широко известен. Профессора называли его «любимцем факультета» (однако кадетское большинство в Университете не позволило ему защитить докторскую диссертацию из-за его радикализма и нонконформизма), а отчет Охранного Отделения именовал его «любимцем московского студенчества». Публичные лекции Борового «Общественные идеалы современного человечества. Либерализм. Социализм. Анархизм» и «Революционное миросозерцание» (вскоре изданные отдельными брошюрами) пользовались огромным успехом и стали первым легальным возвещением анархического мировоззрения в России, ознаменовав начало «постклассического» (то есть, в данном случае, посткропоткинского) этапа в развитии либертарной мысли.
Боровой много выступал и преподавал, возглавил анархическое книгоиздательство «Логос», участвовал в выпуске известного журнала «Перевал», опубликовал (в двух книгах) фундаментальное диссертационное исследование «История личной свободы во Франции», а также «Популярный курс политической экономии», сотни статей, переводов, рецензий. По его инициативе в России были изданы работы анархистов Э. Реклю, Ж. Грава, Э. Малатесты и других. Среди его друзей и знакомых были Вера Фигнер, Максимилиан Волошин, Иван Ильин, Николай Кареев, Максим Ковалевский, Александр Скрябин, Густав Шпет, Борис Вышеславцев... «Белая ворона»— дворянин, ушедший в революцию; меломан, любитель поэзии, участник музыкальных, философских и литературных кружков; боец, но не «партийный» фанатик; индивидуалист и одновременно социалист; ученый, но противник сциентизма и «цеховой учености»; поэт-мыслитель, Алексей Алексеевич Боровой всем интересовался, жил «во все стороны», участвовал во многих начинаниях, дружил со многими людьми (ему были важны в человеке не столько «-измы», сколько мироощущение) — всегда оставаясь самим собой (в философии, в науке, в общественной деятельности), не растворяясь до конца ни в чем и выражая себя во всем. Он стремился к синтезу различных идейных подходов и сторон жизни, к творческому самопроявлению, был открыт миру и обостренно ощущал уникальность личности — как собственной, так и других людей.
Маркс, Бакунин, Бергсон, Ницше, Штирнер, Достоевский, Пушкин и Скрябин творчески влияли на миросозерцание этого удивительного мыслителя-анархиста, попытавшегося дать либертарный ответ на вызовы XX века и предложившего — пусть незаконченную и не свободную от противоречий — новую мировоззренческую парадигму анархизма, подвергнутого самокритике и обновлению. Алексей Алексеевич стремился сочетать идеи «философии жизни» Анри Бергсона и Фридриха Ницше (творчество, спонтанность, интуитивизм, критика рационализма и сциентизма) с идеями Макса Штирнера (выдвижение в центр рассмотрения личности и критика отчуждения и всяческих «фетишизмов»), с полузабытыми гениальными прозрениями Михаила Бакунина (философия бунта, негативная диалектика, критика государственного социализма, примат «жизни» перед «наукой», примат действия перед «теорией») и с творческим осмыслением практики революционного синдикализма.
Подвергнутый гонениям со стороны самодержавного режима (аресты, обыски, штрафы, изгнание из учебных заведений, тюремное заключение и уголовное преследование), Боровой бежал за границу. Два года (1911-1913) он провел в эмиграции во Франции, где читал лекции, водил экскурсии по Парижу (и даже издал книгу об этом любимом городе) и основательно изучал философию Бергсона и практику революционного синдикализма. В 1913 году он по амнистии вернулся в Россию и занялся журналистской деятельностью. Призванный в армию с началом Мировой войны, Боровой (как он пишет в автобиографии), «служил в эвакуации. В 1918 г. состоял в звании военного комиссара при Главном Военном Санитарном Управлении». С революцией 1917-1921 годов Алексей Алексеевич стал профессором Московского университета (одним из самых любимых студентами) и ВХУТЕМАСа, возглавил анархические издания «Жизнь» и «Клич», был одним из руководителей Московской Федерации работников умственного труда (попытавшейся объединить на принципах революционного синдикализма интеллектуальный пролетариат) и Московского Союза идейной пропаганды анархизма. (Именно к нему летом 1918 года приехал в первую очередь Нестор Иванович Махно, восторженно отозвавшийся о нем в своих воспоминаниях.) Алексей Алексеевич читает многочисленные курсы, издает книги «Революционное творчество и парламент», «Анархизм», «Личность и общество в анархическом мировоззрении».
Отстраненный в 1921 году большевистским режимом от преподавания, Боровой работал экономистом и сосредоточился на деятельности в музее П. А. Кропоткина (он был заместителем Веры Фигнер — председателя Всероссийского Общественного Комитета по увековечиванию памяти П. А. Кропоткина), готовил новые статьи и книги (в том числе огромную рукопись «Достоевский» и «Разговоры о живом и мертвом» — сочинения, так до сих пор и не опубликованные) и руководил работой анархо-синдикалистского издательства «Голос Труда», выпустившего десятки книг. Совместно с Н. Отверженным Боровой издает книгу «Миф о Бакунине», а в 1926 году под его редакцией выходит сборник «Очерки истории анархического движения в России». Для этой книги, подытожившей историю российского анархизма, Боровой написал превосходную статью «Бакунин» — лучшее и по сей день изложение философских идей Михаила Александровича. В 1929 году Алексей Алексеевич Боровой как «неразоружившийся анархист» был арестован и сослан сначала в Вятку, а потом во Владимир, где он успел умереть своей смертью 21 ноября 1935 года, до конца сохранив человеческое достоинство и верность своему обреченному делу. В эти последние годы он завершил огромную книгу замечательных воспоминаний, подводя итог всей своей жизни, описывая сотни людей, встретившихся на его пути и рефлексируя пережитое. (Эта книга до сих пор ждет публикации.)
Во время Гражданской войны в Испании русские эмигранты-анархисты в Испании объединились в Группу имени Алексея Борового. А в 1990-2000-е годы уже несколько современных российских анархистов (и в их числе автор этих строк) также создали Группу имени Алексея Борового для изучения, пропаганды и развития его наследия (она провела две посвященные ему конференции и издала две брошюры). Давно назрела необходимость вернуть память об Алексее Алексеевиче Боровом в Россию, переиздать его опубликованные ранее труды и издать рукописи.
Предлагаемая вниманию читателя книга «Анархизм» была написана и издана в 1918 году. Сам Алексей Алексеевич считал ее во многом «сырой». Несмотря на посвящение Петру Алексеевичу Кропоткину, это сочинение знаменует значительный шаг вперед от «научного анархизма» Кропоткина, воздвигнутого на позитивистском философском фундаменте и пронизанного сциентизмом и прогрессизмом. Боровой затронул в этой книге широкий круг принципиальнейших вопросов анархического мировоззрения и наметил радикальную самокритику классического анархизма. Для него неприемлем ни «богемный» анархо-индивидуализм, отрывающий личность от общества, ни кропоткинский анархо-коммунизм, обожествляющий общество и растворяющий в нем личность. В представлении Борового анархизм есть «романтическое мировоззрение с реалистической тактикой», с которым несовместимы догматизм, слепая вера в разум и науку, для которого невозможен «конечный идеал» (ибо анархизм — «учение динамическое», указывающее направление движения, а не детально описывающее «пункт прибытия»). В центре анархического мировоззрения стоят ценности личности, жизни, свободы, творчества, спонтанности. Критикуя крайний индивидуализм, рационализм, марксизм, Алексей Боровой подробно разбирает вопросы о тактике и методах анархизма, его отношении к национализму, а также проблему взаимосвязи и борьбы между личностью и обществом. Афористическая, лаконичная, порой отрывочная и декларативная форма изложения, вызванная поспешностью написания книги, не должна заслонить от читателя оригинальности, смелости, свежести и целостности подходов Борового к теоретическим основаниям анархизма. Эта книга, написанная 90 лет назад, сегодня, в эпоху глобального кризиса человечества и окончательной исчерпанности ценностных оснований модерна, не утратила своей значимости (причем не только сугубо исторической) для всех, кому близки либертарные идеалы и кого интересует анархическая мысль.
Кандидат философских наук, доцент
Петр Владимирович Рябов
ГЛАВА I.
Анархизмъ и абсолютный индивидуализмъ.
Анархизмъ есть апофеозъ личнаго начала. Анархизмъ говоритъ о конечномъ освобожденіи личности. Анархизмъ отрицаетъ всѣ формы власти, всѣ формы принужденія, всѣ формы внѣшняго обязыванія личности. Анархизмъ не знаетъ долга, отвѣтственности, коллективной дисциплины.
Всѣ эти и подобныя имъ формулы достаточно ярко говорятъ объ индивидуалистическомъ характерѣ анархизма, о приматѣ начала личнаго передъ началомъ соціальнымъ и, тѣмъ не менѣе, было-бы огромнымъ заблужденіемъ полагать, что анархизмъ есть абсолютный индивидуализмъ, что анархизмъ есть принесеніе общественности въ жертву личному началу.
Абсолютный индивидуализмъ — есть вѣра, философское умозрѣніе, личное настроеніе, исповѣдующія культъ неограниченнаго господства конкретнаго, эмпирическаго «я».
«Я» — существую только для себя и все существуетъ только для «меня». Никто не можетъ управлять «мною», «я» могу пользоваться и управлять всѣмъ.
«Я» — перлъ мірозданія, драгоцѣнный сосудъ единственныхъ въ своемъ родѣ устремленій и ихъ необходимо оберечь отъ грубыхъ поползновеній сосѣда и общественности. «Я» — цѣлый, въ себѣ замкнутый океанъ неповторимыхъ стремленій и возможностей, никому ничѣмъ не обязанныхъ, ни отъ кого ничѣмъ не зависящихъ. Все, что пытается обусловить мое «я», посягаетъ на «мою» свободу, мѣшаетъ «моему» полному господству надъ вещами и людьми. Ограниченіе себя «долгомъ» или «убѣжденіемъ» есть уже рабство.
Краснорѣчивѣйшимъ образцомъ подобнаго индивидуализма является философія Штирнера.
По справедливому замѣчанію Штаммлера, его книга — «Единственный и его достояніе» (1845 г.) — представляетъ собой самую смѣлую попытку, которая когда-либо была предпринята — сбросить съ себя всякій авторитетъ.
Для «Единственнаго» Штирнера нѣтъ долга, нѣтъ моральнаго закона. Признаніе какой-либо истины для него невыносимо — оно уже налагаетъ оковы. «До тѣхъ поръ, пока ты вѣришь въ истину — говоритъ Штирнеръ — ты не вѣришь въ себя! Ты — рабъ, ты — религіозный человѣкъ. Но ты одинъ — истина... Ты — больше истины, она передъ тобой — ничто».
Идея личнаго блага есть центральная идея, проникающая философію Штирнера.
«Я» — эмпирически — конкретная личность, единственная и неповторимая — властелинъ, предъ которымъ все должно склониться. «..Нѣтъ ничего реальнаго внѣ личности съ ея потребностями, стремленіями и волей». Внѣ моего «я» и за моимъ «я» нѣтъ ничего, что бы могло ограничить мою волю и подчинить мои желанія.
«Не все-ли мнѣ равно — утверждаетъ Штирнеръ, — какъ я поступаю? Человѣчно-ли, либерально, гуманно или, наоборотъ?... Только бы это служило моимъ цѣлямъ, только бы это меня удовлетворяло, — а тамъ называйте это, какъ хотите: мнѣ рѣшительно все равно... Я не дѣлаю ничего «ради человѣка», но все, что я дѣлаю, я дѣлаю «ради себя самого»... Я поглощаю міръ, чтобы утолить голодъ моего эгоизма. Ты для меня — не болѣе, чѣмъ пища, такъ-же, какъ я для тебя...»
Что послѣ этихъ утвержденій для «Единственнаго» — право, государство?
Они — миражъ предъ властью моего «я»! Права, какъ права, стоящаго внѣ меня или надо мной, нѣтъ. Мое право — въ моей власти. «... Я имѣю право на все, что могу осилить. Я имѣю право свергнуть Зевса, Іегову, Бога и т. д., если въ силахъ это сдѣлать... Я есмь, какъ и Богъ, отрицаніе всего другого, ибо я есмь — мое все, я есмь — единственный!»
Но огромная внѣшняя мощь Штирнеровскихъ утвержденій, тѣмъ рѣшительнѣе свидѣтельствуетъ о ихъ внутреннемъ безсиліи. Во имя чего слагаетъ Штирнеръ свое безбрежное отрицаніе? Какія побужденія жить могутъ быть у «Единственнаго» Штирнера? Тѣ, какъ будто, соціальные инстинкты, демократическіе элементы, которые проскальзываютъ въ проектируемыхъ имъ «союзахъ эгоистовъ», растворяются въ общей его концепціи, отказывающейся дать какое-либо реальное, содержаніе его неограниченному индивидуализму. «Единственный», это — форма безъ содержанія, это вѣчная жажда свободы — «отъ чего», но не «для чего». Это — самодовлѣющее безцѣльное отрицаніе, отрицаніе не только міра, не только любого утвержденія во имя послѣдующихъ отрицаній — это было бы только актомъ творческаго вдохновенія — но отрицаніе своей«святыни», какъ «узды и оковы», и въ конечномъ счетѣ, отрицаніе самого себя, своего «я», поскольку можетъ идти рѣчь о реальномъ содержаніи его, а не о безплотной фикціи, выполняющей свое единственное назначеніе «разлагать, уничтожать, потреблять» міръ.
Безцѣльное и безотчетное потребленіе міра, людей, жизни — и есть жизнь «наслаждающагося» ею «я».
И хотя Штирнеръ не только утверждаетъ для другихъ, но пытается завѣрить и себя, что онъ, въ противоположность «религіозному мipy», не приходитъ «къ себѣ» путемъ исканій, а исходитъ «отъ себя», но — за утвержденіями его для каждаго живого человѣческаго сознанія стоитъ страшная пустота, холодъ могилы, игра безплотныхъ призраковъ. И когда Штирнеръ говоритъ о своемъ наслажденіи жизнью, онъ находитъ для него опредѣленіе, убійственное своимъ внутреннимъ трагизмомъ и скрытымъ за нимъ сарказмомъ: «Я не тоскую болѣе по жизни, я «проматываю» ее» («Ich bange nicht mehr ums Leben, sondern «verthue» es»).
Эта формула — пригодна или богамъ или человѣческимъ отрепьямъ. Человѣку, ищущему свободы, въ ней мѣста нѣтъ.
И нѣтъ болѣе трагическаго выраженія нигилизма, какъ философіи и какъ настроенія, чѣмъ штирнеріанская «безцѣльная» свобода[1].
Такимъ же непримиримымъ отношеніемъ къ современному «религіозному» человѣку и безпощаднымъ отрицаніемъ всего «человѣческаго» напитана и другая система абсолютнаго индивидуализма — система Ницше[2].
«Человѣкъ, это многообразное, лживое, искусственное и непроницаемое животное, страшное другимъ животнымъ больше хитростью и благоразуміемъ, чѣмъ силой, изобрѣлъ чистую совѣсть для того, чтобы наслаждаться своей душой, какъ чѣмъ-то простымъ; и вся мораль есть не что иное, какъ смѣлая и продолжительная фальсификація, благодаря которой вообще возможно наслаждаться созерцаніемъ души»... («Ienseits von Gut und Böse» § 291).
Истиннымъ и единственнымъ критеріемъ нравственности — является сама жизнь, жизнь, какъ стихійный біологическій процессъ съ торжествомъ разрушительныхъ инстинктовъ, безпощаднымъ пожираніемъ слабыхъ сильными, съ категорическимъ отрицаніемъ общественности.
Все стадное, соціальное — продуктъ слабости. «Больные, болѣзненные инстинктивно стремятся къ стадной организаціи... Аскетическій жрецъ угадываетъ этотъ инстинктъ и стремится удовлетворить ему. Всюду, гдѣ стадность: требовалъ ее инстинктъ слабости, организовала ее мудрость жреца». («Генезисъ морали» § 18).
И въ противовѣсъ рабамъ, «морали-рабовъ» — Ницше творитъ свое ученіе о «сверхчеловѣкѣ», въ которомъ кипитъ самый вѣрующій пафосъ.
Изъ созданныхъ доселѣ концепцій сверхчеловѣка слѣдуетъ отмѣтить двѣ, полярныя одна другой: Ренана и Ницше.
Первый хотѣлъ создать сверхчеловѣка — «intelligence supérieure» истребленіемъ въ человѣкѣ звѣря, выявленіемъ въ немъ до апофеоза всѣхъ его чисто «человѣческихъ» свойствъ. Идеалъ Ренана — чисто раціоналистическій: убить инстинкты для торжества разсудка. Ренановскій сверхчеловѣкъ — гипертрофія мозга, гипертрофія разсудочнаго начала, апофеоза учености.
Сверхчеловѣкъ Ницше — его противоположность. Ницше стремится убить въ сверхчеловѣкѣ все «человѣческое» — упразднить въ немъ проблемы религіи, морали, общественности, выявить «звѣря», побить разсудокъ инстинктами, вернуть человѣку здоровье и силы, потерянныя въ раціоналистическихъ туманахъ. «Мы утомлены человѣкомъ», говоритъ онъ. (Тамъ-же § 12).
И онъ поетъ гимны — силѣ, насилію, власти.
«Властвующій — высшій типъ!» («Посмертные афоризмы» § 651). Онъ привѣтствуетъ «хищное животное пышной свѣтлорусой расы» съ наслажденіемъ блуждающее за добычей и побѣдой» («Генезисъ морали» § 11), «самодержавную личность, тожественную самой себѣ,... независимую сверхъ-нравственную личность.., свободнаго человѣка, который дѣйствительно можетъ обѣщать, господина свободной воли, повелителя»... (Тамъ-же. Отд. II, §2). «Могущественными, беззаботными, насмѣшливыми, способными къ насилію — таковыми хочетъ насъ мудрость: она — женщина, и всегда любитъ лишь воина!» («Такъ говорилъ Заратустра»).
Ницше не боится рабства. «Эвдемонистически-соціальные идеалы ведутъ человѣчество назадъ. Впрочемъ, они... изобрѣтаютъ идеальнаго раба будущаго, низшую касту. Въ ней не должно быть недостатка». (Приложеніе къ «Заратустрѣ» § 671).
Но стоитъ сопоставить гордыя формулы самоутвержденія съ ихъ подлинно реальнымъ содержаніемъ и мы — передъ зіяющимъ противорѣчіемъ.
Вмѣсто сильнаго, этически безразличнаго «бѣлокураго звѣря» мы видимъ тоскливо мечущееся обреченное человѣческое существо, готовое на жертвы, мечтающее о смерти — побѣдѣ, какъ желанномъ концѣ.
— «Велико то въ человѣкѣ, что онъ — мостъ, а не цѣль... Что можно любить въ немъ, это то, что онъ — переходъ и паденіе»...
— «…Выше, нежели любовь къ ближнему, стоитъ любовь къ дальнему и будущему: еще выше, чѣмъ любовь къ людямъ, цѣню я любовь къ вещамъ и призракамъ», — вдохновенно училъ Заратустра.
Въ этихъ словахъ — основы революціоннаго міросозерцанія. Любовь къ дальнему и будущему, любовь къ «вещамъ» — высшая мораль творца, переростающая желанія сегодняшнихъ людей, отвергающая уступки времени и исторической обстановкѣ.
— «Не человѣколюбіе, восклицаетъ Ницше, a безсиліе человѣколюбія препятствуетъ миролюбцамъ нашего времени сжечь насъ». («По ту сторону добра и зла» § 104).
Такъ спасеніе духа становится выше спасенія плоти. Нѣтъ жертвъ достаточныхъ, которыхъ нельзя было бы принести за него, и нѣтъ для спасенія духа безплодныхъ жертвъ. Онѣ не безплодны, если гибнутъ во имя своего идеала. Безплодныя сейчасъ — онѣ не безплодны для будущаго. На нихъ строится будущее счастье, будущія моральныя цѣнности. Эти жертвы — жертвы любви къ дальнему, любви къ своему идеалу, и въ ихъ трагической гибели — залогъ грядущаго высшаго освобожденія человѣческаго духа.
— «Я люблю тѣхъ — говорилъ Заратустра, кто не умѣетъ жить, ихъ гибель — переходъ къ высшему». «Я люблю того, у кого свободенъ духъ и свободно сердце; его голова — лишь содержимое его сердца, а сердце влечетъ его къ гибели». «Я люблю того, кто хочетъ созидать дальше себя и такъ погибаетъ». «Своей побѣдоносной смертью умираетъ созидающій, окруженный надѣющимися и благословляющими... Такъ надо учиться умирать... Такъ умирать — лучше всего, второе же — умереть въ борьбѣ и расточить великую душу...» («Такъ говорилъ Заратустра»).
Въ этомъ трагическомъ стремленіи къ гибели заключенъ высшій возможный для человѣка нравственный подвигъ; это — не Штирнеровское «проматываніе» жизни! Но какъ согласить это вдохновенное ученье съ стремленіемъ вымести изъ человѣка все «человѣческое»!
Не правъ-ли Фуллье, что «пламенное прославленіе страданія, какъ бы прекрасно оно ни было въ смыслѣ моральнаго вдохновенія, мало понятно въ доктринѣ, не признающей никакого реальнаго добра, никакой истинной цѣли, по отношенію къ которымъ страданіе могло бы служить средствомъ».
И другое неизбѣжное противорѣчіе — между отвращеніемъ къ стадности и жаждой быть учителемъ и пророкомъ раздираетъ ученіе философа.
Пусть говоритъ онъ о «пустынѣ», пусть агитатора называетъ онъ «пустой головой», «глинянымъ горшкомъ», пусть заявляетъ онъ, что «философъ познается бѣгствомъ отъ трехъ блестящихъ и громкихъ вещей: славы, царей и женщинъ...», но развѣ не зоветъ къ себѣ всѣхъ «пресыщенный мудростью» Заратустра, чтобы одѣлить своими дарами?
И подлинный ужасъ встаетъ, когда проповѣдникъ сверхъ-человѣчества признается въ интимнѣйшихъ своихъ чувствахъ, которыя не суждено слушать «толпѣ»: «Мысль о самоубійствѣ — сильное утешительное средство: съ ней благополучно переживаются иныя мрачныя ночи». («По ту сторону добра и зла» § 157).
Это — гибель всего міровоззрѣніяъ
Начать съ гордыхъ утвержденій полнаго самоудовлетворенія въ одиночествѣ и кончить школой, любовнымъ подвигомъ трагической гибелью и трусливымъ бѣгствомъ изъ жизни. Развѣ это не цѣлая послѣдовательная гамма разочарованій...
Штирнеріанство — безплодное блужданіе въ дебряхъ опустошенной личности, ницшеанство — скорбный кликъ героическаго пессимизма.
Послѣдовательный индивидуализмъ неизбѣжно приводитъ къ солипсизму, то-есть къ признанію конкретнымъ «я» реальности только своего существованія, къ утвержденію всего существующаго только, какъ своего личнаго опыта. «Я» — Абсолютъ, Творецъ всего; остальной міръ — фантомъ, продуктъ моего воображенія.
Солипсизмъ есть категорическое упраздненіе всего соціальнаго.
Анархизмъ и абсолютный индивидуализмъ могутъ быть названы антиподами.
Анархизмъ есть также культъ человѣка, культъ личнаго начала, но анархизмъ не дѣлаетъ изъ эмпирическаго «я» центра вселенной.
Анархизмъ обращается ко всѣмъ, къ каждому человѣку, къ каждому «я». И, если не каждое «я» равно драгоцѣнно для анархизма, ибо и анархизмъ не можетъ не дѣлать различій между подлинно свободнымъ человѣкомъ и насильникомъ, пытающимся строить свою свободу на порабощеніи другого, то каждое «я» — и малое и большое — должно быть для анархизма предметомъ равнаго вниманія, каждое «я» имѣетъ равное право для выявленія своей индивидуальности, каждое «я» должно быть обезпечено защитой отъ посягательствъ другого «я».
И если абсолютный индивидуализмъ стремится утвердить свободу только даннаго конкретнаго «я», анархизму дорога свобода всѣхъ «я», дорога свобода человѣка вообще. Абсолютный индивидуализмъ не только мирится съ рабствомъ другихъ, но или относится къ нему безразлично или даже ставитъ его въ уголъ своего благополучія. Анархизмъ и рабство — непримиримы. Общество, построенное на привиллегіяхъ и ограниченіяхъ — несвободно. Тамъ, гдѣ есть рабы, нѣтъ мѣста свободнымъ людямъ.
«Я истинно свободенъ — писалъ Бакунинъ — если всѣ человѣческія существа, окружающія меня, мужчины и женщины точно также свободны. Свобода другихъ не только не является ограниченіемъ, отрицаніемъ моей свободы, но есть, напротивъ, ея необходимое условіе и подтвержденіе. Я становлюсь истинно свободенъ только черезъ свободу другихъ... Напротивъ того рабство людей ставитъ границу моей свободѣ...» («Богъ и Государство»).
Анархизмъ, поэтому, чуждъ солипсизму. Для него равно реальны всѣ люди, для него, наоборотъ, ирреаленъ тотъ эгоцентризмъ, то выдѣленіе и чудовищная гипертрофія личнаго «я», личнаго начала, которыя порождаетъ абсолютный индивидуализмъ.
Также различны они — анархизмъ и послѣдовательный индивидуализмъ — и въ области практической дѣятельности.
Абсолютный индивидуализмъ не знаетъ методовъ соціальнаго дѣйствія. Онъ не имѣетъ соціально-политическихъ программъ, нe собираетъ партій, не образуетъ союзовъ.
Чистый индивидуализмъ, который во всемъ окружающемъ, не исключая людей и разнообразных формъ человѣческаго общенія, видитъ только средство удовлетворенiя своихъ эгоцентрическихъ стремленій, относится съ полнымъ безразличіемъ, къ отдѣльнымъ типамъ организованной общественности, къ отдѣльнымъ политическимъ формамъ.
Соціально-политическій прогрессъ для него не существуетъ, ибо общественныя симпатіи его къ тому или другому бытовому укладу обусловливаются не соображеніями «общаго блага», обезпеченія справедливости, утвержденія свободы и т. п., но исключительно личными вкусами. И въ этомъ смыслѣ античное государство съ институтомъ рабства, феодализмъ и крѣпостничество, вольный городъ и цеховая регламентація, буржуазное правовое государство, соціалистическій строй, анархистическая община — для него совершенно равноцѣнны.
Требуя неограниченной свободы для себя, онъ отдаетъ свои симпатіи Платоновскому «Государству мудрыхъ», мандаринату, диктатурѣ, аморфному, ничѣмъ не связанному «союзу эгоистовъ». Его не смущаютъ одіозныя привиллегіи или моральныя несовершенства излюбленнаго имъ строя. Насиліе, хищничество, закабаленіе — всѣ средства хороши для достиженія главной цѣли: утвержденія своего неограниченнаго господства, торжества своей воли. Слабому, темному, погибающему — противопоставляются «я», герой, великій человѣкъ, сверхчеловѣкъ. Цѣлыя расы могутъ послужить навозомъ для великихъ — писалъ Стриндбергъ. Весь міръ — говоритъ философъ Эмерсонъ — долженъ стать питомникомъ великихъ людей.
Анархизмъ есть не только соціальная теорія. Онъ также — соціальная практика. Анархизмъ утверждаетъ и ищетъ практическіе методы соціальнаго дѣйствія.
Несмотря на непримиримыя противорѣчія между отдѣльными теченіями анархистской мысли, есть своеобразная «программа — minimum», объединяющая всѣ оттѣнки анархизма. И эти принципы обусловливают и его тактику.
Въ ряду этихъ принциповъ
Прежде всего — отрицаніе власти, принудительной санкціи во всѣхъ ея формахъ, a слѣдовательно, всякой организаціи, построенной на началахъ — централизаціи и представительства. Отсюда отрицаніе права и государства со всѣми его органами.
Въ области собственно политической — отрицаніе политическихъ формъ борьбы, демократіи и парламентаризма.
Въ области экономической отрицаніе капитализма и всякаго общественнаго режима, построеннаго на эксплоатаціи наемнаго труда.
Наконецъ, анархизмъ въ новѣйшихъ стадіяхъ его развитія приходитъ къ убѣжденію, что революція вообще и анархическая въ «частности не декретируется «верхами», революціоннымъ правительствомъ и не срывается «сознательнымъ иниціативнымъ меньшинствомъ» или случайной кучкой «заговорщиковъ», но совершается «низами», являясь творческимъ выраженіемъ «бунта», идущаго непосредственно изъ «массъ». Но духъ «созидающій, въ отличіе отъ духа «погромнаго», можетъ найти себѣ выраженіе не въ случайныхъ и «безцѣльныхъ» взрывахъ толпы, но въ свободной ассоціаціи, поставившей сознательно опредѣленныя цѣли въ духѣ анархическаго міровоззрѣнія. Отсюда анархизмъ понимаетъ соціальное творчество, какъ самодѣятельность заинтересованнаго класса.
Классовая аполитическая организація является, поэтому, не только лучшей, но и единственно моральной и технически цѣлесообразной формой анархическаго выступленія. Акты «одиночекъ» и «кучекъ» могутъ въ извѣстныхъ случаяхъ имѣть педагогическое значеніе и могутъ быть нравственно оправданы, но къ нимъ сводить всю анархистическую тактику — значило-бы обречь ее на полное безплодіе.
Такъ анархизмъ изъ бунтарскаго настроенія личности преобразуется постепенно въ организованный революціонаризмъ массъ.
Теперь должно быть ясно коренное различіе между абсолютнымъ индивидуализмомъ и анархизмомъ.
Первый — есть настроеніе свободолюбивой личности, ни къ чему ее не обязывающее и потому — по существу — безотвѣтственное. Второй — соціальная дѣятельность, строющаяся на исповѣдываніи опредѣленныхъ принциповъ и влекущая для каждаго дѣятеля моральную отвѣтственность.
Первый ведетъ къ установленію власти, усиленію гнета, второй несетъ въ себѣ подлинно освобождающій смыслъ. Первый предполагаетъ освобожденіе единицъ за счетъ общественности, второй освобождаетъ личность черезъ свободную общественность[3].
Наконецъ, чистый индивидуализмъ, какъ на это неоднократно указывалось, антиномиченъ, т.-е. внутренно противорѣчивъ и неизбѣжно ведетъ къ самоотрицанію.
У сильной индивидуальности безграничная свобода, безспорно, является стимуломъ къ чрезвычайному развитію личной мощи за счетъ слабыхъ индивидуальностей. Это неизбѣжно должно повести къ своеобразному «аристократическому» отбору, который для обезпеченія своей свободы и безопасности порабощаетъ все окружающее. Но, съ одной стороны, устраненіе борьбы и мирное пользованіе неограниченной властью ведетъ неизбѣжно къ вырожденію избранныхъ и преобразуетъ въ послѣдующихъ поколѣніяхъ силу въ слабость, съ другой, вызываетъ въ порабощенныхъ духъ протеста противъ ослабѣвшаго властителя и зоветъ ихъ къ борьбѣ, неизбѣжно кончающейся пораженіемъ поработителя. Эту мысль прекрасно выразилъ Зиммель: «... Аристократы, выдѣлившіеся изъ общаго уровня, на нѣкоторое время создаютъ для себя особый высшій уровень жизни. Въ новой обстановкѣ они, однако постепенно утрачиваютъ жизнеспособность, между тѣмъ какъ масса, пользуясь выгодами большого числа, ее сохраняетъ».
Такъ неограниченный индивидуализмъ, отрицающій свободную общественность, неизбѣжно приходитъ къ вырожденію и самоотрицанію.
ГЛАВА II.
Анархизмъ и общественность.
Личность есть центръ анархическаго міровоззрѣнія. Полное самоопредѣленіе личности, неограниченное выявленіе ею своихъ индивидуальныхъ особенностей — таково содержаніе анархистскаго идеала.
Но личность — немыслима внѣ общества. И анархизму приходится рѣшатьпроблему — возможно-ли и какъ возможно такое общество, которое бы цѣли личности сдѣлало своими цѣлями, которое утвердило бы полную гармонію между индивидуальными устремленіями личности и задачами общественнаго союза и тѣмъ самымъ осуществило бы, наконецъ, мечты хиліазма.
Анархизмъ можетъ рѣшить эту проблему только въ смыслѣ отрицательномъ.
Такое общество — невозможно.
Исторически и логически антиномія личности и общества — неустранима. Никогда, ни при какихъ условіяхъ не можетъ быть достигнута между ними полная гармонія. Какъ бы ни былъ совершененъ и податливъ общественный строй — всегда и неизбѣжно вступитъ онъ въ противорѣчіе съ тѣмъ, что остается въ личности неразложимымъ ни на какія проявленія общественныхъ чувствъ — ея своеобразіемъ, неделимостью, неповторимостью.
Никогда личность не уступитъ обществу этого послѣдняго своего «одиночества», общество никогда не сможетъ «простить» его личности.
Стремленіе — всегда впередъ и всегда дальше есть удѣлъ личности и представленіе о такой общественной организаціи, которая видимыімъ своимъ совершенствомъ могла бы убаюкать это стремленіе — было бы вмѣстѣ убѣжденіемъ въ возможности духовной смерти личности.
Для анархиста подобное представленiе — невозможно. Постоянное, непрерывное, ни извнѣ, ни изнутри не ограничиваемое устремленіе личности къ самоосвобожденію — есть основной постулатъ анархизма.
Именно здѣсь — на пути къ свободному творчеству личности и встаютъ тѣ мощныя препоны, которыя создаетъ организація общественности, порождаемой безсознательно стихійно инстинктомъ самосохраненія.
И принадлежа общественности однѣми сторонами своего существованія, личность освобождаетъ другія, которыя служатъ только индивидуальнымъ ея запросамъ.
Бросимъ бѣглый взглядъ на характеръ соотношеній между личностью и обществомъ.
Въ извѣстномъ, занимающемъ насъ смыслѣ, можно утверждать, что вся человѣческая исторія — есть исторія великой тяжбы между личностью и обществомъ, исторія систематическаго закрѣпощенія личности, извращенія ея оригинальныхъ задачъ, подчиненія ея интересовъ и нравственныхъ запросовъ интересамъ и нормамъ общественности.
И потому — въ античномъ, феодальномъ и современномъ буржуазномъ строѣ личность и общество всегда — то открыто, то замаскированно — вели безпощадную борьбу.
И въ этомъ неравномъ единоборствѣ доселѣ жертвой была личность.
Какъ будто съ этими утвержденіями не вяжутся — ея тріумфы, поднятіе вождей на щиты, реформирующее вліяніе «избранниковъ» на общественные нравы? Эти успѣхи были — призракомъ, обманомъ...
Организаторъ — вождь, даже съ неограниченными полномочіями въ рукахъ, былъ всегда «слугой» возглавляемой имъ группы; онъ былъ вождемъ лишь до тѣхъ поръ, пока хотѣлъ или умѣлъ слѣдовать инстинктамъ и вожделѣніямъ руководимой имъ среды. Когда вождь становился слишкомъ «индивидуаленъ» для толпы, для многоголоваго суфлера — назрѣвалъ конфликтъ. И падалъ вождь!
Такъ было на всѣхъ ступеняхъ развитія человѣческаго общества. И чѣмъ болѣе усложняется человѣческій механизмъ, тѣмъ болѣе, какъ будто, растетъ зависимость отдѣльной личности отъ общества. Тысячи цѣпей — семейныхъ, служебныхъ, профессіональныхъ, союзныхъ, государственныхъ опутали ее. Тысячи паразитовъ стоятъ на дорогѣ ея творческимъ устремленіямъ. И — кажется, никогда еще антагонизмъ между личностью и обществомъ не достигалъ такой остроты, какъ въ наше время.
И, тѣмъ не менѣе, анархизмъ не только не есть отрицаніе общественности, какъ полагаютъ многіе, но, наоборотъ, самая пламенная ея защита.
Пересмотримъ, хотя бѣгло, аргументы противъ общественности и за нее.
1) Наиболѣе распространеннымъ и вѣскимъ соображеніемъ противъ общественности было указаніе, что всѣ, извѣстныя намъ доселѣ, историческія формы общественности ограничивали личность, не давая полнаго простора устремленіямъ.
Организованное общежитіе есть всегда нѣкоторый компромиссъ разнородныхъ индивидуальныхъ воль. Личность должна, вынуждена поступиться чѣмъ-то «своимъ», чтобы послужить «общему благу». Каждый жертвуетъ частью своей личной свободы, чтобы обезпечить свободу общественную.
Общество — неизбѣжно вырабатываете свою волю, не совпадающую съ волей отдѣльныхъ индивидуальностей, ставитъ цѣли, далекія, быть-можетъ, цѣлямъ, принадлежащимъ личности, избираетъ средства къ осуществленію цѣлей, отвергаемыхъ индивидуальностью.
И вотъ открывается мучительный процессъ приспособленія, когда индивидуальность бываетъ вынуждена поступиться самымъ дорогимъ для нея, единственно важнымъ и святымъ, затаить свою правду, чтобы не породить диссонанса «средней», которую властно диктуетъ общественный союзъ, стоящій надъ личностью.
Правда, «общій уровень» массъ повышается съ чрезвычайной быстротой, но все-же, по наблюденію соціологовъ, его ростъ относительно отстаетъ отъ роста индивидуальности.
Въ современныхъ условіяхъ общественности личность развивается, усложняется, дифференцируется несравненно быстрѣе, чѣмъ дифференцируется цѣлое общество, масса, народъ. Пропасть, дѣлившая нѣкогда господъ и рабовъ, уже той пропасти, которая раздѣляетъ современную, утонченную въ интеллектуально-моральномъ смыслѣ индивидуальностъ отъ массы, несмотря на огромный безспорный прогрессъ также въ соціально-экономической области, какъ и въ области просвѣщенія.
Вожди и народъ стояли прежде психически ближе другъ къ другу, чѣмъ нынѣ. И это справедливо не только въ примѣненіи къ вождямъ, но и къ цѣлымъ классамъ современности. Не говоря о первобытной общинѣ, феодалъ средневѣковья былъ ближе по кругозору, настроеніямъ и вкусамъ къ крѣпостному, чѣмъ современный банкиръ къ рабочему, мелкому конторщику, или своему лакею.
И современное общество, не взирая на всѣ его соціально-политическія, экономическія, техническія завоеванія, является болѣе тяжкой формой гнета для отдѣльной личности, чѣмъ какое-либо изъ ранѣе существовавшихъ обществъ.
Оно — торжество «золотой средины». Деспотически подчиняетъ оно своимъ велѣніямъ даже выдающуюся индивидуальность.
2) Помимо того, что подобное систематическое давленіе общественности на личность выражается въ неизбѣжномъ пониженіи интеллектуальнаго уровня членовъ общественнаго союза, ибо высочайшіе духовные запросы индивидуальности могутъ остаться безъ удовлетворенія, разъ они идутъ вразрѣзъ съ болѣе властными запросами середины, необходимо еще имѣть въ виду, что самыя, общественныя цѣли — примитивнѣе, проще цѣлей индивидуальныхъ.
Личность — безконечно болѣе сложна въ ея оригинальныхъ устремленіяхъ, чѣмъ общество, неизбѣжно ставящее себѣ ближайшія, болѣе грубыя, болѣе доступныя цѣли. Общественныя цѣли могутъ легко стать цѣлями даже и выдающейся личности. Но сколькимъ цѣлямъ послѣдней не суждено долго, а, можетъ быть, и никогда стать цѣлями общественными.
Эта «примитивность» общественныхъ цѣлей объясняетъ намъ также, почему коллективныя нормы, резолюціи, установленія поражаютъ насъ относительной бѣдностью содержанія, почему, напримѣръ, парламенты, соединявшіе не разъ въ историческіе моменты то, что могло-бы съ полнымъ правомъ быть названо цвѣтомъ націи въ интеллектуальномъ смыслѣ, давали такіе жалкіе, такіе скудные плоды. Въ подобной работѣ, ставящей себѣ широко-общественныя цѣли, заранѣе принимается во вниманіе необходимость стереть въ общемъ рѣшеніи все оригинальное, все личное, чтобы оно было доступно общему, неизбѣжно, низшему уровню пониманія. И сколько-бы ни собрать большихъ людей, если имъ будетъ поставлена задача выработать нѣкоторое общее рѣшеніе, оно будетъ всегда безцвѣтнымъ, вялымъ, даже умственно убогимъ.
3) Несвобода личности идетъ еще далѣе.
Въ общественности въ любой моментъ встаютъ проблемы, вызываемыя техническими запросами общежитія, ни мало не интересующія личность, какъ таковую. Въ обществѣ живутъ рядомъ — сословныя и классовыя противорѣчія, интеллектуально-моральные антагонизмы между различными культурными слоями, культурно-религіозныя суевѣрія и культурно-религіозный нигилизмъ. Все это, сталкиваясь, порождаетъ могущественный хаосъ, въ который вовлекается личность, вопреки ея волѣ, независимо отъ оригинальныхъ и органичныхъ ей стремленій. И она или гибнетъ въ немъ подъ гнетомъ чуждыхъ ей проблемъ или совершаетъ огромную, ей ненужную работу. Сколько неожиданныхъ трагедій встаетъ для личности на этомъ пути трагедій, — порожденныхъ часто лишь случайнымъ внѣшнимъ сожительствомъ съ другими...
Счастье той личности, проблемы которой совпадутъ съ проблемами общежитія. Такъ бываетъ часто съ «талантомъ», превосходящимъ, по вѣрному замѣчанію Шопенгауэра, способности, но не понятія толпы. Онъ умѣетъ угадать, сдѣлать своимъ то, что незримо ставится на очередь и предложить самостоятельное рѣшеніе прежде, чѣмъ косная обывательская мысль сознаетъ необходимость самаго рѣшенія. Талантъ получитъ награду. Но геній, стоящій надъ понятіями среды и надъ уровнемъ ея лавръ, остается часто непонятымъ и отторгнутымъ.
4) Еще болѣе мучительной для личности является обязанность для нея руководиться нормами общественной нравственности.
Жизнь и творчество сознающей себя личности опредѣляется нравственнымъ закономъ — не тѣми требованіями морали, о которыхъ говорятъ классы, политическія партіи и государство, a велѣніями того внутренняго божества, безъ котораго нѣтъ человѣческой природы, и которое возвышаетъ ее надъ всѣмъ остальнымъ органическимъ и неорганическимъ міромъ.
Эти велѣнія, этотъ единственный нравственный законъ заключается въ установленіи полной гармоніи между властными императивами своего «я» и внѣшними поступками, внѣшнимъ поведеніемъ личности.
Всякія попытки модифицировать дѣятельность, жертвуя внутренними императивами, приводятъ къ нарушенію гармоніи, уничтожаютъ единство и цѣльность личныхъ устремленій, колеблятъ равновѣсіе въ нравственной природѣ человѣка и потому являются безнравственными.
Можно говорить о ихъ цѣлесообразности, важности и даже необходимости, но всѣ эти соображенія имѣютъ внутреннимъ источникомъ не нравственные интересы отдѣльнаго и самостоятельнаго «я», а побужденія среды — партіи, класса, толпы и т. д.
Коллективная психика, конечно, можетъ подчинить и обусловить психику индивидуальную: она можетъ заставить ее пережить во имя общественной цѣлесообразности или даже нравственности такія чувства и настроенія, которыя въ данный моментъ совпадаютъ съ настроеніями и чувствами автономной личности. Но коллективная психика есть нѣчто лежащее внѣ личности; она указуетъ ей свои цѣли и свои средства. Подчиняя себѣ психику индивидуальную, она требуетъ у личности отреченія отъ своего полнаго чистаго «я»; она нe считается съ душевными драмами личности, она довольствуется ея внѣшнимъ согласіемъ, и разъ послѣднее дано, коллективная психика съ полнымъ удовлетвореніемъ впитываетъ въ себя индивидуальную, какъ равноправнаго члена.
Надъ нравственностью «я», нравственностью личности выростаетъ новая нравственность, подчиняющаяся инымъ законамъ, чѣмъ тотъ, о которомъ мы говорили выше. Эта новая нравственность, стоящая надъ личностью, въ значительной мѣрѣ и внѣ ея, легко и свободно мирится съ компромиссами и уступками, на которыя должна итти каждая отдѣльная личность въ угоду ей. Она не видитъ и не желаетъ знать трагедіи отдѣльнаго человѣческаго существованія, она не желаетъ знать индивидуальной правды, она знаетъ только — коллективную правду.
Но коллективная правда есть ложь! Ради нея личность отказывается отъ полноты своей субъективной правды, ради нея она смиряетъ свои смѣлые порывы, ибо психика массы всегда консервативна!
Коллективная правда — грубая совокупность отдѣльныхъ человѣческихъ правдъ со всѣми урѣзками и уступками, необходимыми для примиренія всѣхъ. Она — насиліе, ибо она есть грубое воздѣйствіе однихъ на другихъ. И автономная личность не можетъ съ нею мириться, ибо только въ себѣ чувствуетъ для себя законный источникъ нравственнаго.
5) Тѣ опасности общественности, о которыхъ мы говорили до сихъ поръ — самоочевидны. Но есть иныя, болѣе грозныя, о самомъ существованіи которыхъ многіе не подозрѣваютъ.
И къ нимъ относится прежде всего неизбѣжный психологическій фактъ, что общественная санкція въ нашихъ глазахъ является единственнымъ критеріемъ истинности нашихъ утвержденій.
Мы только что констатировали возможность жесточайшихъ антагонизмовъ между личностью и обществомъ, — мы знаемъ, что антагонизмы эти могутъ обостряться въ такой мѣрѣ, что личность не только не ищетъ общественнаго признанія своихъ открытій, но a priori отвергаетъ за обществомъ какое либо право оцѣнивать или судить ея творческiя устремленія. Но это гордое отъединеніе, это презрѣніе къ суду массъ, суду народа есть разрывъ, только кажущійся.
Въ наиболѣе категорическомъ смыслѣ, онъ можетъ быть еще разрывомъ съ данной формой общественности... Но... какой смыслъ могъ бы быть заключенъ въ наши утвержденія, въ наше творчество, если бы въ насъ не жила твердая увѣренность, что придетъ день, когда творчество наше заразитъ другихъ, всѣхъ, когда вѣра наша станетъ вѣрою другихъ и восторжествуетъ та правда, которую исповѣдуемъ мы.
Слѣдовательно, вся дѣятельность наша направляется сознаніемъ, что она имѣетъ не только цѣнность съ нашей личной точки зрѣнія, но что она есть опредѣленная цѣнность и въ общественномъ смыслѣ. Наше дѣло можетъ быть отвергнуто современнымъ намъ обществомъ, можетъ быть имъ признано вреднымъ, но оно въ нашихъ глазахъ освящается упованіемъ, что общество или откажется отъ своей несправедливой оцѣнки нашего дѣла или что послѣднее найдетъ достойнаго и справедливаго судью въ послѣдующихъ поколѣніяхъ. Иного мѣрила истинности своихъ утвержденій личность не знаетъ.
Такъ выростаетъ надъ ней судія, которому рано или поздно, но неизбѣжно предстоитъ произнести приговоръ надъ творчествомъ каждаго.
6) Есть еще одна тяжкая зависимость личности отъ общества, обычно остающаяся неосознанной.
Когда общество, ограничиваетъ насъ систематически въ свободѣ нашихъ проявленій, подмѣняетъ наши цѣли своими, рекомендуетъ, а чаще навязываетъ пользованіе, лишь имъ одобренными средствами, оно убиваетъ въ извѣстной мѣрѣ нашу личную иниціативу и этимъ культивируетъ въ личности чувство безотвѣтственности.
Именно, на этой почвѣ ограниченія и подавленія личной самостоятельности, рождается у личности стремленіе слагать съ себя отвѣтственность и за свои собственныя акты и за тѣ общественныя несовершенства, которыхъ она является свидѣтелемъ. Вина возлагается на партію, среду, общество, народъ. Личность же оказывается безвольной игрушкой, или слѣпымъ исполнителемъ общественныхъ велѣній.
7) Наконецъ, въ этомъ изслѣдованіи антиномій, раздѣляющихъ общество и личность, должно найти себѣ мѣсто указаніе, частью методологическаго характера, но сохраняющее чрезвычайную важность для индивидуалистическаго міросозерцанія — указаніе на отсутствіе подлинной реальности у общества, какъ такового.
Подлинной самоочевидной реальностью — является личность. Только она имѣетъ самостоятельное нравственное бытіе, и послѣднее не можетъ быть выводимо изъ порядка общественныхъ взаимоотношеній.
Правда, извѣстны утвержденія противоположнаго характера.
Основное историко-философское положеніе гегеліанства заключается — въ совершенномъ подчиненіи своеобразныхъ личностей моменту ихъ сліянія въ общественности, въ поглощеніи начала личнаго началомъ общественнымъ, въ утвержденіи самостоятельности послѣдняго, признаніи его абсолютнымъ, наконецъ, въ апофеозѣ «государства» и «народа». Въ нихъ гегеліянство примиряетъ свободу и необходимость, въ нихъ его Міровой Абсолютный Духъ достигаетъ своего самосознанія; они, наконецъ, опредѣляютъ волю индивидуальности, влагаютъ въ нее реальное содержаніе, поставляютъ себя высшимъ, единственнымъ критеріемъ нравственности для ея устремленій.
Экономическій матеріализмъ, оставляя въ сторонѣ раздирающія его противорѣчія и опредѣленно-прагматическій характеръ его отдѣльныхъ утвержденій, хоронитъ личность въ угоду мистической реальности общественныхъ образованій, создаетъ себѣ фетишъ — производственныхъ отношеній.
Наконецъ, есть писатели, которые, исходя изъ представленій объ обществѣ, какъ своеобразномъ, автономномъ, имѣющемъ собственныя закономѣрности «активномъ процессѣ», не вдаваясь въ вышеуказанныя крайности, утверждаютъ тѣмъ не менѣе общественность, какъ реальность sui generis.
Такъ французскій соціологъ — Дюркгеймъ полагаетъ, что «коллективныя наклонности имѣютъ свое особенное бытіе; это — силы настолько же реальныя, насколько реальны силы космическія, хотя онѣ и различной природы». Это — «реальности sui generis, которыя можно измѣрять, сравнивать по величинѣ». И Дюркгеймъ думаетъ, что здѣсь можно говорить о «психическомъ существѣ новаго типа, которое обладаетъ своимъ собственнымъ способомъ думать и чувствовать». И такъ какъ «коллективныя представленія обладаютъ совершенно иной природой, чѣмъ представленія индивидуальныя», то и «соціальная психологія имѣетъ свои собственные законы, отличающіеся отъ законовъ психологіи индивидуальной».
Возраженіе, что общество внѣ лицъ не существуетъ, что въ обществѣ нѣтъ ничего реальнаго, происходящаго внѣ индивида, Дюркгеймъ отводитъ ссылкой на наличность чувства у многихъ индивидуальностей, представляющихъ себѣ общество, какъ «противодѣйствующую имъ и ограничивающую ихъ силу», а также указаніемъ на то, что «коллективныя состоянія существуютъ въ группѣ... раньше, чѣмъ коснутся индивида, какъ такового, и сложатся въ немъ въ новую форму чисто внутренняго психическаго состоянія».
Итакъ, существуютъ факты, явленія, «характерныя черты которыхъ отсутствуютъ въ элементахъ, ихъ составляющихъ». Таковы, напр. религія — образъ мышленія, присущій только коллективному существу, право (совокупность нормъ и совокупность правоотношеній), наконецъ, такія соціальныя явленія, какъ архитектурный типъ, орудія транспорта и пр.
Это разсужденіе, какъ всѣ ему подобныя, безспорно, покоится на недоразумѣніи. Несомнѣнно, что въ преломленіи нашего индивидуальнаго сознанія общество представляется моментомъ, надѣленнымъ всѣми атрибутами реальности, своеобразнымъ качествомъ, имѣющимъ свою психологію, свои специфическія силы, выражающимъ свою волю, утверждающимъ свои нормы. Отсюда возможность научно построить — ученіе объ общественномъ организмѣ и даже усматривать въ обществѣ — самостоятельную нравственную субстанцію.
Однако, утверждать реальность за общественностью значило бы идти противъ самоочевидности.
Какъ не было и не могло быть общественности, сложившейся внѣ людей, такъ не было и не можетъ быть ни одного общественнаго момента, который своимъ существованіемъ и своимъ развитіемъ не былъ-бы обязанъ личной иниціативѣ и личному творчеству. Общественность всегда есть продуктъ личной воли, каковы-бы ни были мотивы, лежащіе въ основѣ ея. И прежде чѣмъ какой либо фактъ становится фактомъ общественности, онъ долженъ быть выявленъ чьимъ-либо личнымъ сознаніемъ и долженъ быть выраженъ въ чьемъ-либо личномъ трудѣ. Мы не знаемъ иного способа зарожденія общественнаго факта. Фактъ индивидуальный, фактъ личности или личностей, усвоенный общественностью, испытавшій на себѣ разнообразныя скрещивающіяся вліянія, пріобрѣтаетъ специфическій характеръ, становится чисто «соціальнымъ», и ему постепенно начинаютъ приписывать самостоятельную субстанцію, обращая его въ фетишъ — мистическую, непознаваемую «реальность».
Личность — всегда prius. Общественность — всегда ея производное. И реальна только личность — въ совокупности ея психофизическихъ особенностей, переживаній, устремленій, въ своеобразіи ихъ индивидуальнаго комплекса — единственномъ неповторимомъ. Общественность — реальна отраженнымъ свѣтомъ, свѣтомъ реальной личности.
Быть-можетъ, въ соціологической литературѣ, вопросъ этотъ никѣмъ не былъ такъ широко поставленъ и такъ всесторонне освѣщенъ, какъ П. Л. Лавровымъ, который въ цѣломъ рядѣ сочиненiй дѣлаетъ его центромъ своихъ изслѣдованій.
«...Личность лишь тогда — писалъ онъ въ своихъ «Историческихъ письмахъ» — подчиняетъ интересы общества своимъ собственнымъ интересамъ, когда смотритъ на общество и на себя, какъ на два начала, одинаково реальныя и соперничествующія въ своихъ интересахъ. Точно такъ же поглощеніе личности обществомъ можетъ имѣть мѣсто лишь при представленіи, что общество можетъ достигать своихъ цѣлей не въ личностяхъ, а въ чемъ-то иномъ. Но и то, и другое — призракъ. Общество внѣ личностей не заключаетъ ничего реальнаго... Общественныя цѣли могутъ быть достигнуты исключительно въ личностяхъ..
«..Индивидуализмъ.... становится осуществленіемъ общаго блага помощью личныхъ стремленій, но общее благо и не можетъ иначе осуществиться. Общественность становится реализированіемъ личныхъ цѣлей въ общественной жизни, но онѣ и не могутъ быть реализированы въ какой-либо другой средѣ». (Письмо шестое).[4]
И въ другихъ сочиненіяхъ онъ развиваетъ тѣ же мысли: «...Реальны въ исторіи лишь личности; лишь онѣ желаютъ, стремятся, обдумываютъ, дѣйствуютъ, совершаютъ исторію» (Введеніе въ исторію мысли), «...Общества имѣютъ... реальное существованіе лишь въ личностяхъ, ихъ составляющихъ...» (Задачи пониманія исторіи), «...Вообще реальны лишь особи...» (Тамъ-же).
Но признавъ личность — основнымъ творцомъ общественности и ея исторіи, понимая самую общественность, какъ опредѣленную связность реальныхъ «мыслящихъ, чувствующихъ, хотящихъ» личностей (Виндельбандъ), мы тѣмъ менѣе можемъ смотрѣть на общественность, какъ на объектъ одностороннихъ посягательствъ.
Только неограниченный индивидуализмъ, усматривающій въ ней самостоятельную реальность, можетъ направлять на нее свои отравленныя стрѣлы.
Реалистическій анархизмъ — именно потому, что общественность есть продуктъ творческой воли личности — долженъ «оправдать» ее.
Анархическое міровоззрѣніе полагаетъ, что въ общественности подлинное освобожденіе можетъ найти свою опору.
Неограниченный индивидуализмъ ведетъ къ «дурной свободѣ».
Изслѣдуемъ же аргументы, которыми защищается общественность.
1) Прежде всего общество, какъ извѣстный порядокъ взаимоотношеній живыхъ существъ — есть постоянный историческій фактъ. Человѣкъ на всѣхъ ступеняхъ его историческаго развитія есть существо общественное (zoon politikon). Уже изъ основного факта человѣческой природы — акта рожденія, вытекаетъ съ необходимостью моментъ сосуществованія старшихъ поколѣній съ младшими для выращиванія послѣднихъ и для разнообразныхъ формъ симбіоза въ цѣляхъ взаимопомощи.
Мы не знаемъ изолированныхъ людей, за исключеніемъ аскетовъ и робинзоновъ, но и тѣ были продуктомъ общественности. «Даже уединенный отшельникъ — хорошо сказалъ Виндельбандъ — въ своей духовной жизни опредѣленъ обществомъ, которое его создало, и вся жизнь Робинзона покоится на остаткахъ цивилизаціи, изъ которой онъ былъ выброшенъ въ свое одиночество. Абстрактный «естественный» человѣкъ не существуетъ; живетъ лишь историческій, общественный человѣкъ».
Патетическія строки посвящаетъ «соціальному» Бакунинъ: «Человѣкъ становится человѣкомъ и достигаетъ сознанія и осуществленія своей человѣчности, лишь въ обществѣ и единственно коллективнымъ дѣйствіемъ всего общества… Внѣ общества человѣкъ вѣчно остался бы дикимъ звѣремъ или святымъ, что, въ сущности, приблизительно одно и то-же. Изолированный человѣкь не можетъ имѣть сознанія своей свободы... Я могу себя считать и чувствовать свободнымъ лишь въ присутствіи и по отношенію къ другимъ людямъ.... Общество предшествуетъ и переживаетъ всякаго человѣческаго индивидуума, какъ сама природа; оно вѣчно, какъ природа... Полное возстаніе противъ общества для человѣка столь-же невозможно, какъ возстаніе противъ природы..» и, наконецъ: «Спрашивать, является-ли общество добромъ или зломъ, столь же невозможно, какъ спрашивать, является-ли добромъ или зломъ природа, всемірное, матеріальное, реальное, единое, всевышнее, абсолютное существо; это нѣчто большее, чѣмъ добро или зло; это безмѣрный, положительный и первичный фактъ, предшествующiй всякому сознанію, всякой идеѣ, всякой интеллектуальной и моральной оцѣнкѣ, это само основаніе, это мѣра, въ которой позже фатально развивается для насъ то, что мы называемъ добромъ или зломъ». («Богъ и Государство»).
2) На всѣхъ ступеняхъ развитія живыхъ существъ общественность является продуктомъ неумолчнаго инстинкта самосохраненія.
Въ наше время уже довольно поколеблено то ортодоксальное пониманіе дарвинизма, согласно которому весь жизненный процессъ сводится къ неограниченной и безпощадной борьбѣ за существованіе — борьбѣ, понимаемой, какъ взаимоуничтоженіе, истребленіе.
Кесслеръ, Тимирязевъ, Кропоткинъ, Эспинасъ, опираясь на самого Дарвина, предостерегавшаго своихъ послѣдователей отъ переоцѣнки и искаженія его термина «борьба за существованіе», указали, что самая «борьба за существованіе» не является постояннымъ фактомъ существованія какихъ-либо особей одного вида, а возникаетъ между ними лишь тогда, когда условія среды недостаточны, чтобы обезпечить имъ существованіе. Такимъ образомъ, возможность мира при наличности благопріятныхъ условій не исключается. Уже Дарвинъ указывалъ на роль общественности, а Эспинасъ прямо утверждаетъ, что нѣтъ почти живыхъ существъ, не вступающихъ хотя бы въ кратковременные союзы съ другими особями того же вида. Повсемѣстность соціальнаго существованія есть такимъ образомъ фактъ безспорный.
И это не все. Позже удалось подмѣтить и доказать, что индивидуальныя приспособленія особи обычно уступаютъ мѣсто соціальной приспособляемости, т.-е. на лицо выступаютъ опредѣленныя преимущества, хотя бы индивидуально и болѣе слабыхъ, но болѣе воспріимчивыхъ и соціально объединенныхъ особей. При этомъ наблюденіи установили замѣчательный фактъ постепеннаго вытѣсненія и совершеннаго исчезновенія индивидуума въ случаяхъ антагонизма его жизненныхъ интересовъ интересамъ вида. Мѣсто неуживчиваго индивидуума занимается другимъ болѣе приспособленнымъ. Именно на этомъ основаніи многіе біологи признаютъ, что выигрышъ для любой индивидуальности, въ смыслѣ обезпеченiя ея правъ на существованіе, въ обществѣ — огроменъ.
Такимъ образомъ, выживаютъ или побѣждаютъ не наиболѣе сильные индивидуально, аггрессивные, приспособленные къ борьбѣ организмы, a болѣе слабые, но болѣе тѣсные, болѣе соціальные. Торжество соціальной помощи, передъ чисто индивидуалистическимъ захватомъ, — прочный біологическій фактъ. Естественный отборъ — на сторонѣ соціальныхъ особей.
Въ извѣстныхъ «Очеркахъ о взаимопомощи» Кропоткинъ показалъ — какъ въ «безчисленныхъ сообществахъ животныхъ исчезаетъ борьба между отдѣльными индивидуальностями изъ-за средствъ существованія и борьба замѣняется коопераціей».
И Кропоткинъ утверждаетъ, что тѣ общества, которыя будутъ заключать наибольшее количество членовъ, наиболѣе симпатизирующихъ другъ другу, будутъ и наиболѣе процвѣтать и оставлять наибольшее количество потомковъ».
Такъ «взаимопомощь» становится такимъ же закономъ животной жизни, какъ и взаимная борьба. И человѣкъ не является исключеніемъ въ природѣ. Онъ также подчиненъ великому инстинкту самосохраненія, a слѣдовательно, стремится къ общественности и взаимопомощи, гарантирующимъ наилучшіе шансы выжить и оставить потомство. Разнообразныя формы коопераціи и разные типы профессіональнаго движенія, есть проявленіе въ соціальномъ планѣ закона взаимопомощи, видоизмѣняющаго біологическій принципъ «борьбы за существованіе».
И самая культура, слѣдовательно, есть лишь система средствъ, которыми общественность стремится утолить изначальный инстинктъ самосохраненія.
Для изолированнаго человѣка культура — невозможна, не только какъ представленіе, но и технически. Невозможны ея основныя предпосылки, какъ языкъ, групповая взаимопомощь и пр.
Языкъ, семья, отечество — сверхъиндивидуальны. «Эти три основныя образованія — пишетъ В. Соловьевъ — несомнѣнно, суть частныя проявленія человѣчества, а не индивидуальнаго человѣка, который, напротивъ, самъ отъ нихъ вполнѣ зависитъ, какъ отъ реальныхъ условій своего человѣческаго существованія». («Идея человѣчества у Огюста Конта»). «Языкъ — читаемъ мы у авторитетнаго русскаго лингвиста Потебни — развивается только въ обществѣ, и притомъ не только потому, что человѣкъ есть всегда часть цѣлаго, къ которому принадлежитъ, именно своего племени, народа, человѣчества, не только вслѣдствіе необходимости взаимнаго пониманія, какъ условія возможности общественныхъ предпріятій, но и потому, что человѣкъ понимаетъ самого себя, только испытавши на другихъ людяхъ понятность своихъ словъ». «Лишь въ общеніи человѣкъ научается слову» — говоритъ также С. Трубецкой — и «убѣждается во всеобщемъ логическомъ значеніи своего разума».
Этотъ инстинктъ самосохраненія связанъ, поэтому, уже съ первыхъ шаговъ человѣческаго существованія, съ инстинктомъ стадности, о которомъ говорятъ всѣ антропологи.
У англійскаго ученаго Макъ-Дауголла («Основныя проблемы соціальной психологіи») мы находимъ любопытныя разсужденія о стадномъ инстинктѣ, не требующемъ для своего проявленія въ простѣйшей формѣ «какихъ-либо высокихъ душевныхъ качествъ, никакой симпатіи или склонности къ взаимной помощи». Макъ-Дауголлъ считаетъ для антропологіи доказаннымъ существованіе стаднаго инстинкта у первобытнаго человѣчества. Но онъ указываетъ также на разнообразныя и весьма любопытныя проявленія его у цивилизованныхъ людей нашего времени. Онъ отмѣчаетъ «ужасающій и пагубный ростъ» современныхъ городовъ, даже тогда, когда это прямо не диктуется экономическими условіями; онъ отмѣчаетъ наклонность современной администраціи всячески поощрять этотъ стадный инстинктъ и приходитъ къ заключенію, что «при значительной свободѣ образованія аггрегацій современныхъ націй его непосредственное дѣйствіе способно дать уклоняющіеся отъ нормы и даже вредные результаты». Наконецъ, изъ стаднаго инстинкта, повидимому, вырабатывается и то чувство «активной симпатіи», принимающее весьма многочисленныя и разнородныя формы у современнаго человѣка, которое необходимо предполагаетъ общеніе.
Своеобразной иллюстраціей вліянія общественности на сохраненіе индивидуальности, обреченной на гибель въ условіяхъ болѣе или менѣе изолированнаго существованія, могло бы служить указаніе хотя бы на фактъ самоубійства въ современномъ обществѣ. Общеизвѣстно, что культурные народы современности съ замѣчательной правильностью, характеризующей всѣ соціальныя явленія, даютъ изъ году въ годъ опредѣленный процентъ самоубійствъ. Среди многочисленныхъ изслѣдованій, посвященныхъ изученію причинъ этой таинственной закономѣрности, слѣдуетъ особо выдѣлить замѣчательный трудъ французскаго соціолога Дюркгейма — «Самоубійство». Послѣ всесторонняго, тщательнаго анализа разнообразныхъ факторовъ, вызывающихъ фактъ самоубійства — религіозныхъ, экономическихъ, правовыхъ, политическихъ и пр., Дюркгеймъ приходитъ къ выводу, что «число самоубійствъ измѣняется обратно пропорціонально степени интеграціи религіознаго, семейнаго, политическаго общества», или, другими словами, «число самоубійствъ обратно пропорціонально степени интеграцiи тѣхъ соціальныхъ группъ, въ которыя входитъ индивидъ». Крайній индивидуализмъ, непризнающій иныхъ стимуловъ, кромѣ стремленія къ немедленной реализаціи своей воли — по мнѣнію Дюркгейма — не только благопріятствуетъ дѣятельности причинъ, вызывающихъ самоубійства, но можетъ считаться одной изъ непосредственныхъ причинъ такого рода. Наоборотъ, общественность, вырабатывающая чувства симпатіи и солидарности — даже и при современныхъ, въ высшей степени несовершенныхъ (экономически и морально) формахъ ея организаціи — является могучимъ средствомъ защиты противъ общераспространенной и, повидимому, пока неустранимой тенденціи къ самоубійству.[5]
Такимъ образомъ, общественность является неизбѣжнымъ продуктомъ неискоренимаго въ насъ инстинкта самосохраненія.
3) Общественность помимо утоленія нашего инстинкта самосохраненія — представляетъ еще одну спеціальную выгоду для развитія и совершенствованiя нашей индивидуальности — выгоду «большого числа».
Въ настоящее время является болѣе или менѣе общепризнаннымъ, что увеличеніе размѣровъ соціальнаго круга является чрезвычайно благопріятнымъ, какъ для развитія индивидуальныхъ способностей, такъ и для повышенія общаго уровня самого общежитія.
«Въ обширномъ соціальномъ кругу — пишетъ, напримѣръ, Зиммель — обыкновенно встрѣчается большее или меньшее число выдающихся натуръ, которыя дѣлаютъ борьбу для слабѣйшихъ непосильной, подавляютъ ихъ и тѣмъ самымъ повышаютъ общій уровень даннаго соціальнаго круга». («Соціальная дифференціація»).
Съ другой стороны, только большое общество можетъ обезпечить далеко идущую дифференціацію занятій и, непосредственно связанную съ ней, дифференціацію способностей. Только широкому соціальному кругу — подъ силу выростить и образовать многограннаго человѣка современности съ его всеобъемлющимъ кругозоромъ и яснымъ пониманіемъ задачъ міровой культуры.[6]
Высоко дифференцированной личности тѣсно въ небольшомъ кругу. Подъ опасеніемъ задохнуться и поставить предѣлъ дальнѣйшему развитію своихъ особенностей, индивидуальность выбрасывается за предѣлы, не дающей простора ея силамъ, общественной группы въ поискахъ за болѣе широкимъ дифференцированнымъ кругомъ. Мощная личность нуждается въ необозримомъ матеріалѣ для своего творческаго «дѣла». И ареной ея исканій можетъ быть цѣлый міръ.
Довольно примѣра современной крошечной Швейцаріи съ ея ограниченнымъ географическимъ масштабомъ, съ ея мѣщанскимъ бытомъ и узкимъ кругозоромъ, чтобы видѣть, какъ крупная индивидуальность, родившаяся въ ея предѣлахъ, движимая силой безошибочнаго инстинкта, оставляетъ отечество и бѣжитъ въ сосѣднія большія страны. А вослѣдъ ей несутся обывательскіе крики о черствости и неблагодарности къ «своимъ».
4) Какъ общественности обязаны мы сохраненіемъ и послѣдовательнымъ усовершенствованіемъ — въ смыслѣ приспособленія къ новымъ, болѣе сложнымъ задачамъ человѣческаго существованія — нашего физическаго типа, такъ мы ей обязаны и тѣмъ, что является самымъ дорогимъ для насъ въ нашей природѣ — одушевляющими насъ нравственными идеалами.
Мораль также, какъ нашъ языкъ, какъ наша логика — имѣетъ соціальную природу. Понятіе оцѣнки, понятіе идеала, какъ и все содержаніе нашей морали, выростаютъ на почвѣ борьбы личности за свою свободу, борьбы, предполагающей соціальную среду. Слѣдовательно, самые пламенные протесты анархистскаго міровоззрѣнія, противъ общественнаго деспотизма, тѣ ослѣпительныя переспективы, которыя рисуются намъ при мысли, что когда-нибудь падутъ послѣднiя общественныя оковы, все-же порождены принадлежностью нашей къ общественной средѣ. И не только отрицанія наши, но и самыя смѣлыя утвержденія наши неизбѣжно строются на матеріалѣ, который даетъ многовѣковая человѣческая культура. Общественность есть — гигантскій возбудитель нашихъ моральныхъ устремленій. Ей принадлежитъ заслуга пробудить въ насъ то, что единственно намъ дорого въ нашемъ человѣческомъ существованiи — творческую волю къ свободѣ!
5) Новымъ и, быть-можетъ, наиболѣе значительнымъ аргументомъ въ защиту общественности является указаніе на то, что каждая автономная личность, каждое самоопредѣляющееся «я» — въ его цѣломъ — есть прежде всего продуктъ общественности.
Кто можетъ изъ насъ сказать — какою частью нашего «я» мы обязаны себѣ и только себѣ и что дала намъ исторія и современная общественность? Какъ опредѣлить въ образованіи нашей личности роль нашихъ индивидуальныхъ усилій, какъ учесть вліяніе на нее рода, школы, друзей, творчества всего предшествовавшаго человѣчества.
Съ момента нашего явленія на свѣтъ и особенно съ момента, когда открывается наша сознательная жизнь, мы пріобщаемся къ огромному фонду вѣрованій, мыслей, традицій, практическихъ навыковъ, добытыхъ, накопленныхъ и отобранныхъ предшествующимъ историческимъ опытомъ. И такъ же, какъ культурный опытъ научилъ насъ наиболѣе экономичными и вѣрными средствами оберегать физическій нашъ организмъ, такъ, сознательно и безсознательно, усваиваемъ мы тысячи готовыхъ способовъ воздѣйствія на нашу психическую организацiю. И прежде чѣмъ отдѣльное «я» получитъ возможность свободнаго, сознательнаго отбора идей и чувствъ, близкихъ его психофизической организаціи, оно получитъ не мало готовыхъ цѣлей и средствъ къ ихъ достиженію изъ лабораторіи исторической общественности.
Нашему живому опыту предшествуетъ опытъ людей давно умершихъ и ихъ могилы продолжаютъ говорить намъ. Онѣ говорятъ о порывахъ и творчествѣ нашихъ предковъ, о наслѣдствѣ, оставленномъ намъ. Мы окружены ихъ дарами, не сознавая часто, какія гигантскія усилія воли были отданы на завоеваніе вещей — сейчасъ намъ столь необходимыхъ и всѣмъ доступныхъ. Истреблялись племена и народы, исчезали цѣлыя поколѣнія, зажигались костры, ставились памятники — и весь этотъ необъятный опытъ отданъ намъ. И незамѣтно для насъ онъ овладѣваетъ нами, онъ подсказываетъ намъ наши мысли, пробуждаетъ наши чувства, опредѣляетъ наши дѣйствія.
И уже одинъ фактъ принадлежности къ опредѣленной общественной группѣ, извѣстному народу или эпохѣ, независимо отъ нашего личнаго участія въ ихъ творческой работе, насъ совершенствуетъ. Подобно владѣльцу недвижимости въ городѣ, получающему «незаслуженный приростъ цѣнности», благодаря техническому преуспѣянію города или росту его населенія, принадлежность наша къ извѣстному обществу даритъ насъ грандіозными интеллектуально моральными завоеванiями, далеко превосходящими наши личныя силы.
Такъ, прежде чѣмъ проснулся въ насъ нашъ критическій духъ, мы оказываемся въ плѣну чужихъ представленій, чужихъ утвержденій, то несущихъ намъ радости, то трагически терзающихъ насъ.
И, если въ насъ не встанетъ творецъ, чужіе призраки овладѣютъ нами и мы будемъ нести ихъ ярмо, не сознавая себя рабами.
Но каждый изъ насъ можетъ и долженъ быть свободнымъ; каждое «я» можетъ быть творцомъ и должно имъ стать. Переработавъ въ горнилѣ своихъ чувствованій то, что даютъ ему другія «я», то, что предлагаетъ ему культурный опытъ, сообщивъ своему «дѣлу» нестираемый трепетъ своей индивидуальности, творецъ несетъ въ вѣчно растущій человѣческій фондъ свое, новое и такъ вліяетъ на образованіе всѣхъ будущихъ «я».
Развѣ этотъ непрерывный ростъ человѣческаго творчества, гдѣ — прошлое, настоящее и будущее связаны однимъ бушующимъ потокомъ, гдѣ каждое мгновеніе живетъ идеей вѣчности, гдѣ всему свободному и человѣческому суждено безсмертіе, гдѣ отдѣльный творецъ есть лишь капля въ вздымающемся океанѣ человѣческой воли — не родитъ — могучаго оптимистическаго чувства? Именно въ идеяхъ непрерывности и связности почерпали радостный свой пафосъ знаменитыя системы оптимизма — Лейбницъ, Гердеръ.
Гердеровская идея прогресса — есть идея осуществленія «человѣчности» (Humanität, Edle Menschlichkeit), постояннаго движенія къ общей связанности всѣхъ и сліянію природы и культуры въ одномъ цѣломъ.
Развѣ подобное ученіе, обращенное ко всѣмъ народамъ, какъ отдѣльнымъ самостоятельнымъ иидивидуальностямъ, призывъ связать творческіе порывы отдѣльныхъ поколѣній въ одушевленное общее стремленіе, не есть подлинно анархическое ученіе?[7]
6) Серьезнымъ аргументомъ въ защиту общественности является фактъ непрерывнаго — въ интересахъ личности — прогресса самой общественности.
Мы говорили уже выше о неизбѣжности рабской зависимости организатора отъ организуемыхъ, вождя отъ стада; мы знаемъ о трагической необходимости для каждой индивидуальности соглашать свою «правду» съ «правдами» другихъ и строить, такимъ образомъ, «среднюю», для личности мучительную и ложную «правду».
Мы знаемъ, какъ неудержимо еще стремленіе и у современной индивидуальности игнорировать «я», какъ таковое, попирать чужое «я». Современная индивидуальность еще не останавливается ни передъ гекатомбами изъ чужихъ устремленій, ни передъ существованіемъ рабовъ.
Но, какъ говорилъ еще Фейербахъ, исторія человѣческаго общества есть исторія постепеннаго расширенія свободы личности.
Процессъ ея раскрѣпощенія шелъ стихійной силой.
Прежде всего самое развитіе общественности несло освобожденіе своему антагонисту. Крупные политическіе перевороты, революціи были одновременно новыми завоеваніями личныхъ правъ. Деклараціи, кодексы оставались ихъ памятниками. Такъ ранѣе другихъ съ возвѣщеніемъ свободы совѣсти пали религіозныя путы.
Правда, ростъ культуры есть вмѣстѣ ростъ задачъ общественнаго союза. Полномочія его расширялись и онъ закрѣплялъ свои позиціи желѣзной организаціей. Такъ — разростаніе общественности, или, какъ ея выраженія, государственной дѣятельности, знаменуется постояннымъ ростомъ бюджета.
Но, съ одной стороны, простого наблюденія политической дѣйствительности довольно, чтобы видѣть, что ростъ общественной власти, за счетъ личныхъ правъ, нынѣ возможенъ и терпимъ лишь въ области экономической. Внѣшнія организаціи, загромождающія новый міръ и пугающія насъ призраками новыхъ формъ закрѣпощенія, создаются почти исключительно въ хозяйственныхъ цѣляхъ.
Съ другой стороны, именно въ усложненіи общественности, ростѣ ея функцій и органовъ — лежитъ залогь дальнѣйшаго освобожденія индивидуальности. Прежнее общество поглощало личность, ибо послѣдняя принадлежала ему всѣми сторонами своего существованія. Контроль общественности былъ неизбѣженъ, да и самое благополучіе личности зависѣло всецѣло отъ благосклонности коллектива.
Эта централизующая сила, порожденная живыми реальными потребностями, въ наши дни болѣе не можетъ быть оправдана и мѣсто ея занимаетъ противоположная тенденція — центробѣжная.
Современный коллективъ къ тому-же слишкомъ обширенъ, чтобы опекать каждую личность. Личность находится съ нимъ въ самыхъ разнообразныхъ соотношеніяхъ и уже эта многочисленность связей позволяетъ личности ускользнуть отъ опеки и бѣжать кабалы неизбѣжной въ однородности примитивнаго общества. Ростъ соціально-экономической дифференціаціи есть, такимъ образомъ, одновременно и ростъ автономіи личности. Прогрессъ общественности становится процессомъ непрерывнаго освобожденія личности и, слѣдовательно, ея собственнаго прогресса.
Наконецъ, многообразіе современной личности дѣлаетъ рѣшительно невозможнымъ удовлетвореніе ея запросовъ собственными средствами. И прогрессирующая общественность приходитъ ей на помощь. Она даетъ личности — транспортъ, дворцы и парки, школу, музей, библіотеку.
Прогрессъ общественности и личности заключается въ углубленіи ихъ взаимодѣйствія.
7) Всесторонняя оцѣнка общественности не можетъ не поставить передъ нами и проблемы великихъ людей.
Какъ возможенъ вообще великій человѣкъ: геній, вождь, герой, выдающаяся индивидуальность?
Не есть-ли геній въ его своеобразіи, оригинальности его цѣлей и средствъ, въ его видимой враждебности всему «соціальному» — уже самъ по себѣ наиболѣе яркое отрицаніе общественности? Что связываетъ съ ней великаго человѣка, если она ему готовитъ обычно трагическую судьбу — быть непонятымъ, часто гонимымъ. Чѣмъ обязанъ онъ общественности, если сущность его индивидуальности и его творческой воли — является живымъ опроверженіемъ его психическихъ критеріевъ и ея воспитательныхъ пріемовъ?
Кому обязаны ихъ геніемъ — Сократъ, Галилей, Э. По, Толстой, «своей» общественности, міровой культурѣ или только самимъ себѣ?
Что подтверждаютъ они? Или они — совершенное исключеніе въ рядахъ общественной закономѣрности, дарвиновская «счастливая случайность»?
Я полагаю — нѣтъ! Геній — великая человѣческая радость, великій брать, который творческимъ горѣніемъ своимъ пріобщаетъ насъ вѣчности и тѣмъ даетъ самое большее доказательство любви, какое вообще можетъ быть дано человѣкомъ! Черезъ творческій полетъ генія связываемъ мы себя со всѣмъ нашимъ прошлымъ и будущимъ, въ геніи постигаемъ наши возможности, геніемъ можемъ оправдать нашу общественность.
Именно геній и есть величайшее торжество общественности, ибо что иное геній, какъ не синтезъ всего, что смутно предчувствуется, бродитъ, и не находитъ себѣ формы въ самой средѣ, взростившей генія? Геній — живой, органическій, своеобразный синтезъ, способность въ многогранной воспріимчивости объять все, доступное другимъ лишь по частямъ. Отсюда тотъ восторгъ и преклоненіе, которымъ встрѣчаютъ дѣло генія всѣ, кто узнаетъ въ немъ свои тайныя предчувствія и въ совершенной формѣ познаетъ свои собственныя стремленія. Отсюда глумленіе и ненависть всѣхъ тѣхъ, кто инстинктивно чувствуетъ въ геніи способность встать надъ уровнемъ среды и, пренебрегая всѣмъ условнымъ и относительнымъ, выявить въ творчествѣ своемъ элементы вѣчнаго — говорить не только о настоящемъ, но приподнять завѣсы будущаго!
Такъ только можетъ понимать генія анархистское міровоззрѣніе.
Такъ опредѣлялъ генія анархистъ-философъ — Гюйо. «Геній — пишетъ онъ въ изслѣдованіи «Искусство съ точки зрѣнія соціологіи» — быть можетъ, болѣе другихъ представляетъ ineffabile individuum и въ то же время онъ носитъ въ себѣ какъ-бы живое общество... Способность отдѣляться отъ своей личности, раздвояться, обезличиваться, это высшее проявленіе общительности (Sociabilitè) ...составляетъ самую основу творческаго генія»...
Бакунинъ также понималъ генія, какъ продуктъ общественности: «..Умъ величайшаго генія на землѣ не есть-ли что иное, какъ продуктъ коллективнаго, умственнаго, и также и техническаго труда всѣхъ отжившихъ и нынѣ живущихъ поколѣній?... Человѣкъ, даже наиболѣе одаренный, получаетъ отъ природы только способности, но эти способности умираютъ, если онѣ не питаются могучими соками культуры, которая есть результатъ техническаго и интеллектуальнаго труда всего человѣчества».
Существуетъ убѣжденіе, что дѣло генія — за предѣлами общественности, что судьбы послѣдней должны быть ему безразличны, что творчество его — его личная необходимость, условіе его личнаго здоровья и благополучія. Геній не растрачиваетъ своего генія, своего «священнаго огня» на «жалкій родъ, глупцовъ», «жрецовъ минутнаго, поклонниковъ успѣха». По слову Гёте, геній долженъ строить выше пирамиду своего бытія и оставаться тамъ въ творческомъ уединеніи генія. Онъ долженъ слѣдовать призывамъ Пушкина:
Поэту мирному до васъ!
или:
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,
Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ,
Не требуя наградъ за подвигъ благородный.
Анархизмъ отвергнетъ этотъ мечтательный и себялюбивый индивидуализмъ.
Кто стремится къ свободѣ, кто въ творчествѣ утверждаетъ свой идеалъ, не можетъ любить только свое, но долженъ любить человѣческое. Какъ могутъ быть ему безразличны судьбы другого человѣка, освобожденіе его, его творчество? Какъ можно запереть генія въ самовлюбленный аристократическій цехъ съ внѣземными желаніями? Отнять генія у людей — значитъ, оскопить избранника.
Правду говорилъ Крагъ: уединиться — не значитъ уйти отъ жизни. Узникъ въ оковахъ развѣ не живетъ болѣе бурно, чѣмъ всадникъ на бѣшеномъ конѣ? Монахи изъ оконъ монастыря видятъ жизнь, красныя розы, бѣлыхъ женщинъ, сладострастіе. Такая борьба — непосильна. Они устаютъ и думаютъ лишь объ общей гибели — гибели земли, угасаніи луны и солнца.
Аскезъ генія есть легкомысленная боязнь жизни, а не мудрость. Мудрость должна знать и объять все. И ей учитъ только жизнь. Монастырь родитъ соблазны и истощающія крайности.
Въ чемъ божественный смыслъ призванія избранника, какъ не въ благовѣстіи свободы? Какъ можетъ чувствовать избранникъ себя свободнымъ, если есть рабы?
И мудрый среди мудрыхъ, человѣкъ во всемъ, Пушкинъ зналъ это.
Пусть написаны имъ вышецитированныя строки. Но надо помнить его «Деревню». Надо помнить его «Пророка»:
«Глаголомъ жги сердца людей!»
Это-ли призывъ къ самооскопленію? Есть значитъ — Богъ, совѣсть, нравственный долгъ, зовущій къ человѣку, освобожденію его? Есть силы, устремляющія уже свободнаго пророка къ его еще несвободнымъ братьямъ.
Но лучше взять итоги всей жизни поэта. Они — въ геніальной парафразѣ Горація:
«Что чувства добрыя я лирой пробуждал».
И замѣчательно, что въ первоначальномъ черновомъ наброскѣ поэтъ говорилъ иначе:
«Что звуки новые для пѣсенъ я обрѣлъ».
Но формула эта казалась поэту недостойной его, какъ человѣка и поэта, и вѣнецъ дѣятельности своей онъ нашелъ въ томъ, что не замкнулся въ одиночествѣ.
И такъ должно быть! Истинно свободный, послѣдовательно, до конца идущій человѣкъ не можетъ отказаться отъ человѣка. Чѣмъ выше призваніе его, тѣмъ менѣе можетъ оно заключать презрѣнія къ человѣку и его цѣлямъ. Презрѣть ихъ — значило бы презрѣть самую человѣческую природу, значило бы впасть въ самый тяжкій человѣческій грѣхъ.«Міръ и мы одно — поучаетъ мудрый Тагоръ. — Выявляя себя, мы служимъ міру, спасаемъ міръ, спасаемъ другіе «я».»
Нѣтъ формулы болѣе скомпрометированной, болѣе фальшивой, чѣмъ формула — «общее благо». Но для вождя она должна звучать иначе. Его свобода и радость — въ свободѣ и радости другихъ. Упраздненіе рабовъ — и обезпеченіе «общаго блага» — такая же необходимая предпосылка подлиннаго индивидуалистическаго міросозерцанія, какъ совершенный индивидуализмъ есть условіе свободной общественности.
Подведемъ итоги.
Взвѣсивъ доводы — за и противъ общественности, мы полагаемъ, что анархистское міровоззрѣніе, если оно желаетъ быть живой, реальной силой, а не отвлеченнымъ умствованіемъ аморфнаго индивидуализма — должно оправдать общественность.
Въ ней мы родимся, изъ нея черпаемъ питательные соки, ее же обращаемъ въ орудіе нашего освобожденія. И сама общественность, помимо нашей воли, внѣ нашего сознанія врывается въ нашъ личный жизненный потокъ. Это — неотразимый фактъ, и было бы недостойной анархиста трусостью — забыться въ пустомъ, но самодовольномъ отрицаніи. Было бы напраснымъ отрицать живущее во всѣхъ насъ «чувство общественности». Чаадаевъ былъ правъ, восклицая въ «Философическихъ письмахъ»: «Наряду съ чувствомъ нашей личной индивидуальности мы носимъ въ сердцѣ своемъ ощущеніе нашей связи съ отечествомъ, семьей и идейной средой, членами которыхъ мы являемся; часто даже это послѣднее чувство живѣе перваго».
Это — справедливо. Чувство общественности — намъ имманентно. Оно родится и растетъ съ нами.
Но общественность есть лишь связность подлинныхъ реальностей — своеобразныхъ и неповторимыхъ. Поэтому общественность не можетъ быть абсолютной цѣлью личности. Она не можетъ быть безусловнымъ критеріемъ его поступковъ. Она — есть средство въ осуществленіи личностью ея творческихъ цѣлей.
ГЛАВА III.
Анархизмъ и раціонализмъ.
Быть-можетъ, еще большія опасности, чѣмъ крайности абсолютнаго индивидуализма, для анархистской мысли представляетъ тотъ раціоналистическій плѣнъ, въ которомъ она находится доселѣ.
Что такое раціонализмъ?
Культъ отвлеченнаго разума, вѣра въ его верховное значеніе въ рѣшеніи всѣхъ — равно теоретическихъ и практическихъ задачъ.
Раціонализмъ — міровоззрѣніе, которое въ единомъ мірѣ опыта устанавливаетъ и противополагаетъ два самостоятельныхъ и несоизмѣримыхъ міра — міръ матеріальный, вещный и міръ мысли, духовный. Только послѣдній міръ намъ данъ непосредственно, второй — міръ явленiй (феноменализмъ), міровой механизмъ познается разумомъ и въ его дѣятельности получаетъ объясненіе, раціональное обоснованіе.
Однако, посягательства разума идутъ еще далѣе.
«Основнымъ принципомъ всякаго раціонализма — пишетъ проф. Лопатинъ, — является утвержденіе полнаго соотвѣтствія между бытіемъ и мышленіемъ, ихъ внутренняго тождества; иначе никакъ нельзя было-бы оправдать притязанiй нашего разума познать истину вещей путемъ чисто умозрительнымъ, отвлекаясь отъ всякой данной дѣйствительности; а въ этихъ притязаніяхъ самая сущность раціонализма. Но такое предположеніе всецѣлаго соотвѣтствія бытія и мысли въ своемъ послѣдовательномъ развитіи неизбѣжно приводитъ къ признанію логическаго понятія о вещахъ за всю ихъ сущность и за единственную основу всей ихъ дѣйствительности. Черезъ это рацiонализмъ переходитъ въ «панлогизмъ» — ученіе о такомъ абсолютномъ понятіи, «въ которомъ никто и ни о чемъ не мыслитъ», и которое «предшествуетъ и всему познающему и всему познаваемому».
Это — раціонализмъ въ его крайнемъ философскомъ выраженіи.
Между тѣмъ, раціонализмъ есть многообразное явленіе, проникающее всѣ сферы человѣческаго творчества. И потому онъ можетъ быть изслѣдуемъ въ различныхъ планахъ: какъ міросозерцаніе, какъ культурно-историческое явленіе, какъ политическая система.
Въ дальнѣйшемъ изложеніи мы будемъ имѣть дѣло съ раціонализмомъ въ смыслѣ міросозерцанія, въ смыслѣ слѣпой энтузіастической вѣры въ конечное, всепобѣждающее, творческое значеніе разума.
Раціонализмъ характеризуется прежде всего безусловнымъ отрицаніемъ опыта, традицій, историческихъ указаній. Онъ — глубокій скептикъ. Въ его глазахъ религіозныя системы, мифы, разнообразныя формы коллективнаго, народнаго творчества не имѣютъ никакой цѣны. Все это — варварскій хламъ, рабскій страхъ или разгулъ инстинктовъ, существующій лишь до тѣхъ поръ, пока къ нимъ не подошелъ съ формальной логикой раціоналистическій мудрецъ.
Но этотъ безпредѣльный скептицизмъ, это безпощадное отрицаніе всего порожденнаго жизнью и опытомъ живетъ въ раціонализмѣ рядомъ съ страстной вѣрой въ разумъ, способный собственными силами все разрушить и все построить.
Скептическій, разсудочный, анти-историческій раціонализмъ «искусственному» противопоставляетъ — «вѣчное», «естественное», согласное съ «законами природы», открываемое и построяемое человѣческимъ разумомъ. Онъ говоритъ объ естественной религіи, естественномъ правѣ, естественной экономикѣ. Онъ создаетъ, наконецъ, «естественнаго» человѣка — человѣка-фикцію, безъ плоти и крови, средняго абстрактнаго человѣка, лишеннаго какихъ бы то ни было историческихъ или національныхъ покрововъ.
Въ этомъ своеобразномъ индивидуализмѣ, усвоенномъ всѣми раціоналистическими системами, не остается мѣста для живой, конкретной, оригинальной личности.
Раціонализмъ знакомъ самымъ раннимъ человѣческимъ культурамъ. Государственная наука греческихъ софистовъ впервые говоритъ объ естественномъ среднемъ человѣкѣ. Платоновское государство мудрыхъ — гимнъ человѣческому разуму. Аристотель учитъ о «среднемъ» гражданинѣ и «средней» добродѣтели.
Римская культура оставляетъ одинъ изъ величайшихъ памятниковъ раціоналистической мысли — систему гражданскаго права, въ абстрактныя и универсальныя формулы котораго улеглась кипучая правовая жизнь цѣлаго народа. Раціоналистами оставались римляне и въ религіи. По выраженію одного историка, римская религія — «сухая, безличная абстракція различныхъ актовъ человѣческой жизни... Культъ — скучная юридическая сдѣлка, обставленная многочисленными и трудными формальностями»...
Раннее средневѣковье съ общиннымъ землевладѣніемъ, феодальной эксплоатаціей, отсутствіемъ крупныхъ промышленныхъ центровъ, не могло быть благопріятнымъ для успѣховъ раціоналистическаго мышленія. Средоточіемъ его становится городъ уже послѣ трехвѣковой побѣдоносной освободительной борьбы противъ феодаловъ. Первымъ «раціоналистомъ» былъ городской купецъ-авантюристъ, бандитъ, но піонеръ европейской цивилизаціи. Смѣлая, энергичная, свободолюбивая натура, первый путешественникъ, первый изслѣдователь чужихъ странъ, объѣзжаетъ онъ въ погонѣ за прибылью отдаленнѣйшіе края, ареной своихъ хищническихъ подвиговъ дѣлаетъ весь доступный ему міръ, изучаетъ чужіе языки и нравы, полагаетъ основаніе международному обороту.
Страница въ исторіи экономическаго развитія человѣчества, которую называютъ наиболѣе трагической — эпоха первоначальнаго накопленія капитала послужила исходной точкой для пышнаго расцвѣта раціонализма.
Капиталъ, увѣнчавшій походы купцовъ-авантюристовъ, дезорганизуетъ средневѣковый ремесленный строй съ его опекой, освобождаетъ средневѣковаго человѣка отъ путъ корпоративныхъ связей, подготовляетъ разложеніе крѣпостного права. Эти глубокіе революціонные процессы, открывшіе дорогу свободной иниціативѣ личности, не могли не поднять и самаго значенія ея. Идеологическія конструкціи, слагающіяся на этой почвѣ — религіозныя, философскія, политическія — пріобрѣтаютъ раціоналистическій характеръ.
Подъ знакомъ раціонализма идутъ величайшія освободительныя движенія эпохи — реформація и ренессансъ.
Ренессансъ родитъ гуманизмъ — тріумфъ личнаго начала. Гуманизмъ рветъ всѣ общественныя цѣпи, разрушаетъ всѣ связи. Изъ подъ обломковъ средневѣковой коммуны — подымается человѣкъ. Въ индивидуалистическомъ экстазѣ ренессансъ воздвигаетъ алтари человѣку. Красота человѣка, права человѣка, безграничныя возможности человѣка — вотъ темы ренессанса, по выраженію его живописнаго историка Моннье. Подобно античному міру, ренессансъ знаетъ только одну аристократію — аристократію ума, таланта. «Боги улетаютъ — восклицаетъ Моннье — остается человѣкъ!»
Итальянскій городъ былъ только предвѣстникомъ мощнаго раціоналистическаго вихря. Съ стихійной быстротой перебрасывается онъ во всѣ европейскіе центры, сбрасывавшіе феодальныя путы, и копившіе въ стѣнахъ своихъ сытое и просвѣщенное бюргерство.
Вихрь, поднявшійся изъ ренессанса, крѣпнетъ съ успѣхами европейской техники. Тріумфы торговаго капитализма, обезземеленье крестьянъ и образованіе пролетаріата, ростъ мануфактуры, предчувствіе того разгула свободной конкурренціи, который долженъ былъ окрасить первые шаги капитализма — были событіями, укрѣплявшими въ мыслившемъ и дѣйствовавшемъ человѣкѣ вѣру въ самоцѣнность человѣческой личности, силы ея разума, безграничность ея возможностей.
Философская, историко-политическая, правовая, экономическая мысль — всѣ — подъ гипнозомъ всесильнаго разума.
Въ области философской мысли вслѣдъ за ученіемъ Декарта о врожденныхъ идеяхъ, Спиноза — одинъ изъ философскихъ основоположниковъ раціонализма — создаетъ ученіе о познаніи изъ чистаго разума, какъ высшемъ родѣ познанія, обладающемъ способностью постигать сверхчувственное, постигать то, что недоступно непосредственному опыту.
Нашимъ общимъ понятіямъ — училъ Спиноза въ своей «Этикѣ» — соотвѣтствуютъ вещи. И раскрытіе причинной связи между вещами должно идти черезъ познаніе, черезъ изслѣдованіе отношеній между понятіями.
Куно-Фишеръ такъ характеризуетъ систему Спинозы: «Философія требуетъ уясненія cвязи всѣхъ вещей. Это уясненіе возможно лишь посредствомъ яснаго мышленія, посредствомъ чистаго разума, поэтому оно раціонально... Лишь въ законченной системѣ чистаго разума, лишь въ абсолютномъ раціонализмѣ философія можетъ разрѣшить задачу, которую она, какъ таковая, должна ставить себѣ.. Раціональное познаніе требуетъ познаваемости всѣхъ вещей, всеобъемлющей и однородной связи всего познаваемаго... Оно не терпитъ нечего непознаваемаго въ природѣ вещей, ничего неяснаго въ понятіяхъ о вещахъ, никакого пробела въ связи понятій... Ученіе Спинозы есть абсолютный раціонализмъ и хочетъ быть таковымъ»...
Разумъ у Спинозы — верховный властитель, какъ въ области чистаго познанія, такъ и практической жизни. Чувственный аффектъ — учитъ онъ въ главѣ «Этики», посвященной «Свободѣ человѣка» — перестаетъ быть таковымъ, какъ только мы образуемъ о немъ ясную и отчетливую идею.
То же верховенство разума возглашается политической и правовой мыслью.
Памятниками ея остались — естественное право и договорная теорія государства.
Въ противоположность дѣйствующему положительному праву, естественное право — внѣ исторіи. Для него нѣтъ — гипноза настоящаго. Его задача — построить тѣ идеальныя цѣли, которымъ должно отвѣчать всякое право. Источники, въ которыхъ почерпаетъ оно свой матеріалъ — всечеловѣчны: это — самъ внѣисторическій человѣкъ, его разумная природа, его неограниченное влеченіе къ свободѣ. Естественное право не хочетъ мутить эти чистые родники историческими наслоеніями; именно потому оно и естественное, а не искусственное, не историческое[8].
Гоббсъ и Локкъ, Гуго Гроцій и Спиноза, Пуффендорфъ и Кантъ, Руссо и Монтескье и за ними цѣлая плеяда политическихъ мыслителей построила идеальное «раціоналистическое государство» (Сіvitas institutiva). Въ основѣ государства лежалъ договоръ. «Послѣдовательное проведенiе идеи соціальнаго договора — пишетъ нѣмецкій государственникъ Еллинекъ — необходимо приводить къ идеѣ сувереннаго индивида — источника всякой организаціи и власти». Отсюда неизбѣжно вытекало положеніе, что, если творцомъ всего существующаго была суверенная внѣисторическая личность, она была и верховнымъ судьей во всѣхъ вопросахъ, касающихся общественной организаціи. Если данная власть есть только результатъ свободнаго договора, то расторженіе договора есть паденіе власти, ибо ни одинъ свободный человѣкъ не могъ бы согласно договорной теоріи — добровольно отказаться отъ правъ на свободу самоопредѣленія.
Подъ знаменемъ этихъ идей выступала въ восемнадцатомъ вѣкѣ въ Англіи, Америкѣ, Франціи и вся революціонная публицистика. Спекуляціи отвлеченной мысли она претворила въ дѣйственные лозунги. Продолжая гуманистическое движеніе ренессанса, она утверждала, что нѣтъ и не можетъ быть преградъ просвѣщенному человѣческому разуму. Свободный отъ цензурнаго гнета онъ создаетъ идеальныя условія человѣческаго общежитія. Историческій опытъ былъ взятъ подъ подозрѣніе, творчество массъ подверглось осмѣянію. По удачному опредѣленію одного историка — вся исторія человѣческой культуры подъ перомъ Вольтера могла бы принять слѣдующій видъ: до Вольтера и его раціоналистическихъ товарищей — мракъ, суевѣріе, невѣжество; съ ихъ появленіемъ — «разумъ необъяснимо и сразу вступаетъ въ свои права».
Великолѣпную характеристику мыслителя этой эпохи далъ намъ Доуденъ въ портретѣ одного изъ родоначальниковъ анархистскаго міровоззрѣнія — Годвина: «Ни одинъ писатель не выражаетъ болѣе ясно, чѣмъ Годвинъ, индивидуализма, характеризующаго начало революціоннаго движенія въ Европѣ; ни одинъ писатель не даетъ болѣе поразительнаго доказательства абсолютнаго отсутствія историческаго чувства. Человѣкъ у него не представляется созданіемъ прошлаго... Насталъ какъ-бы первый день творенія. Вся вселенная должна быть переустроена на принципахъ разума, безъ вниманія къ накопившимся наслѣдственнымъ тенденціямъ. Есть что-то возвышенное, трогательное и комическое въ томъ героическомъ безуміи, съ которымъ философъ въ своемъ рабочемъ кабинетѣ образуетъ цѣлый человѣческій міръ»...
На раціоналистическомъ фундаментѣ воздвигнутъ и одинъ изъ величайшихъ памятниковъ человѣческой мысли, бывшій политическимъ принципомъ революціи XVIII вѣка, ея соціально-политической программой: декларація правъ человѣка и гражданина.
Конечно, сама декларація была результатомъ чрезвычайно сложныхъ и противорѣчивыхъ историческихъ вліяній. Новѣйшія изслѣдованія показали, что мысль установить законодательнымъ путемъ рядъ прирожденныхъ, священныхъ, неотчуждаемыхъ правъ личности — не политическаго, a религіознаго происхожденія и восходитъ не ко времени французскихъ или американскихъ освободительныхъ движеній, а къ гораздо болѣе раннему времени — эпохѣ реформаціи. Французская декларація впитала въ себя множество историческихъ струй. Отсюда ея противорѣчія и пестрота, за которыя ее обвиняютъ изслѣдователи, критически настроенные къ принципамъ 89 года. Но декларація замѣчательна тѣмъ, что освободительные принципы, созданные задолго до нея, были претворены въ ней силой философскаго генія и темперамента ея творцовъ, въ общечеловѣческую проповѣдь, обращеніе къ міру. И не только декларація и другіе политическіе акты революціи были продуктомъ естественно-правовыхъ воззрѣній, но можно было-бы сказать, что вся революція въ ея послѣдовательныхъ превращеніяхъ была грандіозной попыткой реализаціи раціоналистическихъ мечтаній.
Но если для прославленія суверенной внѣисторической личности строились многочисленные памятники, реальная, конкретная личность, наоборотъ, осталась въ жизни безъ защиты. Революціонная государственность заливала ее потоками декретовъ, ее гильотинировалъ якобинизмъ, позже гибла она на всѣхъ европейских поляхъ, защищая идеи «отвлеченнаго космополитизма» противъ «воинствующаго націонализма» вспыхнувшей реакціи.
Подъ тѣмъ же раціоналистическимъ гипнозомъ жила и экономическая мысль.
Съ именемъ физіократовъ или «экономистовъ XVIII вѣка» связано представленіе не только объ опредѣленной экономической доктринѣ, но и о новомъ міросозерцаніи, пришедшемъ на смѣну идеямъ стараго порядка.
Вѣрѣ въ спасительную силу положительнаго законодательства и администраціи, характеризовавшей ученіе меркантилистовъ, физіократы противопоставили глубокое убѣжденіе въ торжествѣ извѣчныхъ законовъ природы надъ временными и случайными твореніями человѣка. Соціологическія построенія Кенэ, основоположника физіократической доктрины, базируютъ на идеяхъ естественнаго права. Въ кажущемся хаосѣ общественныхъ явленій онъ склоненъ видѣть строгую закономѣрность — «естественный порядокъ». Законы этого порядка созданы Богомъ. Они — абсолютны, вѣчны, неподвижны. Благоустроенное общежитіе должно быть построено на ихъ познаніи. Такой порядокъ, создаваемый человѣчествомъ, въ соотвѣтствіи съ извѣчными принципами, Кенэ и его школа называютъ «положительнымъ порядкомъ» (Ordre positif). Этотъ порядокъ, въ отличіе отъ перваго, носитъ временный относительный характеръ и подлежитъ дальнѣйшимъ усовершенствованіямъ.
Но если воззрѣніямъ Кенэ и его послѣдователей суждено было остаться, по преимуществу, отвлеченнымъ умозрѣніемъ, безъ особаго вліянія на судьбы государственной практики, классическая школа политической экономіи, въ лице Мальтуса, Смита, Рикардо и ихъ эпигоновъ въ Англіи и на континентѣ, сумѣла изъ отвлеченныхъ посылокъ естественнаго права сдѣлать всѣ практическіе выводы.
На страницахъ экономической науки появился отвлеченный «экономическій человѣкъ», руководимый только своимъ «среднимъ» хозяйственнымъ эгоизмомъ. Иные стимулы его жизни просто игнорировались; полная его свобода была объявлена условіемъ всеобщей гармоніи, а свободная, ничѣмъ неограниченная борьба между хозяйственными единицами возглашена естественнымъ, незыблемымъ закономъ, покушенія на который безсмысленны и безплодны. Рабочій и капиталистъ, товаръ и капиталъ, деньги и заработная плата и всѣ иныя экономическія категоріи пріобрѣли въ конструкціяхъ ихъ абсолютный самодовлѣющій смыслъ. Въ погонѣ за логической стройностью своихъ теорій, буржуазные экономисты, а за ними и ихъ методологическіе наслѣдники насильственно уродовали жизнь. Они населили ее надорганическими существами — абстрактными «эгоистами», абстрактными капиталистами, абстрактными рабочими. Все въ фантастастическихъ системахъ ихъ, дѣйствовало съ неукоснительной правильностью часового механизма. Безпримѣрный оптимизмъ окрасилъ ихъ построенія. Въ разгулѣ хищническихъ инстинктовъ, казалось имъ, они нашли ключъ къ человѣческой гармоніи. Все ими было предусмотрѣно; геній, знаніе, остроуміе соединились, чтобы выстроить по всѣмъ правиламъ раціоналистической науки, экономическіе карточные домики, которые жизнь развѣяла потомъ однимъ дуновеніемъ.
ХVІІІ-й вѣкъ былъ эпохой высшей напряженности рацiоналистической мысли. Никогда позже не имѣла она такого разнообразнаго и блестящаго представительства, никогда не окрашивала собой цѣлыя общественныя движенія.
Но, разумѣется, раціоналистическое мышленіе не умираетъ съ XVIIІ-ымъ вѣкомъ.
Въ ХІХ-омъ раціонализмъ волнуетъ философскую мысль, воплощаясь въ «панлогизмѣ» Гегеля, проникнутомъ вѣрой въ могущество разума, полагающемъ разумъ самодовлѣющей причиной caмаго бытія. Въ этомъ ученіи не было мѣста индивидуальному «я», живой, конкретной, своеобразной личности.
Въ области политической и правовой мысли успѣхи рацiонализма сказались въ возрожденіи «естественнаго права» въ разнообразныхъ его формахъ, но уже съ рядомъ принципіальныхъ поправокъ къ конструкціямъ стараго «естественнаго права».
Наконецъ, раціоналистическія схемы во многомъ подчинили себѣ и крупнѣйшее изъ идеологическихъ движеній ХІХ-аго вѣка — соціалистическое.
Раціонализмъ обнаружилъ поразительную живучесть. Не было ни одной исторической эпохи, которая не знала бы его.
Но, какъ ни былъ чистъ энтузіазмъ его жрецовъ, какъ ни были прекрасны тѣ узоры, которые ткала человѣческая мысль въ поискахъ совершенныхъ условій земного существованія — жизнь реальная, пестрая, неупорядоченная мыслителями жизнь, была сильнѣе самой тонкой и изощренной человѣческой логики.
Подъ ударами ея гибли системы, теоріи, законы. И гибель ихъ не могла не погружать въ пучины пессимизма ихъ недавнихъ поклонниковъ. Она будила протесты противъ идолопоклонства передъ разумомъ.
Уже въ ХVIII-мъ вѣкѣ «эмпиристы» и во главѣ ихъ Юмъ предъявили раціоналистамъ рядъ серьезныхъ возраженій. Они отвергли ихъ ученіе — о возможности раскрытія причинной связи вещей черезъ изслѣдованіе отношеній между понятіями. Они выразили недовѣріе «разуму» и на первое мѣсто поставили «опытъ». Раціоналисты считали математическія науки абсолютно достовѣрными; эмпиристы, прилагая къ нимъ свой опытный критерій, отвергли ихъ соотвѣтствіе дѣйствительности, такъ какъ математическія науки не есть науки о реальномъ бытіи. Эмпиристы перестали видѣть въ «разумѣ» единый источникъ познанія. Истиннымъ познаніемъ они назвали то, которое пріобрѣтается черезъ органы чувствъ.
Юмъ былъ не только философомъ, но и политическимъ мыслителемъ, и его философскія убѣжденія легли въ основу его историко-политическихъ конструкцій.
Юмъ обрушивается на «естественное право», которое въ методологическомъ смыслѣ было своеобразной попыткой построенія соціологіи на основаніи математическихъ принциповъ. Для Юма «естественное право» — не достовѣрно. Въ его глазахъ религія, мораль, право — не абсолютныя категоріи, а продуктъ исторіи, многовѣковаго жизненнаго опыта и именно это — и только это — является ихъ «оправданіемъ». Политическіе тріумфы раціонализма вызывали у Юма страстный отпоръ; скептицизмъ его въ области политики принялъ глубоко консервативную окраску.
Наиболѣе яркое выраженіе этотъ консерватизмъ принялъ въ писаніяхъ блестящаго публициста Борка, давшаго полную остроумія и силы критику французской революціи. Здѣсь уже — отказъ отъ «разума», гимны опыту, рѣшительное предпочтеніе неписанной конституціи англійскаго народа абстракціямъ французскихъ конституцій. Это убѣжденіе стало въ Англіи надолго общепринятымъ. Ранній Бентамизмъ былъ имъ проникнутъ.
Начало XIX вѣка было временемъ единодушнаго и общаго протеста противъ «духа XVIII вѣка», «принциповъ 1789 года», противъ всего наслѣдства просвѣтительной эпохи. Процессъ реакціи противъ раціонализма отличался чрезвычайной сложностью. Разнородныя, противорѣчивыя, даже враждебныя силы объединились, чтобы громить позиціи раціонализма.
Временными союзниками оказались: крайніе реакціонеры — фанатики, изувѣры католицизма, позитивисты, отвергшіе метафизическую политику, романтики, «историки» и пр.
Наиболѣе рѣшительныя формы походъ этотъ принялъ въ той странѣ, гдѣ наиболѣе полно цвѣла и раціоналистическая мысль — во Франціи.
Философская реакція, во главѣ съ Ройе-Колларомъ, безбоязненно смѣшавъ философію съ политикой, отвергла претензіи во всемъ сомнѣвающагося «разума» и стала искать твердынь, которыхъ бы онъ не могъ коснуться.
Болѣе глубокой была реакція теологическая. Ея вождями были — Бональдъ и особенно Жозефъ де-Местръ, канонизированные современнымъ нео-монархическимъ движеніемъ во Франціи.
Ученіе де-Местра — пламенный, фанатическій протестъ противъ свободы человѣка.
Въ міре господствуетъ порядокъ, установленный провидѣніемъ. Человѣкъ — самъ по себѣ — ничтоженъ, сосудъ страстей и похоти. Гордыня его должна быть сломлена, сомнѣніямъ его нѣтъ мѣста. Человѣкъ можетъ видоизмѣнять существующее, но онъ безсиленъ создать новое. Его попытки построить «конституцію» изъ разума — безсмысленны. Конституція не можетъ быть придумана, тѣмъ болѣе для несуществующаго человѣка, человѣка «вообще». Конституція, — общественный порядокъ диктуется волей провидѣнія; имъ управляетъ Божественный промыселъ. И въ основѣ всѣхъ человѣческихъ учрежденій должно лежать религіозное начало. Идеальное государство — теократія, въ которой неограниченное распоряженіе судьбами всего человѣчества ввѣряется папѣ. Папизмъ поглощаетъ свѣтское начало; свѣтское государство растворяется въ церкви. Поскольку эта власть установлена богомъ, она ограничена; въ ея отношеніяхъ къ людямъ она — безапеляціонна. И хотя папская власть стремится къ тому, чтобы быть мягкой и кроткой, но человѣкъ долженъ чувствовать надъ собой авторитетъ непогрѣшимой и нетерпимой власти. Де-Местръ одобряетъ инквизицію; для вразумленія человѣка онъ зоветъ палача.
Это теократическое изувѣрство, хотя и антиподъ раціонализму, но близко ему въ одномъ — методологическомъ смыслѣ. Подобно раціонализму, обратившему все прошлое и всю исторію въ ничто, Де-Местръ въ результатѣ своихъ абсолютистскихъ построеній приходитъ также къ мертвящимъ абстракціямъ. Въ чемъ ихъ опора? Въ способности разума — построить совершенный, теократическій порядокъ.
Яркимъ и могучимъ врагомъ раціонализма былъ романтизмъ.
И въ романтизмѣ звучитъ, какъ будто, аристократическая нота, но этотъ аристократизмъ — аристократизмъ не рожденія, не привилегій, но сильной личности, дошедшей до глубокаго, живого самосознанія, вдругъ поднявшейся на небывалую дотолѣ высоту.
Романтизмъ есть прежде всего реакція противъ «классицизма».
Превосходную характеристику обоихъ теченій въ ихъ взаимоотношеніи находимъ мы въ этюдѣ Жуссена — «Бергсонизмъ и романтизмъ».
«Классическій духъ — пишетъ Жуссенъ — превозноситъ абстрактное знаніе въ ущербъ интуитивнаго знанія. Онъ стремится всецѣло подчинить волю и чувства разуму. Въ литературѣ и философіи онъ всецѣло пребываетъ въ области представленія, движется въ мірѣ понятій. Романтическій духъ, напротивъ защищаетъ, первенство интуиціи надъ понятіемъ, отстаиваетъ права инстинкта и чувства, подчиняетъ познаніе волѣ».
Классическая эстетика утверждаетъ, что произведенія должны строиться по заранѣе созданнымъ законамъ и теоріямъ. Романтическая эстетика объявляетъ творчество свободнымъ. Теорія не порождаетъ вдохновенія и правила выводятся изъ вещи, а не обратно. Чрезмѣрное слѣдованіе правиламъ можетъ убить индивидуальность, геній, т.-е. единственно драгоцѣнное въ творчествѣ.
То-же — въ философіи и политикѣ.
Протестуя противъ разсудочности классицизма, его апріоризма, его склонности къ схоластикѣ, романтизмъ отрицаетъ абсолютныя истины, отрицаетъ общезначимость объективныхъ законовъ, оставляетъ широкое мѣсто произволу, фантазіи.
Романтизмъ это — разгулъ субъективизма; это — подлинный культъ личности, человѣческаго «я». Онъ освобождаетъ индивидуальность отъ ковъ автоматизма, отъ того деспотическаго подчиненія готовымъ общимъ правиламъ, которыя несъ съ собой раціонализмъ.
Романтизмъ побѣждалъ своимъ чутьемъ жизни, презрѣніемъ къ кодексамъ, новымъ пониманіемъ человѣка, освобожденіемъ и оправданіемъ, которыя онъ несъ его прошлому и настоящему, его страстямъ и паденіямъ, всему, на чемъ лежала творческая печать человѣка. И въ планѣ соціальной мысли онъ породилъ чудесную плеяду утопистовъ, которые, волнуемые любовью къ человѣку, впервые разверзли предъ глазами современниковъ общественныя нѣдра и первые предложили несовершенные, непрактичные, но полные одушевленія проекты освобожденія угнетеннаго человѣка[9].
Особенно пышный цвѣтъ далъ романтизмъ въ Германіи. Философы Шеллингъ и Шлейермахеръ, публицисты, критики, братья Шлегели, поэтъ Новалисъ — вотъ наиболѣе значительныя имена романтической эпохи. И въ этомъ бѣгломъ перечнѣ именъ намъ слѣдуетъ особенно отмѣтить Шлейермахеровскія «Рѣчи о религіи». Здѣсь впервые, предвосхищая основные мотивы современнаго философствованія Бергсона, Шлейермахеръ говорить объ особомъ, отличномъ отъ научнаго, способѣ познанія, объ «эмоціональномъ знаніи», не отрывающемъ познающаго отъ реальности, а сливающемъ въ самомъ переживаніи и познающаго и познаваемое. Другая, не меньшая заслуга Шлейермахера заключается въ его замѣчательномъ ученіи о личности, — живой, конкретной, своеобразной.
Если оставить въ сторонѣ религіозный пафосъ, окрашивавшій всѣ построенія Шлейермахера, нельзя его антираціонализмъ не назвать самымъ яркимъ предшественникомъ Штирнеріанства. А еще позже боевой кличъ послѣдняго — культъ сильной, непреоборимой личности, личности — мѣрила всѣхъ цѣнностей, съ несравненной силой и блескомъ зазвенѣлъ въ романтическомъ вдохновеніи Ницше[10].
Мой бѣглый обзоръ противниковъ рационализма былъ бы неполонъ, если бы я хотя въ двухъ словахъ не указалъ еще на одно ученіе, въ свое время сыгравшее весьма значительную роль въ общемъ умственномъ процессѣ XIX вѣка. Это ученіе — «историческая школа» въ юриспруденціи, въ политической экономіи. Историческая школа объявила войну политической метафизикѣ; «разуму личности» противопоставила она «духъ народа», историческій фактъ объявила послѣдней инстанціей въ рѣшеніи всѣхъ волнующихъ вопросовъ. Болѣе чѣмъ полувѣковое владычество исторической школы дало, однако, печальные результаты: оно оправдало безпринципность, полное пренебреженіе теоріей, защищало консерватизмъ и выродилось въ безплодное коллекціонированіе фактовъ.
И раціонализмъ могъ считать себя въ полной безопасности, пока возраженія, предъявлявшіяся ему, осложнялись политическимъ исповѣданіемъ, окутывались мистическимъ туманомъ, или строились на «позитивной», «научной» почвѣ...
Бунтующему разуму съ его грандіозными обѣщаніями человѣчеству не могли быть страшны ни политиканствующій католицизмъ съ изувѣрской догмой искупленія, ни плѣнительный своей чувствительностью романтизмъ съ его еще тогда неясными мечтаніями, ни скептическій историзмъ, не ушедшій далѣе плоской бухгалтеріи, ни феодальный анархизмъ во вкусѣ Ницше...
Раціонализмъ оставался господствующимъ принципомъ философско-политической мысли, ибо для своего времени онъ былъ единственно возможной и жизненной теоріей прогресса.
Но великія завоеванія разума наполнили живой міръ фантомами — величественными, ясными, но холодными, какъ геометрическіе сады Ленотра. И реальному живому человѣку стало душно среди порожденныхъ имъ миражей. Не интересы стали управлять людьми, а лишь болѣе или менѣе вѣрныя представленія, которыя о нихъ сложились. Представленіе стало надъ волей; во власти его оказался самый человѣкъ. Призраку подчинилась личность и ея свобода стала отвлеченной.
И для реальной личности есть безвыходный трагизмъ въ томъ, что призраки, давившіе ее, утверждались вдохновеніемъ наиболѣе выдающихся и мощныхъ индивидуальностей. Освободительныя стремленія генія готовили новые ковы дальнѣйшему развитію личности. Это, конечно, надо понимать не въ смыслѣ послѣдовательнаго суженія творческаго кругозора отдѣльной индивидуальности, но въ смыслѣ принудительнаго подчиненія ея призракамъ, созданнымъ ранѣе другими и зафиксированнымъ признаніемъ другихъ.
Человѣку раціоналистической мысли принадлежитъ великое прошлое. Культъ разума имѣлъ свои героическія эпохи. Обративъ міръ въ обширную лабораторію, онъ создалъ научные методы, принесъ великія открытія, построилъ современную цивилизацію. Но онъ былъ безсиленъ проникнуть въ тайны міра. Съ внѣшнимъ освобожденіемъ онъ несъ внутреннее рабство — рабство отъ законовъ, рабство отъ теорій, отъ необходимости, необходимости тѣхъ представленій, которыя породилъ онъ самъ. Обѣщая жизнь, онъ близилъ смерть. Не мало раціоналистическихъ тумановъ было развѣяно жизнью, но гибель иллюзій каждый разъ несла отчаяніе жертвамъ самообмана.
Нашему времени — съ его гигантскими техническими средствами, глубокими общественными антагонизмами, напряженнымъ и страстнымъ самосознаніемъ — суждено было поколебать вѣру во всемогущество разума. Оно — во всеоружіи огромнаго опыта — отбросило ковы феноменализма, вернулось къ «реальной дѣйствительности», возгласило торжество воли надъ разумомъ.
И въ этомъ новомъ человѣческомъ устремленіи открылись возможности творческаго преодолѣнія міра — необходимости.
Въ концѣ ХІХ-го вѣка, почти одновременно на свѣтъ явились двѣ системы, ярко окрашенныя антиинтеллектуализмомъ.
Одна — принадлежитъ интуитивной философіи, прагматистамъ и особенно Бергсону. Она есть — наиболѣе глубокое и категорическое отверженіе ложныхъ претензій «разума».
Другая — принадлежитъ пролетаріату. Это — философія классовой борьбы, выросшая непосредственно изъ жизни и, подобно первой, возглашающая приматъ «воли» надъ «разумомъ».
Въ основаніи обѣихъ системъ лежитъ признаніе автономіи конкретной личности.
Антираціонализмъ или антиинтеллектуализмъ утверждаетъ пріоритетъ инстинкта надъ разумомъ. За послѣднимъ онъ признаетъ инструментальное, то-есть вспомогательное значеніе. Вопреки идеализму, полагающему для насъ непосредственную данность духовнаго міра, онъ склоненъ утверждать, что разумъ для насъ не имѣетъ первоначальнаго значенія. Онъ возникаетъ на определенной ступени общаго мірового развитія. И тогда мы начинаемъ раздѣлять — физическое и психическое.
Такъ интеллектъ наряду съ инстинктомъ объявляется только однимъ изъ «направленій» жизненнаго процесса, органомъ нашего приспособленія къ жизни.
При этомъ интеллектъ, характеризующійся, по словамъ Бергсона, «природнымъ непониманіемъ жизни» является только орудіемъ человѣка въ разнообразныхъ формахъ его борьбы за существованіе; его собственная природа ограничена: онъ не постигаетъ самой сущности дѣйствительности, «бытіе» для него есть «явленіе». Онъ группируетъ «явленія», отбираетъ, устанавливаетъ ихъ общія свойства, классифицируетъ, создаетъ общія понятія. Но послѣднія не совпадаютъ съ самой дѣйствительностью, а являются лишь символами ея. Разсудочное знаніе, искусственно расчленяетъ жизнь, разрываетъ ея слитный, недѣлимый, никогда не повторяющійся потокъ и стремится представить непрерывную послѣдовательность событій, какъ сосуществованіе отдѣльныхъ вещей[11].
Но въ живой дѣйствительности нѣтъ ничего неподвижнаго; она — алогична, она — «непрестанное становленіе», «абсолютная длительность», она — свободная «творческая эволюція».
Познаніе подлинной сущности предмета, предмета въ цѣломъ, а не отдѣльныхъ частей его или механической ихъ суммы — возможно только при помощи особаго источника знанія — «интуиціи». «Интуиція — опредѣляетъ Бергсонъ — есть особый родъ интеллектуальной симпатіи, путемъ которой познающій переносится внутрь предмета, чтобы слиться съ тѣмъ, что есть въ немъ единственнаго и, слѣдовательно, невыразимаго». («Введеніе въ метафизику»).
Анализъ, разсудочное знаніе «умножаютъ точки зрѣнія», «разнообразятъ символы», но они безсильны постичь самое бытіе; интуиція — есть полное сліяніе съ нимъ. Интуиція — всюду, гдѣ есть жизнь, ибо интуиція и есть самосознаніе жизни. И человѣкъ, сливающійся въ своемъ самосознаніи съ жизнью — становится творчески свободнымъ.
Разумѣется, Бергсонъ въ своемъ пониманіи свободы далекъ отъ совершеннаго отрицанія детерминистической аргументами. Онъ признаетъ и физическую и психическую причинности. Но онъ признаетъ обусловленность только частныхъ проявленій нашего «я», его отдѣльныхъ актовъ. «Я» въ его цѣломъ — живое, подвижное недѣлимое, невыразимое въ символахъ — свободно, какъ свободна жизнь вообще, какъ творческій порывъ, а не одно изъ частныхъ ея проявленій.
Человѣкъ и акты его свободны, когда они являются цѣльнымъ и полнымъ выраженіемъ его индивидуальности, когда въ нихъ говоритъ только ему присущее своеобразіе.
Свобода человѣка есть, такимъ образомъ ,свобода его творческихъ актовъ и разсудочное знаніе безсильно постичь ихъ природу. Для установленія причинности оно должно разлагать природу на составныя части; эти части — мертвы и обусловлены. Но живой синтезъ частей всегда свободенъ и къ нему непримѣнимы раціоналистическіе выводы науки. Понятія жизни и причинности лежатъ въ различныхъ планахъ. Жизнь — потокъ, не знающій причинности, не допускающій предвидѣнія и утверждающій свободу.
Такъ интуитивная философія утверждаетъ первенство жизни передъ научнымъ изображеніемъ ея или философскимъ размышленіемъ о ней. Сознаніе, наука, ея законы рождаются въ жизни и изъ жизни. Они — моменты въ ней, обусловленные практическими нуждами. Въ научныхъ терминахъ мы можемъ характеризовать ея отдельные эпизоды, но въ цѣломъ она — невыразима.
Эту первоначальность жизни, подчиняющую себѣ всѣ наши раціоналистическія и механическія представленія о ней, когда-то великолѣпно выразилъ нашъ Герценъ: «Неподвижная стоячесть противна духу жизни... Въ безпрерывномъ движеніи всего живого, въ повсюдныхъ перемѣнахъ, природа обновляется, живетъ, ими она вѣчно молода. Оттого каждый историческій мигъ полонъ, замкнутъ по своему... Оттого каждый періодъ новъ, свѣжъ, исполненъ своихъ надеждъ, самъ въ себѣ носитъ свое благо и свою скорбь...»
Вотъ — мысли, отвѣчающія анархическому чувству, строящія свободу человѣка не на сомнительномъ фундаментѣ неизбѣжно одностороннихъ и схоластическихъ теорій, но на пробужденіи въ насъ присущаго намъ инстинкта свободы. Вотъ — философія, которая сказала «да» тому еще смутно сознаваемому, но уже повсюду зарождающемуся, повсюду бьющемуся чувству, которое радостно и увѣренно говоритъ намъ, что мы дѣйствительно свободны лишь тогда, когда выявляемъ себя во весь нашъ ростъ, когда дѣйствія наши, по выраженію Бергсона, «выражаютъ нашу личность, пріобрѣтаютъ съ ней то неопредѣленное сходство, которое встрѣчается между творцомъ и твореніемъ». («Непосредственныя данныя сознанія).
Если въ планѣ отвлеченной мысли сильнѣйшій ударъ раціонализму въ наши дни былъ нанесенъ философіей Бергсона, то въ планѣ дѣйственномъ самымъ страшнымъ его врагомъ сталъ — синдикализмъ, сбросившій догматическія путы партій и программъ и отъ символики представительства перешедшій къ самостоятельному творчеству.
Въ опредѣленіи и характеристикѣ революціоннаго синдикализма надлежитъ быть осторожнымъ.
Чтобы правильно понять его природу, необходимо ясно представлять себѣ глубокую разницу между синдикализмомъ, какъ формой рабочаго движенія, имѣющей классовую пролетарскую организацію, и синдикализмомъ, какъ «новой школой» въ соціализмѣ, «неомарксизмомъ», какъ теоретическимъ міросозерцаніемъ, выросшимъ на почвѣ критическаго истолкованія рабочаго синдикализма.
Это — два разныхъ міра, живущихъ самостоятельной жизнью, на что, однако, изслѣдователями и критиками синдикализма и доселѣ не обращается достаточно вниманія[12].
Сейчасъ насъ интересуетъ именно «пролетарскій синдикализмъ».
Его развитіе намѣтило слѣдующіе основные принципы: а) приматъ движенія передъ идеологіей, в) свободу творческаго самоутвержденія класса, с) автономію личности въ классовой организаціи.
Всѣ построенія марксизма покоились на убѣжденіи въ возможности познанія общихъ — абстрактныхъ законовъ общественнаго развитія и, слѣдовательно, возможности соціологическаго прогноза.
Синдикализмъ, по самой природѣ своей, есть полный отказъ отъ какихъ бы то ни было соціологическихъ рецептовъ. Синдикализмъ есть непрестанное текучее творчество, не замыкающееся въ рамки абсолютной теоріи или предопредѣленнаго метода. Синдикализмъ — движеніе, которое стимулы, опредѣляющіе его дальнѣйшее развитіе, диктующіе ему направленіе, ищетъ и находитъ въ самомъ себѣ. Не теорія подчиняетъ движеніе, но въ движеніи родятся и гибнутъ теоріи.
Синдикализмъ есть процессъ непрестаннаго раскрытія пролетарскаго самосознанія. Не навязывая примыкающимъ къ нему неизмѣнныхъ лозунговъ, онъ оставляетъ имъ такое же широкое поле для свободнаго положительнаго творчества, какъ и для свободной разрушительной критики. Онъ не знаетъ тѣхъ непререкаемыхъ «verba magistri», которыми клянутся хотя-бы пролетарскія политическія партіи. Въ послѣднихъ — партійный катехизисъ, заранѣе отвѣчающій на всѣ могущіе возникнуть у правовѣрнаго вопросы, въ синдикализме бьется буйная радость жизни, готовая во всеоружіи встрѣтить любой вопросъ, но не заковывающая себя въ неуклюжіе догматическіе доспѣхи. Въ политической партіи пролетарій — исполнитель, связанный партійными условностями, расчетами, интригами; въ синдикализме онъ — творецъ, у котораго никто не оспоритъ его воли.
Самый уязвимый пунктъ «ортодоксальнаго» марксизма — вопіющее противорѣчіе между «революціонностью» его «конечной цѣли» и мирнымъ, реформистскимъ характеромъ его «движенія», между суровымъ требованіемъ непримиримой «классовой борьбы» и практическимъ подчиненіемъ ея парламентской политикѣ партіи.
Въ синдикализмѣ нѣтъ и не можетъ быть этого мучительнаго, опорочивающаго основной смыслъ движенія — раскола. Въ синдикализмѣ все преломляется въ самой пролетарской средѣ — среди производителей; движеніе и цѣль — слиты воедино, ибо они одной природы; «движеніе» такъ-же революціонно, какъ и «цѣль». Цѣль — разрушеніе современнаго классового общества, съ его системой наемнаго труда, средства — диктуются духомъ классовой нетерпимости ко всѣмъ формамъ государственно-капиталистическаго паразитизма. Такъ, конечная цѣль синдикализма является дѣйственнымъ лозунгомъ и каждаго отдѣльнаго момента въ его движеніи.
Будущее въ глазахъ синдикализма — продуктъ творчества, сложнаго, не поддающагося учету, процесса, модифицируемаго разнообразными привходящими факторами, иногда радикально мѣняющими среду, въ которой протекаетъ самое творчество. Знать это будущее, какъ знаютъ его правовѣрные усвоители партійныхъ манифестовъ, невозможно. Подъ реалистической, якобы, оболочкой партійной и парламентской мудрости реформизма, кроется, наоборотъ, самый безпредѣльный утопизмъ, вѣра въ возможность путемъ словесныхъ убѣжденій и частичныхъ экспериментовъ — опрокинуть сложную, глубоко вросшую и въ нашу психику, систему.
Но можно желать измѣнить настоящее и строить будущее, согласно волѣ производителя, той волѣ, которая отливается непосредственно въ реальныхъ, жизненныхъ формахъ его объединенія — его классовыхъ организаціяхъ.
Воля пролетаріата, его классовое сознаніе, творческія его способности, степень его культурной подготовки, личная его мощь — иниціатива, героизмъ, сознаніе отвѣтственности — вотъ революціонные факторы исторіи!
Воля производителя, творца — вотъ духовный центръ пролетарскаго движенія.
Синдикатъ, поэтому, долженъ стать ареной самаго широкаго, всесторонняго развитія личности. Членъ синдиката не поступается своими религіозными, философскими, научными, политическими убѣжденіями. Они — свободны. По мѣткому выраженію одного изъ пропагандистовъ синдикализма, синдикатъ есть «постоянно измѣняющееся продолженіе индивидуальностей, образующихъ его. Онъ отливается по типу умственныхъ запросовъ его членовъ».
Воля производителя, этотъ, какъ мы сказали, духовный центръ движенія, не есть ни выдумка идеолога, ни нѣчто произвольно самозарождающееся. Воля эта есть — «объективный фактъ», продуктъ опредѣленныхъ техно-экономическихъ условій.
Синдикализмъ есть плодъ того разслоенія, которое имѣетъ мѣсто въ пролетаріатѣ подъ вліяніемъ техническаго прогресса и повышенныхъ требованій къ самому рабочему.
Ортодоксальный марксизмъ въ своихъ построеніяхъ опирался на первоначальную капиталистическую фабрику съ деспеціализованнымъ рабочимъ — чернорабочимъ, низведеннымъ до роли простого «орудія производства». Фабрика была своеобразнымъ микрокосмомъ, въ которомъ воля непосредственнаго производителя была подчинена волѣ хозяина, контролирующаго органа и гдѣ отъ рабочаго — по общему правилу — требовалось не сознательная иниціатива, a слѣпое подчиненіе.
Синдикализмъ соотвѣтствуетъ новой стадіи въ развитіи капитализма. Къ современному рабочему, благодаря повышеннымъ техническимъ условіямъ производства, предъявляется требованіе интеллигентности. Интеллектуализація труда повсюду идетъ быстрыми шагами. Чернорабочій уступаетъ мѣсто квалифицированному и экстраквалифицированному рабочему, какъ отсталые технически броненосцы должны были въ наше время уступить мѣсто дредноутамъ и сверхдредноутамъ.
Современный рабочій долженъ быть активенъ, сознателенъ, обладать иниціативой, обнаруживать гибкость и быстроту въ рѣшеніи предлагаемыхъ ему техническихъ проблемъ. Наряду съ прогрессомъ техники современнаго рабочаго воспитываетъ ростъ классового самосознанія. Эра рабочаго автоматизма кончена.
Современная мастерская должна сочетать — самостоятельнаго работника съ сознательнымъ подчиненіемъ коллективной дисциплинѣ, требуемой самой природой коллективнаго труда.
Послѣ сказаннаго — ясно, какъ неправильны указанія отдѣльныхъ критиковъ синдикализма на то, что если онъ наслѣдовалъ что-либо въ марксизмѣ, то только утопическіе элементы. Подобное указаніе только и возможно при смѣшеніи синдикализма «пролетарскаго» съ мифологическими концепціями Сореля[13].
Пролетарскій синдикализмъ въ самой основѣ своей исключаетъ «утопическое».
Въ центрѣ синдикальнаго движенія — личность, единственная подлинная реальность соціальнаго міра. Личности объединяются по признаку, характеризующему положеніе ихъ въ производственномъ процессѣ, въ опредѣленныхъ мѣстныхъ и профессіональныхъ группахъ, именуемыхъ синдикатами. Объединеніе это ставитъ себѣ совершенно опредѣленныя реальныя цѣли: защиту жизненныхъ, экономическихъ интересовъ своихъ членовъ. Синдикатъ есть средство, орудіе въ рукахъ образующихъ его рабочихъ — не болѣе. Совокупность синдикатовъ представляетъ — организацію «класса», «пролетарскую организацію». Классъ, какъ таковой, есть, конечно, соціологическая абстракція; въ мірѣ вещей — онъ искусственная группировка въ цѣляхъ самозащиты опредѣленной совокупности индивидуальностей. Когда мы говоримъ о «волѣ», «психологіи», «политикѣ» класса — то, очевидно, имѣемъ въ виду не какую-либо внѣ личностей, самостоятельно живущую субстанцію, но совокупность лицъ, связанныхъ однороднымъ положеніемъ въ производствѣ, потребностью въ защитѣ однородныхъ интересовъ и вытекающей отсюда необходимостью однородныхъ актовъ. Поэтому, поскольку личности, образующія классъ, удовлетворяютъ свои индивидуальные запросы, свою личную волю, они совершаютъ акты, цѣликомъ относящіеся къ области индивидуальной психологіи и индивидуальнаго дѣйствія, поскольку они выступаютъ солидарно, въ цѣляхъ защиты нѣкотораго, общаго имъ всѣмъ интереса, выступаютъ не какъ люди, но, какъ пролетаріи, они совершаютъ акты, относящіеся къ области классовой психологіи и классового дѣйствія. Одно лицо своими индивидуальными дѣйствіями, разумѣется, не осуществляетъ ничего классоваго, хотя оно и можетъ не только угадать, но и твердо знать линію будущаго поведенія со стороны своихъ товарищей по положенію въ производствѣ, а, слѣдовательно, и класса. Предположить, что отдѣльная индивидуальность несетъ въ себѣ нѣчто «классовое», значило бы признать существованіе нѣкоторыхъ «среднихъ», абстрактныхъ индивидовъ, и о невозможности этого мы уже довольно говорили. Но личность можетъ выступать и какъ членъ класса, когда она выступаетъ, какъ членъ совокупности, защищая осознанные интересы совокупности.
Поэтому, и классъ не есть нѣчто, стоящее надъ личностью, подчиненное стихійнымъ закономѣрностямъ, но орудіе ея защиты въ строго опредѣленномъ, экономическомъ планѣ. И «политика» класса обусловливается не заранѣе созданной «теоріей», но непосредственными требованіями реальныхъ личностей, примѣнительно къ данному моменту.
Одинъ изъ наиболѣе выдающихся практическихъ дѣятелей синдикализма слѣдующимъ образомъ характеризуетъ общій планъ синдикальной организаціи: «Здѣсь (Всеобщая конфедерація труда) есть объединеніе и нѣтъ централизаціи; отсюда исходитъ импульсъ, но не руководительство. Вездѣ федеративный принципъ: на каждой ступени, каждая единица организаціи самостоятельна — индивидъ, синдикатъ, федерація или биржа труда... Толчокъ къ дѣйствію не дается сверху, онъ исходитъ изъ любой точки и вибрація передается, все расширяясь, на всю массу конфедераціи».
Отказъ синдикализма отъ раціонализма, науки и научнаго прогноза, въ качествѣ руководителей его жизненной политики, отказъ отъ демократіи и парламентаризма, какъ господства идеологовъ — есть прежде всего продуктъ «массовой психологіи», весьма неблагосклонной къ утопизму.
Ничего утопическаго, дѣйствительно, не заключаютъ ни проникающій синдикализмъ «индивидуализмъ», ни «насиліе», какъ методъ классовой борьбы.
Абсолютный индивидуализмъ и революціонный синдикализмъ — прямо антиномичны. Тотъ «страстный» и «напряженный» индивидуализмъ, про который пишутъ нѣкоторые синдикалисты, который дѣйствительно живетъ въ синдикализмѣ и безъ котораго самый синдикализмъ былъ-бы невозможенъ, какъ самостоятельная — внѣ партійнаго руководства — форма пролетарскаго движенія — никогда и нигдѣ не высказывался въ смыслѣ отрицанія «общественности» или даже существенныхъ ограниченій ея въ пользу неограниченнаго произвола отдѣльной индивидуальности. Самая возможность подобныхъ утвержденій зиждется, съ одной стороны, на преувеличеніи роли анархизма въ синдикалистскомъ движеніи, съ другой, на старомъ представленіи объ анархизмѣ — какъ абсолютно индивидуалистическомъ ученіи. Но такого анархизма вообще нынѣ нѣтъ и менѣе всего абсолютными индивидуалистами были тѣ анархисты, которые вошли въ синдикализмъ и играли въ немъ замѣтную роль. Даже редакторъ оффиціальнаго органа Конфедераціи (La voix du Peuple) — анархистъ Э. Пуже, во всѣхъ своихъ писаніяхъ подчеркивавшій плодотворное значеніе творческой иниціативы личности и понимавшій хорошо роль «сознательнаго» меньшинства, тѣмъ не менѣе никогда не заключалъ въ себѣ ничего ни штирнеріанскаго, ни ницшеанскаго.
Столь-же неправильно было-бы видѣть «утопизмъ» и въ «насиліи» синдикализма. Большинство изслѣдователей понимаютъ это «насиліе» обычно въ какомъ-то нарочито «матеріалистическомъ» смыслѣ, въ смыслѣ непосредственнаго принужденія кого-либо къ какому-либо акту или непосредственнаго разрушенія чего-либо.
Но «насиліе» синдикализма не есть терроръ.
Терроръ, укладывающійся въ рамки традиціоннаго анархистскаго права, совершенно исключенъ изъ методовъ борьбы революціоннаго синдикализма.
То, что на языкѣ «теоретическихъ синдикалистовъ» называется «насиліемъ», есть, въ сущности, аполитическіе, внѣпарламентскіе способы борьбы или открытыя классовыя выступленія пролетаріата, такъ наз. «action directe» (прямое дѣйствіе). Послѣднія могутъ съ начала до конца носить легальный характеръ, оставаясь тѣмъ не менѣе революціонными, такъ какъ всегда посягаютъ на самыя основы капиталистической системы. Революціонный синдикализмъ — какъ прекрасно опредѣлилъ Пуже — не боится частичныхъ «реформъ». Но онъ борется... противъ системы, которая возводитъ въ принципъ «соглашенія» съ хозяевами (патронатомъ) и не идетъ далѣе смѣшанныхъ комиссій, арбитражей, регулированія стачекъ, «совѣтовъ труда» съ ихъ увѣнчаніемъ въ формѣ «Высшаго Совѣта Труда».
Синдикализмъ полагаетъ, что «насиліе» — необходимый спутникъ всякой принудительной санкціи, a, слѣдовательно, и всякаго «права». Нѣтъ организованнаго «права» безъ насилія.
Но наряду съ правомъ — публичнымъ и гражданскимъ, санкціонированнымъ государствомъ, — есть иное неписанное право, покоющееся на коллективной вѣрѣ, коллективно выработанномъ убѣжденіи въ справедливости притязаній, какъ личности, такъ и общественнаго класса на полный продуктъ ихъ творчества.
Каждый общественный классъ имѣетъ сознаніе своего права. И право «пролетарское» глубоко враждебно праву «капиталистическому». Наличность подобнаго правосознанія и принципіальное содержаніе его, обусловленное разрывомъ съ другими классами, опредѣляетъ духовное рожденіе класса. И разрывъ между классами тѣмъ полнѣе, чѣмъ рѣзче, чѣмъ ярче правовое сознаніе классовъ. «Чѣмъ капиталистичнѣе будетъ буржуазія, — правильно писалъ Сорель — тѣмъ воинственнѣе будетъ настроенъ пролетаріатъ, тѣмъ больше выиграетъ движеніе». И, поскольку «право» одного класса считаетъ желательнымъ или справедливымъ ограниченіе или упраздненіе «правъ» другого, и классъ пытается осуществить свое «право», онъ совершаетъ «насиліе».
«Всякій общественный классъ, — пишетъ итальянскій синдикалистъ Оливетти — всякая политическая группа стремится примѣнить насиліе къ другимъ и не допустить его по отношенію къ себѣ самому, узаконить собственное насиліе и бороться противъ насилія со стороны другихъ. Ни одной человѣческой группѣ никогда не удавалось восторжествовать иначе, какъ при помощи силы....»
Поэтому, «насиліе» революціоннаго синдикализма есть не только организованное нападеніе на капиталистическій режимъ, но и необходимая самооборона, отвѣтъ на покушенія со стороны «права буржуазнаго» на «право пролетарское». Это «насиліе» — въ истинномъ смыслѣ этого слова — борьба за существованіе. A содержаніе синдикалистскаго «права» — не объявленіе пролетарской «диктатуры», a обезпеченіе свободы и соціальной справедливости.
Эта, по необходимости, бѣглая характеристика философіи революціоннаго синдикализма все-же позволяетъ утверждать, что рабочій синдикализмъ, выросшій и развившійся самостоятельно, чуждавшійся какихъ-либо «теоретическихъ» выдумокъ, въ движеніи своемъ создалъ нѣсколько моментовъ, поразительно напоминающихъ столь далекое, казалось бы, ему философское ученіе Бергсона. Одинъ изъ авторитетнѣйшихъ представителей теоретическаго синдикализма, Лягарделль протестовалъ однажды противъ того, что многіе стараются усмотрѣть въ «антиинтеллектуалистской философіи Бергсона философскія основанія синдикализма». «Это невѣрно, — писалъ онъ — имѣется аналогія, совпаденіе, сходство въ нѣсколькихъ существенныхъ пунктахъ... Но это все»...
Это замѣчаніе для насъ драгоцѣнно. Тѣмъ знаменательнѣе и значительнѣе становится это «совпаденіе», это «сходство въ нѣсколькихъ существенныхъ пунктахъ», если основы синдикализма слагались самсостоятельно, внѣ какого бы то ни было вліянія французскаго философа. Это означаетъ, что философское движеніе противъ «разума», какъ единственнаго источника познанія, — не одиноко, что рядомъ съ нимъ, но независимо отъ него, движется въ томъ же направленіи, быть-можетъ, самое могучее по идейному смыслу, теченіе современности.
Мы знаемъ уже, что всѣ разсужденія Бергсона вытекаютъ изъ его общаго представленія о жизни, какъ безконечномъ, слитномъ, недѣлимомъ и неразрывномъ потокѣ. Всякое расчлененіе его разсудкомъ, т.-е. всякая научная работа, даетъ намъ лишь условное, ограниченное представленіе о жизни и ея явленіяхъ. Лишь интуитивное знаніе позволяетъ намъ проникнуть внутрь предмета, постичь жизнь и ея явленія въ ихъ внутренней глубочайшей сущности.
И синдикализмъ, это практическое рабочее движеніе, одухотворяется тѣми же мыслями. Бергсоновское ученіе о жизни чрезвычайно близко воззрѣніямъ синдикалистовъ на самый синдикализмъ. Они рисуютъ себѣ синдикализмъ, не какъ застывшую форму, сказавшую всѣ свои слова, выработавшую разъ навсегда свою программу и тактику, а какъ непрестанное классовое творчество, своеобразный трудовой потокъ, не замыкающійся ни въ рамки какихъ-либо абсолютныхъ теорій, ни разъ навсегда установленныхъ методовъ.
Какъ у Бергсона наряду съ поверхностнымъ, внѣшнимъ рассудочнымъ «я», выработавшимъ языкъ и научные методы для удовлетворенія своихъ, практическихъ нуждъ, живетъ глубокое, внутреннее, жизненное «я», раскрывающее свое самосознаніе черезъ интуицію, такъ въ соціальной философіи синдикализма живетъ тоже противоположеніе примѣнительно къ соціальной средѣ.
Въ экономикѣ это — противоположеніе между обмѣномъ, преходящей формой, обслуживающей внѣшнія потребности хозяйственнаго общества, и производственнымъ процессомъ — глубокимъ внутреннимъ механизмомъ, неотдѣлимымъ отъ самаго существованія общества[14].
Въ политическомъ планѣ синдикализмъ выдвигаетъ противоположеніе между легальнымъ реформизмомъ — получимъ, исповѣдующимъ культъ малыхъ дѣлъ, и революціоннымъ реформизмомъ — въ своихъ завоеваніяхъ утверждающимъ свою подлинную сущность, свое «право».
Синдикализмъ открылъ новую эру въ развитіи пролетарскаго самосознанія.
Первоначально стихійный, непосредственно выросшій изъ жизни, синдикализмъ въ наши дни становится сознательнымъ классовымъ протестомъ противъ раціонализма — противъ слѣпой вѣры въ непогрѣшимость теоретическаго разума, все устрояющаго силой своихъ отвлеченныхъ спекуляцій.
Синдикализмъ утверждаетъ автономію личности, утверждаетъ волю творческаго и потому революціоннаго класса.
Въ синдикалистѣ живутъ рядомъ: «страстный индивидуализмъ», ревниво оберегающій свою свободу, и напряженное чувство «пролетарскаго права». Синдикалистъ уже не исполнитель только чужихъ мнѣній, но непримиримо и героически настроенный борецъ, своимъ освобожденіемъ несущій свободу и другимъ.
И споръ между рѣдѣющими защитниками раціонализма и его врагами — думается мнѣ — уже не есть только столкновеніе двухъ противоборствующихъ духовныхъ теченій, не есть контраверзы философскихъ школъ, турниръ политическихъ мнѣній, но борьба двухъ разныхъ типовъ человѣческаго духа.
Но въ «традиціонномъ анархизмѣ» — вопреки основнымъ настроеніямъ его — упорно говорятъ еще старыя раціоналистическія ноты.
Правда, и обще-философская (смѣшеніе матеріализма съ позитивизмомъ) и историко-философская физіономіи Бакунина страдаютъ крайней невыясненностью. Въ той творческой лихорадкѣ, какой была вся жизнь Бакунина, ему было некогда продумать до конца философскія основанія своихъ утвержденій, любой аргументъ въ защиту его «дѣла» казался ему пригоднымъ.
И потому у Бакунина мы найдемъ столько-же раціоналистическихъ положеній, сколько и разрушительныхъ возраженій противъ нихъ. Бакунинъ оказывается одновременно близкимъ и Конту и Бергсону.
Бакунинъ посвящаетъ краснорѣчивую страницу автоматизму «закоченѣвшихъ» идей, страницу, какъ будто, предвосхищающую тонкую аргументацію Бергсона: «Каждое новое поколѣніе находитъ въ своей колыбели цѣлый міръ идей, представленій и чувствъ, который оно получаетъ, какъ наслѣдіе отъ прошлыхъ вѣковъ. Этотъ міръ не представляется передъ новорожденнымъ въ своей идеальной формѣ, какъ система представленій и понятій, какъ законъ, какъ ученіе; ребенку, неспособному ни воспринять, ни постичь его въ такой формѣ этотъ міръ говоритъ на языкѣ фактовъ, воплощенныхъ и осуществленныхъ, какъ въ людяхъ, такъ и во всемъ, что его окружаетъ, во всемъ, что онъ видитъ и слышитъ съ перваго дня своей жизни. Эти человѣческія понятія и представленія были вначалѣ только продуктомъ дѣйствительныхъ фактовъ изъ жизни природы и общества, въ томъ смыслѣ, что они были рефлексами или отраженіями въ мозгу человѣка и воспроизведеніемъ, такъ сказать, идеальнымъ и болѣе или менѣе вѣрнымъ такихъ фактовъ съ помощью этого безусловно вещественнаго органа человѣческой мысли. Позднѣе, послѣ того, какъ эти понятія и представленія внѣдрились указаннымъ образомъ въ сознаніе людей какого-нибудь общества, они достигали возможности сдѣлаться, въ свою очередь, продуктивными причинами новыхъ фактовъ, собственно не столько въ природѣ, сколько въ обществѣ. Въ концѣ концовъ они видоизмѣняютъ и преобразуютъ, правда очень медленно, существованіе, привычки и учрежденія людей, словомъ, всѣ человѣческія отношенія въ обществѣ и, своимъ проявленіемъ во всѣхъ мелочахъ повседневной жизни каждаго человѣка, они явно дѣлаются чувствительными всѣмъ, даже дѣтямъ».
И далѣе Бакунинъ даетъ убійственную характеристику «разума». Неоднократно подчеркиваетъ онъ его безсиліе, его неспособность творить или даже удовлетворительно выразить въ логическихъ терминахъ всю полноту бытія. Разумъ расчленяетъ и убиваетъ жизнь. Абстрактное мышленіе оперируетъ общими идеями, но онѣ являются блѣднымъ отраженіемъ реальной жизни.
Бакунинъ, какъ будто, презрительно относится къ «наукѣ». Наука живетъ отраженной, несамостоятельной жизнью; она конструируетъ представленія, понятія жизни, но не самую жизнь. Общество, которое бы управлялось на основаніи законовъ, открытыхъ «наукой», Бакунинъ объявляетъ «ничтожествомъ». Онъ выноситъ безпощадный приговоръ «ученому» правительству.
Но наряду съ подобнымъ «антиинтеллектуализмомъ», Бакунинъ высказываетъ и прямо противоположныя идеи, категоричностью своей далеко отходящія отъ ученій прагматистовъ объ «инструментальномъ» значеніи разума.
«Разумъ» объявляется единственнымъ органомъ, которымъ мы обладаемъ для познанія истины. Въ «Антитеологизмѣ» Бакунинъ утверждаетъ, что мысль опредѣляетъ мѣсто человѣка въ животномъ мірѣ. «Человѣческій міръ — пишетъ онъ — являясь ничѣмъ инымъ, какъ непосредственнымъ продолженіемъ органическаго міра, существенно отличается отъ него новымъ элементомъ: мыслью, произведенной чисто физіологической дѣятельностью мозга и производящей въ то-же время среди этого матеріальнаго міра и въ органическихъ и неорганическихъ условіяхъ, которыхъ она является, такъ сказать, послѣднимъ резюме, все то, что мы называемъ интеллектуальнымъ и моральнымъ, политическимъ и соціальнымъ развитіемъ человѣка — исторію человѣчества».
Недовѣріе къ «наукѣ» смѣняется неожиданно ея апофеозой. «Мы полны уваженія къ наукѣ; мы смотримъ на нее, какъ на одно изъ самыхъ драгоцѣнныхъ сокровищъ, какъ на одну изъ лучшихъ славъ человѣчества. Наукой человѣкъ отличается отъ животнаго...» Наукѣ мы обязаны обладаніемъ «несовершенной, но зато достовѣрной истины» (Антитеологизмъ). Отсутствіе знаній, невѣжество оказывается самостоятельнымъ факторомъ общественнаго процесса. «Каковы причины приводящей въ отчаяніе и столь близкой къ неподвижности медленности, которая составляетъ, по моему, самое большое несчастіе человѣчества? Причинъ этому множество. Между ними одной изъ самыхъ значительныхъ является, несомнѣнно, невѣжество массъ». («Богъ и Государство»). И въ конечномъ счетѣ, Бакунинъ переходитъ къ славословію «универсальной науки» — позитивной философіи Конта.
Такъ, несмотря на всѣ стремленія Бакунина изгнать изъ своего историко-философскаго credo все раціоналистическое, оно тѣмъ не менѣе властно вторгается въ него и именно наличностью раціоналистическихъ элементовъ обусловливается характеръ той анархистской «политики», которая была воспринята и большинствомъ его послѣдователей.
Болѣе законченнымъ, хотя и менѣе оригинальнымъ является ученіе Кропоткина.
Въ обширномъ, представляющемъ выдающійся интересъ — по важности трактуемыхъ авторомъ проблемъ — «Lа Science Moderne et l'Anarchie» («Современное знаніе и анархія»)[15] Кропоткинъ стремится показать, что анархизмъ не есть только соціально-политическая программа, но цѣлостное міросозерцаніе.
«Анархизмъ — пишетъ онъ — есть міропониманіе, базирующее на механическомъ (или, лучше сказать, кинетическомъ) истолкованіи явленій; міропониманіе, объемлющее всю природу, включая и жизнь обществъ. Методъ анархизма — методъ естественныхъ наукъ. Его тенденція — построеніе синтетической философіи, обнимающей всѣ факты природы. Какъ законченное матеріалистическое міровоззрѣніе, анархизмъ полагаетъ, что всякое явленіе природы можетъ быть сведено къ физическимъ или химическимъ процессамъ и потому получаетъ естественно-научное объясненіе. Анархизмъ есть безповоротный отказъ отъ всякаго религіознаго или метафизическаго міровоззрінія».
Критикуя современныхъ экономистовъ, Кропоткинъ устанавливаетъ понятіе соціологическаго закона. Онъ указываетъ, что всякій законъ имѣетъ условный характеръ, имѣетъ свое «если». Соціологи и экономисты обычно совершенно забываютъ объ этомъ условномъ характерѣ ихъ законовъ и изображаютъ «факты, явившіеся слѣдствіемъ извѣстныхъ условій, какъ неизбѣжные, неизмѣнные законы». Въ эту ошибку впадаетъ — по мнѣнію Кропоткина — и соціалистическая (марксистская) экономія. Между тѣмъ, политическая экономія (какъ и всякая вообще частная соціологическая дисциплина) должна конструироваться, какъ «естественное знаніе», она должна стать «физіологіей обществъ», должна изучать «экономическія отношенія такъ, какъ изучаются факты естественной науки». И Кропоткинъ заканчиваетъ разсужденіе замѣчаніемъ, что «научный изслѣдователь, незнакомый съ естественно-научнымъ знаніемъ, неспособенъ понять истинный смыслъ, заключенный въ понятіи закона природы».
Самъ Кропоткинъ — біологъ и въ его концепціи соціальная жизнь не есть какой-либо самостоятельный типъ существованія, не имѣющій себѣ подобныхъ, но лишь особая форма органическаго міра.
Дарвинизмъ, по убѣжденію Кропоткина, совершилъ революцію и въ области соціальнаго знанія. Но мы уже выше указывали, что Кропоткинъ далекъ отъ того ортодоксальнаго пониманія дарвинизма, которое весь жизненный процессъ сводитъ къ неограниченной и безпощадной борьбѣ за существованіе. Соціальный инстинктъ есть такой же законъ животной жизни, какъ и взаимная борьба. И человѣкъ не является исключеніемъ въ природѣ. Онъ также подчиненъ великому принципу взаимной помощи, гарантирующей наилучшіе шансы выжить и оставить потомство.
Въ этихъ положеніяхъ — ядро всѣхъ соціально-политическихъ построеній Кропоткина.
Переходя къ изученію соціальной жизни, Кропоткинъ указываетъ на народъ, массы, трудящихся, какъ могучій родникъ соціальнаго творчества, отвѣчающаго идеямъ взаимопомощи. Самый анархизмъ есть продуктъ творческой силы массъ; подобно всякому революціонному движенію онъ родился не въ кабинетѣ ученаго, не въ университетахъ, а въ нѣдрахъ народа, въ шумѣ борьбы. Къ этой идеѣ народнаго творчества Кропоткинъ возвращается непрестанно. Всѣ учрежденія, имѣвшія задачей взаимопомощь и миръ, были выработаны анонимной «толпой».
Могучему народному инстинкту, творящему истинное справедливое право, Кропоткинъ противопоставляетъ маговъ, жрецовъ, ученыхъ, законниковъ, государство, несущихъ въ соціальную жизнь ложь и тираннію. Даже когда революціонныя волны взмываютъ къ кормилу правленія людей одаренныхъ и преданныхъ народному дѣлу, и тогда они — по мнѣнію Кропоткина — не остаются на высотѣ задачи. Общественное переустройство требуетъ «коллективнаго разума массъ, работы надъ конкретными вещами», свободной отъ утопическихъ, метафизическихъ бредней.
И наиболѣе цѣлесообразную форму общественной организаціи Кропоткинъ видитъ въ общинѣ, коммунѣ, представляющей реальные интересы входящихъ въ нее членовъ, стремящейся къ широчайшему, въ предѣлахъ возможнаго, обезпеченію развитія ихъ личности. Кропоткинъ не отрицаетъ, что и коммуна знаетъ борьбу. Но... есть борьба, двигающая человѣчество впередъ. Коммуна боролась за человѣческую свободу, за федеративный принципъ; войны, которыя вели и ведутъ государства, влекутъ ограниченія личной свободы, обращеніе людей въ рабовъ государства.
Кропоткинъ неустанно разоблачаетъ, одно за другимъ «государственныя благодѣянія», и нѣтъ и не можетъ быть апологіи государственности, которая бы могла устоять предъ такимъ разъѣдающимъ анализомъ человѣческой совѣсти.
Не останавливаясь подробнѣе на изложеніи содержанія замечательнаго труда — попробуемъ прослѣдить примѣненіе авторомъ его «метода» къ соціологическому изслѣдованію.
Вся книга Кропоткина является по существу сплошнымъ обвинительнымъ актомъ по адресу государства, государства — злодѣя, государства узурпатора. И такая точка зрѣнія была бы совершенно понятной, если бы мы подходили къ государству, въ любой изъ его историческихъ формъ, съ этическимъ мѣриломъ. Но, если примѣнять методъ естествознанія, какъ только что совѣтовалъ авторъ, надо помнить, что нѣтъ законовъ, которые бы не носили неизбѣжно условнаго характера, и тогда громы Кропоткина противъ государства вообще становятся мало обоснованными. Въ своемъ историческомъ изслѣдованіи онъ самъ приходитъ къ выводу, что исторія не знаетъ непрерывной эволюціи, что различныя области по очереди были театромъ историческаго развитія; при этомъ каждый разъ эволюція открывалась фазой родового общежитія, потомъ приходила деревенская коммуна, позже свободный городъ; государственной фазой эволюція кончается. «Приходитъ государство, имперія и съ ними смерть», восклицаетъ Кропоткинъ. Вотъ именно этотъ «соціологическій законъ», представляющійся Кропоткину постояннымъ и неизмѣннымъ, и долженъ былъ бы поставить передъ нимъ вопросъ объ исторической необходимости государства. Онъ, какъ натуралистъ, долженъ былъ бы искать причинъ, почему исторія любого человѣческаго общежитія, начавъ съ «свободы», кончаетъ неизбѣжно «государствомъ — смертью», которое у Кропоткина является внезапно, какъ deus ex machina, разрушая все созданное предшествующими творческими эпохами.
Послѣ увлекательнаго повѣствованія о средневѣковой общинѣ Кропоткинъ говоритъ, что въ XVI в. пришли новые варвары и остановили, по крайней мѣрѣ, на два или на три столѣтія все дальнѣйшее культурное развитіе. Они поработили личность, разрушили всѣ междучеловѣческія связи, провозгласивъ, что только государство и церковь имѣютъ монополію объединить разрозненныя индивидуальности. Кто же они эти варвары? «Это — государство, тройственный союзъ военачальника, судьи и священника». Хотя далѣе Кропоткинъ и даетъ нѣкоторое историческое объясненіе этому внезапному вторженію варваровъ, однако объясненіе далеко недостаточное. И именно здѣсь — слабый пунктъ всей исторической аргументаціи автора. Онъ почти не изучаетъ, или не интересуется процессомъ внутренняго разложенія тѣхъ общежитій, которыя представляются ему, если не идеальными, то наиболѣе цѣлесообразными. Онъ изслѣдуетъ внѣшнюю политику по отношенію къ средневѣковой коммунѣ, городу, ремеслу и не замѣчаетъ внутренняго раскола, находящаго себѣ часто иное объясненіе, чѣмъ злая только воля заговорщиковъ противъ сосѣдскаго мира. Въ развитіи общественнаго процесса онъ почти игнорируетъ его техно-экономическую сторону, онъ не входитъ въ изученіе причинъ, повлекшихъ внутреннее разложеніе цехового строя, для него остается невыясненнымъ промышленный взрывъ конца ХVІІІ вѣка и еще ранѣе блестящее развитіе мануфактуры. Остановившись бѣгло на меркантилистической эпохѣ и сдѣлавъ общія указанія на однобокую политику государства, онъ дѣлаетъ категорическое завѣреніе объ умираніи промышленности въ XVIII вѣкѣ. Этой неполнотой историческаго анализа объясняется и нѣкоторая романтичность въ его характеристикѣ средневѣковья.
Въ результате у Кропоткина является стремленіе къ идеализаціи всякой коммуны, на какой бы низкой ступени правосознанія она ни стояла. Едва ли съ этимъ можно согласиться, именно оставаясь на почве анархистскаго міросозерцанія. Если современному передовому правосознанію претитъ государственная форма общежитія, убивающая личную иниціативу, налагающая на освободившуюся внутренно личность путы внѣшняго принужденія, безплодно расточающая человѣческія силы, утверждающая общественную несправедливость своимъ пристрастнымъ служеніемъ господствующимъ экономическимъ интересамъ, то въ отдѣльныхъ догосударственныхъ формахъ общежитія мы найдемъ ту же способность убивать свободную личность и свободное творчество, какъ и въ современномъ государствѣ. И, конечно, у государства, играющаго у Кропоткина безсмѣнно роль гробовщика свободнаго общества, были причины появленія болѣе глубокія, чѣмъ рисуетъ Кропоткинъ.
Общество истинно свободныхъ людей не можетъ породить рабства, истинно свободная коммуна не привела бы къ рабовладѣльческому государству. Но смѣшанное общество, гдѣ наряду съ свободными были и несвободные, гдѣ свобода другого цѣнилась и уважалась постольку, поскольку это не вредило собственнымъ интересамъ, гдѣ взаимопомощь диктовалась не любовью, а грубымъ эгоистическимъ расчетомъ — не могло не породить эксплоататоровъ и эксплоатируемыхъ, прійти къ разложенію и закончиться государственнымъ компромиссомъ.
Поэтому, если историко-философская теорія Кропоткина желаетъ остаться строго реалистической, она должна признать, что всѣ формы «соціальнаго» или «антисоціальнаго» закрѣпощенія, въ томъ числѣ и государство, суть также продукты творческихъ силъ массъ, а не выдумка случайныхъ, прирожденныхъ «злодѣевъ», желающихъ въ что-бы то ни стало портить человѣческую исторію. Наконецъ, какія могли бы быть причины этого постояннаго торжества ничтожной — въ количественномъ и качественномъ смыслѣ — кучки людей надъ превосходящими ихъ въ обоихъ смыслахъ массами?
Чрезмѣрная идеализація творческой силы «массъ», доходящая до настоящаго фетишизма, представляетъ также чрезвычайно уязвимый пунктъ историко-философскихъ построеній анархизма.
Уже со временъ Прудона и Бакунина въ анархистической литературѣ стало традиціоннымъ утвержденіе, что самый анархизмъ — и какъ міросозерцаніе и какъ практическія формы организаціи (соціальные институты взаимопомощи) — есть продуктъ творчества массъ.
Однако, утвержденіе это никогда и никѣмъ еще не было доказано.
Между тѣмъ, едва-ли возможно — и по существу, и методологически — отождествлять понятія «анархизма» и «взаимопомощи». Съ одной стороны, въ такомъ представленіи, «анархизмъ» становится всеобъемлющимъ; анархизмъ является какъ-бы своеобразной формой присущаго всѣмъ инстинкта самосохраненія. Съ другой стороны, институты взаимопомощи — коммуна, союзъ, партія — могутъ быть продиктованы такими интересами и чувствами, которыя не заключаютъ въ себѣ ничего анархическаго.
«Анархизмъ», какъ движеніе массъ, и по сію пору не играетъ еще нигдѣ значительной роли. Соціальныхъ институтовъ, исторически утвердившихся, анархическаго характера мы не знаемъ. Широкія, но весьма неопредѣленныя и модифицируемыя иными вліяніями симпатіи къ анархизму можно наблюдать среди крестьянскаго населенія. Нѣкоторые изслѣдователи, въ родѣ Боргіуса или Зомбарта, основываясь на наблюденіяхъ и статистическомъ матеріалѣ самихъ анархистовъ, даже опредѣленно настаиваютъ на «аграрномъ» характерѣ анархизма. «Вездѣ, гдѣ сельское населеніе поднималось до самостоятельнаго движенія, — пишетъ Зомбартъ — оно всегда носило анархическую окраску». (Италія, Испанія, Ирландія). Но это — все. И если не считать, только въ послѣдніе годы слагающагося въ замѣтныхъ размѣрахъ въ пролетарской средѣ, анархо-синдикализма, можно было-бы еще и сейчасъ характеризовать анархизмъ словами Бакунина — «бездомная странствующая церковь свободы».
Анархизмъ требуетъ исключительно высокой — этической и технической культуры. «Масса» еще нигдѣ не стоитъ на этомъ уровнѣ. И то, что «масса» терпитъ чудовищный гнетъ и уродства капиталистической системы, есть плодъ не только ея «непросвѣщенности», ея боязни «дерзаній», но того, что ей дѣйствительно еще нечего поставить на мѣсто существующей системы. Если было-бы иначе, никакіе «злодѣи» не сумѣли-бы удержать ее въ покоѣ.
Подведемъ итоги.
Если абсолютный индивидуализмъ пришелъ къ гипертрофическимъ изображеніямъ конкретной личности, до поглощенія ею всѣхъ остальныхъ индивидуальностей и всей общественности, то современный анархизмъ, несомнѣнно, погрѣшаетъ гипертрофическимъ представленіемъ роли массъ въ иниціативѣ и подготовкѣ соціальнаго акта.
Совершенно очевидно, что учрежденія, созидаемыя годами, десятилѣтіями и даже вѣками, не могутъ явиться міру разомъ по иниціативѣ «массы». Массы не заключаютъ ни «естественныхъ», ни «общественныхъ» договоровъ. Анархизмъ самъ уже давно высмѣялъ тщету подобныхъ утвержденій. И все-же, творческую иниціативу предоставляетъ мистической легендарной силѣ массъ.
Въ основѣ всякаго творческаго процесса лежитъ индивидуальная энергія. Пусть личность беретъ изъ окружающей среды питающіе ее соки, но она претворяетъ въ живые дѣйственные лозунги смутный матеріалъ, вырабатываемый массой; она пробуждаетъ таящуюся потенціальную силу массъ; она подымаетъ ихъ своимъ творческимъ энтузіазмомъ и дѣлаетъ изъ безучастныхъ свидѣтелей активныхъ борцовъ.
Конечно, массовое творчество превосходитъ глубиной и значительностью изолированныя выступленія личности. Стихійныя «народныя» движенія, выступленія «класса», представляющія разрядъ накопленной общественной энергіи, уносятъ въ жизненномъ потокѣ отдѣльныя устремленія личности, растворяютъ въ коллективномъ творчествѣ ея иниціативу. Но ни народъ, ни общественный классъ не могутъ находиться постоянно въ состояніи творческой возбужденности. Проходитъ упоеніе побѣдой или отчаяніе, вызванное пораженіемъ, и работники цѣлаго, недавно спаянные общимъ одушевленіемъ, разсыпаются въ вялой житейской обыденщинѣ до новаго подъема, новаго взрыва, вызваннаго чьей-либо личной иниціативой.
Наоборотъ, жизнь личности, съ начала до конца, можетъ быть проникнута однимъ неудержимымъ стремленіемъ, непрерывнымъ воплощеніемъ любимой идеи, неизмѣннымъ служеніемъ любимому дѣлу. Никакое общественное движеніе не можетъ въ себѣ нести такого единства настроеній, такой вѣрности исходной идеѣ, какъ отдѣльное личное выступленіе. Общественная энергія — каменьщикъ, индивидуальная — зодчій.
Такъ — первое предложеніе, первый примѣръ принадлежитъ и въ соціальномъ движеніи единственно подлинной реальности — личности. Самая общественность есть ничто иное, какъ извѣстный послѣдовательный порядокъ осуществленія личныхъ цѣлей въ соціальной средѣ. Послѣдней нѣтъ внѣ личностей, ее образующихъ; масса не мыслитъ однимъ мозгомъ, не высказывается однимъ словомъ.
И новѣйшій образецъ «массовой психологіи», притомъ наиболѣе яркій — революціонный синдикализмъ, хотя для восторженныхъ наблюдателей, въ родѣ Сореля, и вышелъ готовымъ, подобно Минервѣ, изъ критики демократіи и партійнаго соціализма, тѣмъ не менѣе въ дѣйствительности проходилъ стадію предварительной подготовки, и отдѣльныя мысли его высказывались задолго до сформированія массового теченія на конгресахъ отдѣльными лицами. На творческой роли наиболѣе сознательнаго меньшинства въ самомъ синдикализмѣ настаиваютъ даже такіе синдикалистскіе дѣятели, какъ вышедшій непосредственно изъ рабочей среды Э. Пуже (нечего уже и говорить объ идеологахъ синдикализма въ роде Лагарделля). Наконецъ, и въ синдикализмѣ есть свои «избранники» и «вожди». Правда, это не «провиденціальные» люди соціалъ-демократіи. Ни «апостольству», ни «бонапартизму» въ рядахъ синдикализма нѣтъ мѣста; его «вожди» — воистину первые среди равныхъ, но все-же они вожди и ихъ личная иниціатива, какъ во всякомъ обществѣ людей, можетъ сыграть видную роль въ выработкѣ «массовой психологіи».[16]
И всякая иная, нереалистическая концепція была бы непріемлемой для анархизма, строющаго свою философію на самоопредѣленіи автономной личности.
И тѣмъ менѣе пріемлемо возведеніе въ абсолютъ — «массы», «человѣчества», «коммуны», «соціализма» или «синдикализма» и пр. для того міровоззрѣнія, которое устами же Кропоткина объявляетъ себя свободнымъ отъ какихъ-либо «религіозныхъ» или «метафизическихъ» пережитковъ. Государство и коммуна, парламентаризмъ и прямое народовластіе, пролетаріатъ, народъ и человѣчество — временныя относительныя ступени въ безграничномъ устремленіи впередъ человѣческаго духа. И не въ частномъ торжествѣ и совершенствѣ этихъ формъ можетъ онъ найти свое упокоеніе.
Свободная философія можетъ говорить лишь о вѣчномъ движеніи. Всякая остановка и самоудовлетвореніе въ пути для нея есть смерть.
И анархизмъ долженъ смести «законы» и «теоріи», которые кладутъ предѣлъ его неутолимой жаждѣ отрицанія и свободы.
Анархизмъ долженъ строиться на томъ свободномъ, радостномъ постиженіи жизни, о которомъ намъ говоритъ интуитивная философія.
ГЛАВА IV.
Анархизмъ и энономическій матеріализмъ.
Среди множества теорій, пытавшихся заковать многообразную жизнь въ схемы отвлеченныхъ построеній, есть одна, заслуживающая особаго вниманія со стороны анархизма.
Эта теорія — доктрина «историческаго» или «экономическаго» матеріализма.
Она породила такую огромную критическую литературу, что, казалось бы, едва ли въ ней должны оставаться невыясненными какіе-либо пункты.
И между тѣмъ, споры изъ-за правильнаго ея истолкованія продолжаются и по сію пору и не только между ея ортодоксальными послѣдователями, съ одной стороны, и принципіальными ея отрицателями, съ другой, но и въ средѣ самихъ марксистовъ, которые никакъ не могутъ согласиться въ пониманіи самыхъ «основъ» теоріи и «объясняютъ» ее и «продолжаютъ» въ самыхъ разнообразныхъ направленіяхъ. Къ неменьшимъ противорѣчіямъ привело усвоеніе доктрины экономическаго матеріализма въ томъ синдикалистскомъ теченіи, которое называетъ себя «нео-марксизмомъ», и которое наряду съ экономикой въ своей историко-философской концепціи удѣлило такое выдающееся мѣсто иниціативе автономной личности.
Какъ во всякомъ человѣческомъ твореніи, подчиненномъ неизбѣжнымъ законамъ времени, въ теоріи экономическаго матеріализма есть — элементы случайнаго, преходящаго значенія, уже отжившіе и отживающіе, объясняемые особенностями момента ея возникновенія, индивидуальными особенностями ея творцовъ, наконецъ, спеціальными ея заданіями, но есть въ ней элементы, которымъ суждено пережить творца, ибо за обманчивой оболочкой логическихъ хитросплетеній въ нихъ бьется подлинная жизнь.
Эти элементы — дороги и анархизму.
Отношеніе анархизма къ экономическому матеріализму носитъ доселѣ двойственный характеръ. Съ одной стороны, и у анархистов мы найдемъ сколько угодно заявленій въ духѣ историческаго матеріализма. Бакунинъ, давъ въ «Государственности и анархіи» всесторонннюю и безпощадную характеристику Маркса, тѣмъ не менѣе пишетъ: «...Марксъ... доказалъ ту несомнѣнную истину, подтверждаемую всей прошлой и настоящей исторіей человѣческаго общества, народовъ и государствъ, что экономическій фактъ всегда предшествовалъ и предшествуетъ юридическому и политическому праву. Въ изложеніи и въ доказательствѣ этой истины состоитъ именно одна изъ главныхъ научныхъ заслугъ Маркса». Не менѣе категорически въ этомъ смыслѣ высказывался онъ и въ другихъ своихъ сочиненіяхъ.
Съ другой стороны, извѣстно и чрезвычайно популярно отрицательное отношеніе къ «діалектическому методу» Кропоткина. «Мы такого метода не признаемъ — пишетъ онъ — какъ его не признаетъ и все современное естествознаніе. Современному естествоиспытателю «діалектическій методъ» напоминаетъ о чемъ-то давно прошедшемъ, давно пережитомъ наукой; открытія девятнадцатаго вѣка въ механикѣ, физикѣ, химіи, біологіи, физической психологіи, антропологіи и такъ далѣе были сдѣланы не діалектическимъ методомъ, а методомъ естественно-научнымъ, индуктивно-дедуктивнымъ. А такъ какъ человѣкъ — часть природы и такъ какъ его «духовная» жизнь, какъ личная, такъ и общественная — также явленіе природы, какъ и ростъ цвѣтка или умственное развитіе муравья и его общественной жизни, то нѣтъ причины мѣнять методъ изслѣдованія, когда мы переходимъ отъ цвѣтка къ человѣку или отъ поселенія бобровъ къ человѣческому городу». («Современная наука и анархизмъ»).
Оставляя совершенно въ сторонѣ вопросъ о томъ, приводитъ-ли примѣненіе «естественно-научнаго» метода въ изслѣдованіи общественныхъ явленій неизбѣжно къ анархизму, отмѣтимъ только пренебрежительное отношеніе Кропоткина къ историческому матеріализму, какъ «метафизикѣ».
Что-же такое историческій матеріализмъ?
Довольно бросить бѣглый поверхностный взглядъ на тотъ сложный хаосъ разнородныхъ взаимомодѣйствующихъ явленій, изъ которыхъ слагается наша жизнь, чтобъ оцѣнить истинное значеніе экономическаго фактора. Нѣтъ ни одной стороны народной жизни, которая не находилась-бы въ тѣсномъ единеніи съ нимъ, нѣтъ ни одного крупнаго общественнаго факта, въ созданіи котораго онъ не принялъ бы участія.
Однако, отсюда далеко до признанія экономического фактора единственнымъ, исключительнымъ источникомъ всѣхъ явленій общественной жизни, какъ утверждаетъ теорія экономического матеріализма, сводящая всѣ общественныя явленія къ одной экономической первоосновѣ.
Основныя положенія этой теоріи формулируются главнымъ ея творцомъ — Марксомъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Bъ отправленіи своей общественной жизни люди вступаютъ въ опредѣленныя, неизбѣжныя, отъ ихъ воли не зависящія отношенія — производственныя отношенія, которыя соотвѣтствуютъ опредѣленной ступени развитія матеріальныхъ производительныхъ силъ. Сумма этихъ производственныхъ отношеній составляетъ экономическую структуру общества, реальное основаніе, на которомъ возвышается правовая и политическая надстройка и которому соотвѣтствуютъ опредѣленныя формы общественнаго сознанія... Не сознаніе людей опредѣляетъ формы ихъ бытія, но, напротивъ, общественное бытіе опредѣляетъ формы ихъ сознанія... На извѣстной ступени своего развитія матеріальныя производительныя силы общества впадаютъ въ противорѣчіе съ существующими производственными отношеніями, или, употребляя юридическое выраженіе, съ имущественными отношеніями, среди которыхъ онѣ до сихъ поръ дѣйствовали. Изъ формъ развитія производительныхъ силъ эти отношенія дѣлаются ихъ оковами. Тогда наступаетъ эпоха кризисовъ... При ихъ разсмотрѣніи слѣдуетъ всегда имѣть въ виду разницу между матеріальнымъ переворотомъ въ экономическихъ условіяхъ производства, который можно опредѣлить съ естественно-научной точностью, и идеологическими формами, въ которыхъ люди воспринимаютъ въ своемъ сознаніи этотъ конфликтъ, и въ которыхъ вступаютъ съ нимъ въ борьбу. Насколько нельзя судить объ индивидуумѣ по тому, что онъ о себѣ думаетъ, настолько же нельзя судить о такой эпохѣ кризиса, по ея сознанію; напротивъ, нужно это сознаніе объяснить изъ противорѣчія матеріальной жизни, изъ существующаго конфликта между общественными производительными силами и производительными отношеніями. Ни одна общественная формація не погибаетъ раньше, чѣмъ разовьются всѣ производительныя силы, для которыхъ она даетъ достаточно простора, и новыя, высшія производственныя отношенія никогда не появляются на свѣтъ раньше, чѣмъ созрѣютъ матеріальныя условія ихъ существованія на лонѣ стараго общества. Поэтому, человѣчество ставитъ себѣ всегда только такія задачи, которыя оно можетъ рѣшить, такъ какъ, при ближайшемъ разсмотрѣніи, всегда окажется, что сама задача только тогда выдвигается, когда существуютъ уже матеріальныя условія, необходимыя для ея разрѣшенія или когда они, по крайней мѣрѣ, находятся въ процессѣ возникновенія». («Къ критикѣ нѣкоторыхъ положеній политической экономіи«).
Въ «Коммунистическомъ Манифестѣ»: «Теоретическія положенія коммунистовъ ни въ коемъ случаѣ не основываются на идеяхъ или принципахъ, придуманныхъ или открытыхъ какимъ-нибудь изобрѣтателемъ мірового обновленія. Они являются только общимъ выраженіемъ реальныхъ условій происходящей въ дѣйствительности классовой борьбы, свершающагося передъ нашими глазами историческаго движенія».
Остановимся, наконецъ, на воззрѣніяхъ Энгельса — этого наиболѣе авторитетнаго толкователя марксизма: «... Производство, а послѣ него и обмѣнъ продуктовъ производства — пишетъ онъ въ Анті-Дюрингѣ — образуютъ основу всякаго общественнаго строя; въ каждой исторической общественной формѣ распредѣленіе продуктовъ, a вмѣсте съ тѣмъ и общественное расчлененіе на классы и сословія опредѣляюся тѣмъ, что и какъ производится и какъ обмѣнивается произведенное — поэтому, основныхъ причинъ всѣхъ общественныхъ измѣненій и политическихъ переворотовъ слѣдуетъ искать не въ головахъ людей и не въ ихъ измѣняющихся представленіяхъ о вѣчной правдѣ и вѣчной справедливости, а въ измѣненіях способовъ производства и обмѣна; ихъ надо искать не въ философіи, а въ экономике данной эпохи...» Или въ другомъ мѣстѣ: «.. въ любомъ обществѣ съ естественно-развивающимся производствомъ... не производители господствуют надъ средствами производства, но средства производства господствуютъ надъ производителями».
Такова — теорія. Производственныя отношенія, а отчасти и отношенія обмѣна (у Энгельса) — объявлены базисомъ, на которомъ воздвигается вся общественная жизнь. Религія, мораль, право, философія, искусство — лишь надстройки на этомъ грандіозномъ фундаментѣ.
Въ моемъ бѣгломъ очеркѣ я совершенно оставляю въ сторонѣ вопросъ о крайней неточности и неопредѣленности тѣхъ понятій, которыми оперируетъ теорія. Марксъ, Энгельсъ и ихъ послѣдователи постоянно употребляютъ термины « производственныя отношенія», «способы производства», «условія производства» или «надстройка», «отраженіе», «рефлексъ», нигдѣ не давая имъ удовлетворительнаго объясненія, нигдѣ не поясняя самой природы отношеній между «бытіемъ» и «сознаніемъ», между «базисомъ» и «надстройкой» и т. д., и т. д. Уже одна невыясненность терминологіи подаетъ поводъ къ многочисленнымъ недоразумѣніямъ и своеобразнымъ толкованіямъ доктрины. Совершенно справедливо указываютъ, напримѣръ, критики, что одно и то же явленіе, какъ причина, можетъ вызывать самыя разнообразные «отраженія» въ зависимости отъ той среды, въ которой дѣйствуетъ данная причина. Такимъ образомъ, между первопричиной — экономикой и «отраженіемъ» можетъ и не быть никакого сходства, потому что среда кладетъ свою печать на самое образованіе «отраженія».
Первое, что можетъ быть поставлено въ упрекъ теоріи, это то, что она является совершенно голословной. Въ всей литературѣ марксизма мы не найдемъ сколько нибудь удовлетворительнаго, систематическаго ея обоснованія. Всѣ доказательства въ ея пользу сводятся обычно къ болѣе или менѣе удачнымъ историческимъ иллюстраціямъ, которыя должны подчеркнуть особую важность экономическаго фактора. Теорія должна быть просто принята «на вѣру». И если защитники ея не могли обнаружить ея истинности зато они настаивали на ея могучемъ «практическомъ» значеніи. Теорія можетъ опредѣлить политику пролетарскаго класса, быть «мифомъ» — недоказуемымъ, но субъективно достовѣрнымъ. При этомъ, теорія, при ея чрезвычайной внѣшней стройности, открывала соблазнительную возможность уложить огромный, хаотическій потокъ жизни въ легкія и удобныя «формулы», не смущаясь тѣмъ, что «слова» въ нихъ часто замѣняли «понятія».
Однако, никакими «упрощеніями» нельзя было защитить теорію въ ея первоначальномъ смыслѣ и постепенно у самихъ «экономическихъ матеріалистовъ» она утратила свой категорическій характеръ.
Уже Энгельсъ призналъ въ одномъ изъ своихъ писемъ, что «въ томъ фактѣ, что младшіе (ученики) придаютъ экономической сторонѣ болѣе, чѣмъ слѣдуетъ, значенія, виноваты Марксъ и отчасти онъ самъ». «Мы должны были — писалъ Энгельсъ — въ виду противниковъ настаивать на отрицаемомъ главномъ принципѣ, и не всегда имѣли время, мѣсто и поводъ указывать на остальные, участвующіе во взаимодѣйствіи моменты»... Такимъ образомъ, по признанію виднѣйшаго теоретика «экономическаго матеріализма», абсолютный смыслъ доктрины въ значительной мѣрѣ является плодомъ агитаціонныхъ и полемическихъ увлеченій, объясняется особенностями момента. Но это признаніе для насъ драгоцѣнно еще съ другой стороны. Если Энгельсъ говоритъ про взаимодѣйствіе моментовъ, то этимъ самымъ онъ невольно признаетъ, что и факторъ экономическій испытываетъ это взаимодѣйствіе, т.-е. что онъ является не только причиной или даже единственной причиной, какъ объ этомъ говоритъ теорія въ неумолимой формулировкѣ Маркса, но и слѣдствіемъ. Признаніе же того, что экономическій факторъ можетъ быть и слѣдствіемъ въ ряду взаимодѣйствующихъ явленій, исключаетъ всякую возможность признанія его первопричиной.
Между тѣмъ, взаимодѣйствія разнообразныхъ сторонъ общественной жизни не рѣшаются отрицать даже и наиболѣе слѣпые поклонники теоріи. «...Взаимодѣйствіе — пишетъ Бельтовъ (Плехановъ) — безспорно существуетъ между всѣми сторонами общественной жизни». И у Маркса и у Энгельса мы найдемъ множество отдѣльныхъ мѣстъ, въ которыхъ они признаютъ обратное вліяніе на экономику, но наиболѣе интереснымъ представляется намъ то знаменитое мѣсто въ I томѣ «Капитала», гдѣ Марксъ описываетъ процессъ труда. «...Въ концѣ рабочаго процесса — замѣчаетъ онъ — получается результатъ, который при началѣ этого процесса уже существоваль въ представленіи работника, т.-е. въ идеѣ. Человѣкъ не только производитъ своею дѣятельностью извѣстное измѣненіе формы въ данномъ веществѣ природы, но онъ осуществляетъ въ этомъ веществѣ свою цѣль, которую онъ знаетъ напередъ, которая, съ принудительностью закона, опредѣляетъ способъ его дѣятельности, и которой онъ долженъ непрерывно подчинять свою волю... «Это мѣсто является однимъ изъ самыхъ краснорѣчивыхъ опроверженій разбираемой теоріи. Если Марксъ утверждаетъ, что всякій процессъ труда, всякая дѣятельность обусловливается напередъ поставленной цѣлью, ясно, что производству и производственнымъ отношеніямъ, изъ него вытекающимъ, предшествуетъ идея, что, вопреки утвержденію Энгельса, «конечныхъ причинъ общественныхъ измѣненій слѣдуетъ искать «въ головахъ людей» раньше, чѣмъ въ «измѣненіяхъ способовъ производства и обмѣна».
И послѣдующій марксизмъ долженъ былъ фатально дѣлать уступки «взаимодѣйствію».
Такъ Каутскій въ своей статьѣ о матеріалистическомъ міровоззрѣніи долженъ былъ въ историческомъ процессѣ удѣлить мѣсто и личности: «Индивидуумъ — писалъ онъ — не можетъ создать новыхъ проблемъ для общества, хотя порою онъ и можетъ видѣть проблемы тамъ, гдѣ ихъ до сихъ поръ не видалъ никто; равнымъ образомъ, онъ связанъ и въ отношеніи рѣшенія проблемъ, такъ какъ средства для этого ему даетъ его время; напротивъ того, выборъ проблемъ, которымъ онъ себя посвящаетъ, выборъ точки зрѣнія, съ которой онъ приступаетъ къ ихъ рѣшенію, направленіе, въ которомъ онъ ищетъ этого рѣшенія, и наконецъ, сила, съ которой онъ его защищаетъ, не сводятся безъ остатка къ однимъ экономическимъ условіямъ; всѣ эти обстоятельства оказываютъ вліяніе, если и не на направленіе развитія, то на его ходъ, на способъ, какимъ осуществляется, въ концѣ концовъ, неизбѣжный результатъ, и въ этомъ смыслѣ — отдѣльные индивидуумы могутъ дать много, очень много для своего времени».
Бернштейнъ и другіе ревизіонисты, разумѣется, ушли еще гораздо дальше отъ первоначальныхъ твердынь теоріи, отказываясь признавать за экономикой абсолютное значеніе.
То, что можетъ быть здѣсь поставлено въ упрекъ экономическому матеріализму въ некритической его формѣ, это — то, что, называя себя эволюціоннымъ ученіемъ, онъ совершенно игнорируетъ эволюцію «личности». Ортодоксальные марксисты, съ такимъ жаромъ отстаивающіе законы исторической необходимости, готовые принести имъ въ жертву человѣческую иниціативу и свободное творчество, забываютъ, что «я съ моимъ сознаніемъ, съ моей совѣстью — есть также исторія». (Масарикъ. Философскія и соціологическія основанія марксизма).
Даже признавая, что человѣческая психика реагируя на окружающія явленія, обусловливаетъ ихъ и сознательно опредѣляетъ, они все же не считаются съ измѣненіями, происходящими во времени въ самой человѣческой природѣ, въ способности ея реагировать на окружающія явленія. Они слѣдятъ за малѣйшими измѣненіями въ соціальной структурѣ и остаются равнодушными къ измѣненіямъ въ человѣческой волѣ и психикѣ. Глубокое замѣчаніе Маркса, что «человѣкъ, дѣйствуя на внѣшнюю природу, измѣняетъ свою собственную», было совершенно забыто въ разработкѣ доктрины историческаго матеріализма. И это сознательное или безсознательное игнорированіе успѣховъ человѣческой природы, искусственное ея «упрощеніе» въ угоду «объективнымъ законамъ» есть несомнѣнный результатъ полнаго неуваженія къ историческому опыту. Ростъ личности, съ точки зрѣнія историческаго процесса, т.-е. взаимодѣйствія между личностью, обществомъ и матеріальной средой — есть фактъ громадной соціологической важности, и тѣ, которые дорожатъ законами исторической необходимости, должны были бы озаботиться приведеніемъ въ соотвѣтствіе успѣховъ матеріальной культуры съ интеллектуальными и моральными успѣхами личности.
Личность живетъ не для историческихъ законовъ, и ихъ фетишизмъ обязателенъ лишь для первичныхъ стадій человѣческаго развитія; соціальный прогрессъ съ каждымъ днемъ расширяетъ возможности сознательнаго самоопредѣленія личности въ стихійномъ до этого общественномъ процессѣ.
По мѣрѣ восхожденія на высшія ступени, человѣкъ начинаетъ самъ ковать свое «общественное бытіе».
Въ результатѣ теорія экономическаго матеріализма оказалась совершенно безсильной разрѣшить антиномію свободы и необходимости.
Противорѣчіе это, проникающее всю теорію, нашло превосходную формулировку въ трудѣ проф. Булгакова — «Философія хозяйства».
Съ одной стороны, экономическій матеріализмъ — пишетъ онъ — есть «радикальный соціологическій детерминизмъ, на все смотрящій черезъ призму неумолимой, желѣзной необходимости, «игнорирующій личность», «приравнивающій ее къ нулевой величинѣ», «чуждый всякой этики».
Съ другой, онъ — «не менѣе-же радикальный прагматизмъ, философія дѣйствія», для которой «міръ пластиченъ и нѣтъ ничего окончательно предопредѣленнаго, неумолимаго, неотвратимаго»; этотъ экономическій матеріализмъ — «въ своей соціалистической интерпретаціи, насквозь этиченъ», т.-е. обращается къ человѣческой волѣ — ея свободѣ. И самая формула «свобода есть познанная необходимость» — «насквозь прагматична», такъ какъ «познаніе есть идеальное преодолѣніе слѣпой необходимости, а за нимъ слѣдуетъ и реальное».
Этими замѣчаніями, которыя можетъ раздѣлить всякая непредубѣжденная критика, внѣ зависимости отъ ея соціально-политическихъ платформъ, подрываются самыя основанія теоріи въ ея первоначальной непримиримости.
Наоборотъ, тѣ аргументы, которыми обычно пытаются защищать теорію экономическаго матеріализма въ этой ранней ея формѣ, оказываются слабыми и малодоказательными.
Проф. Туганъ-Барановскій такъ формулируетъ важнѣйшіе изъ этихъ аргументовъ: «1) неизбѣжность хозяйственнаго труда для созданія матеріальной основы всякой иной дѣятельности, 2) количественное преобладаніе хозяйственнаго труда въ общей совокупности соціальной дѣятельности и 3) наконецъ, наличность въ хозяйственномъ процессѣ мало измѣняющагося матеріальнаго момента, не зависящаго отъ соціальнаго развитія и опредѣляющаго его».
Но совершенно справедливо указываетъ онъ, что, оставаясь именно на почвѣ этихъ аргументовъ, можно констатировать «неизбѣжность уменьшенія преобладающаго вліянія хозяйства по мѣрѣ хода исторіи. Чѣмъ ниже производительность труда, тѣмъ тѣснѣе зависимость соціальнаго развитія отъ матеріальнаго момента внѣшней природы. Но само это развитіе создаетъ условія для относительнаго освобожденія общества отъ власти хозяйственнаго момента ...Общественное бытіе есть не только причина, но и продуктъ сознанія; и чѣмъ дальше идетъ общество, тѣмъ въ большей мѣрѣ общественный строй, всѣ формы общежитія, и даже форма хозяйства становятся продуктомъ свободнаго сознанія людей...»
Однимъ словомъ, если экономическій матеріализмъ, онъ не хочетъ, по слову Плеханова, отнесенному имъ къ анархизму, быть «тощей абстракціей», то онъ долженъ отказаться отъ утвержденія, что экономическій факторъ есть факторъ первоначальный, къ которому возвращается и отъ котораго исходитъ все. Онъ лишь одинъ изъ факторовъ, взаимодѣйствующихъ въ общественномъ процессѣ.
Любое общественное явленіе опредѣляется не одной, a цѣлой совокупностью причинъ. Въ свою очередь, причины, какъ выражается Минто, есть «совокупность всѣхъ условій явленія, какъ положительныхъ, такъ и отрицательныхъ, при наличности которыхъ всегда будетъ происходить данное слѣдствіе». Поэтому, всякое исканіе первичнаго двигателя исторіи не только заранѣе обречено на неудачу, но является и научно совершенно несостоятельнымъ.
По остроумному замѣчанію Бернгейма, экономическій матеріализмъ, гипостазируя, какъ самостоятельно дѣйствующую силу и выставляя, какъ основную причину всего соціальнаго развитія — только одну сторону человѣческой дѣятельности — матеріально-экономическую, впадаетъ въ обычную логическую ошибку матеріализма — смѣшеніе «непремѣннаго условія» съ «производящей причиной». Краснорѣчивой илюстраціей могутъ служить слова Энгельса, которыми экономическіе матеріалисты обычно защищаютъ творческую роль «экономики»: «Люди должны сначала ѣсть, пить, имѣть жилище, одѣваться, прежде чѣмъ думать и сочинять, заниматься политикой, наукой, искусствомъ, религіей — и т. п.» («Lehrbuch der historischen Methode und der geschichtsphilosophie»).
Такъ падаютъ претензіи экономическаго матеріализма на универсализмъ. Стремленіе его объяснить «все», исходя изъ одной экономической первоосновы, несостоятельно. Онъ преувеличилъ свое значеніе, полагая, что въ немъ ключъ ко всѣмъ историческимъ эпохамъ, къ раскрытію всѣхъ сокровеннѣйшихъ тайнъ исторической общественности.
Такъ-же должны пасть и его претензіи на «научность». Марксизмъ есть культъ науки. Онъ назвалъ «свой» соціализмъ научнымъ и именно въ «научности» его видѣлъ его способность разрѣшить всѣ «проклятые вопросы» и утвердить торжество правды.
Но марксизмъ утверждаетъ себя, какъ міросозерцаніе. А строить все міросозерцаніе на «наукѣ» — ненаучно прежде всего. Это должно быть ясно послѣ всѣхъ разсужденій предыдущей главы.
Необходимо также имѣть въ виду, что наука полагается не только актами интеллекта, но прежде всего актами воли, ибо, какъ остроумно однажды писалъ проф. Зѣлинскій, «наука можетъ доказать, что угодно, кромѣ самой себя, т.-е. своего основанія. Доказуемо лишь предпослѣднее, послѣднее же нѣтъ. «Послѣднее» есть всегда предметъ вѣры и утверждается волей.
Наконецъ, именно «научность» марксизма — если не разумѣть подъ ней личной глубокой учености Маркса — и подлежитъ оспариванію. Апріорныя и одностороннія наблюденія, обобщенія, построенныя на параллеляхъ, аналогіяхъ и наудачу вырванныхъ историческихъ примѣрахъ, полное смѣшеніе «объективнаго» и «причиннаго» съ «должнымъ» и политикой — все это не имѣетъ ничего общаго съ «научностью», въ общепринятомъ смыслѣ этого слова.
Марксизмъ—силенъ пламенной односторонностью своего вѣрованія въ всеразрѣшающую силу экономическаго прогресса, вѣрой въ то, что стихійныя силы «бытія» внѣ человѣческой воли и вопреки ей приведутъ человѣчество къ счастливому и справедливому концу. Пролетаріатъ въ этой системѣ былъ объявленъ естественнымъ, необходимымъ выразителемъ той «правды», которая, наперекоръ торжествующей сейчасъ злой волѣ, будетъ въ конечномъ счетѣ побѣдителемъ. Полная гармоніи общественность — есть цѣль исторической миссіи пролетаріата.
Марксизмъ, такимъ образомъ, проникнутъ чисто-буржуазнымъ, раціоналистическимъ оптимизмомъ. Онъ — также утопиченъ, какъ презираемые имъ утописты. Марксизмъ напитанъ не безпокойнымъ критическимъ духомъ научности, но спокойнымъ благимъ духомъ фатализма. Тотъ фетишизмъ товара и товарныхъ отношеній, который составляетъ наиболѣе геніальное открытіе Маркса, отъ котораго остерегалъ онъ всѣхъ другихъ — подстерегъ eго самого. Стихійныя силы развитія съ ихъ «разумной» цѣлью — торжества соціалистическихъ началъ — стали подлиннымъ фетишемъ марксизма. Человѣкъ сталъ лишь относительнымъ, исторически преходящимъ отраженіемъ тѣхъ силъ, которыя слагаютъ и обнаруживаютъ свое дѣйствіе внѣ его.
Теорія экономическаго матеріализма — характерна лишь для опредѣленныхъ ступеней человѣческаго и общественнаго развитія. Она не можетъ претендовать на объективную цѣнность, на постоянное универсальное значеніе, ибо не слѣдуетъ забывать, что самъ творецъ теоріи, согласно собственной доктринѣ, могъ видѣть въ ней лишь продуктъ опредѣленныхъ производственныхъ отношеній. Съ измѣненіемъ послѣднихъ падаетъ и самая теорія. Она — относительный, временный, психологическій фактъ и не можетъ, конечно, играть роли вѣчнаго глашатая истины. Самъ Энгельсъ предвидѣлъ моментъ, когда должна она рухнуть. «Только тогда — пишетъ онъ въ Анти-Дюрингѣ про будущій соціалистическій строй — люди будутъ сами вполнѣ сознательно творить свою исторію, а приводимыя ими въ движеніе общественныя силы станутъ давать все въ большей мѣрѣ желаемые для нихъ результаты. Это будетъ прыжкомъ человѣчества изъ царства необходимости въ царство свободы».
Но то, что Энгельсъ считалъ возможнымъ лишь по достиженіи соціалистической конструкціи общества — свободное сознательное творчество, становится лозунгомъ уже современной личности, не желающей мириться съ опредѣленіемъ ея «сознанія и воли» «бытіемъ», а стремящейся сознательно устроять свою жизнь.
И это начинаютъ признавать даже тѣ, которые доселѣ еще продолжаютъ религіозно вѣровать въ доктрину экономическаго матеріализма. Долгое время вѣровали они въ абсолютныя формулы развитія и гибели капитализма, установленныя марксизмомъ. Вѣрили и въ знаменитую «катастрофическую теорію», согласно которой капитализмъ долженъ былъ рухнуть, вслѣдствіе хронической дезорганизаціи промышленности — явленія стихійнаго, слагающагося внѣ воли людей.
Но и въ соціальной философіи современной нѣмецкой соціалъ-демократіи теорія «саморазрушенія» капиталистическаго общества постепенно утрачиваетъ значеніе одной изъ центральныхъ руководящихъ идей. Она отступаетъ на задній планъ, принимается за деталь. На первый планъ и современная соціалъ-демократія выдвигаетъ моментъ классовой борьбы, утверждая, что послѣдняя поколеблетъ зданіе капитализма ранѣе, чѣмъ это сдѣлала бы хроническая дезорганизация промышленности. Такимъ образомъ — классовое самосознаніе, классовая воля получаютъ рѣшительное предпочтеніе передъ объективнымъ факторомъ развитія — безсознательнымъ, стихійнымъ экономическимъ процессомъ. Еще болѣе рельефно выступаетъ этотъ моментъ въ — «революціонномъ синдикализмѣ», вся тактика котораго построена на признаніи примата «сознанія» передъ «бытіемъ», и методъ «прямого воздѣйствія» котораго есть наиболѣе яркое утвержденіе свободы человѣческой воли, свободы человѣческаго творчества отъ мертвыхъ производительныхъ силъ.
Однако, въ экономическомъ матеріализмѣ есть сторона, которая должна найти себѣ мѣсто и въ соціологическомъ credo анархизма.
Эта сторона — постоянно бьющееся въ немъ, несмотря на всѣ paціоналистическіе наряды, напоминаніе о жизни.
Никто не нанесъ экономическому матеріализму болѣе страшныхъ ударовъ, чѣмъ онъ самъ. Претендуя на «универсализмъ», «научность», «абсолютную» теорію развитія, онъ самъ сдѣлалъ все, чтобы подорвать свои претензіи.
Разрушительнымъ для его утвержденій оказалось то, что онъ въ основу ихъ положилъ начало жизни. Вѣчная текучесть жизни не имѣетъ ничего общаго съ «универсализмомъ», «научностью», «абсолютизмомъ» придуманныхъ теорій. И даже сверхисторическій — у послѣдователей его — авторитетъ Маркса оказался безсильнымъ спасти въ неприкосновенномъ видѣ его теоріи. Но постоянное возвращеніе отъ головокружительныхъ полетовъ мысли, отъ утопій и миѳологіи къ реальной дѣйствительности есть огромная заслуга марксизма. И анархизмъ долженъ ее помнить.
ГЛАВА V.
Анархизмъ и политика.
Является довольно распространенным мнѣніемъ, что анархисты отрицаютъ политическую борьбу.
«Традиціонный анархизмъ» протестует противъ этого.
«Откуда могло сложиться подобное мнѣніе? — читаемъ мы въ сборникѣ писателей этого теченія — «Хлѣбъ и Воля». Факты, напротивъ, доказываютъ, что въ современной Европѣ только анархисты ведутъ революціонную борьбу съ государствомъ и его представителями, а государство, вѣдь, учрежденіе политическое par excellenсе.. Не только анархисты не отрицаютъ политической революціонной борьбы, а за послѣдніе тридцать лѣтъ въ Европѣ только анархисты и вели революціонную пропаганду...»
Въ чемъ же заключается эта политическая борьба противъ государства? Сведенная къ ея истиннымъ размѣрамъ, это — борьба противъ демократіи: парламентаризма и политическихъ партій.
Демократія есть самодержавіе народа, народовластіе, признаніе того, что суверенитетъ — единый, неотчуждаемый, недѣлимый принадлежитъ народу.
Идея «народовластія» — и сейчасъ еще общепризнанный идеалъ радикальной политической мысли.
Но, не говоря уже о болѣе раннемъ опытѣ, весь опытъ ХІХ-го вѣка обнаружилъ тщету народныхъ упованій на «демократію». Народовластіе есть фикція. Народнаго суверенитета нѣтъ и не можетъ быть — пишетъ выдающійся нѣмецкій государственникъ — Рихардъ Шмидтъ («Allgemeine Staatslehre»). Въ реальной государственной жизни дѣйствуетъ не народъ, какъ таковой, но опредѣленный верховный органъ, болѣе или менѣе удачно представляющій хаосъ индивидуальныхъ воль, слагающихъ народъ. Государство въ лицѣ верховнаго законодательнаго органа вытѣсняетъ «правящій народъ». Суверенитетомъ облеченъ не онъ, но «органъ», отражающій волю сильнѣйшихъ, фактически волю господствующаго общественнаго класса.
«Самодержавіе народа» — одна изъ самыхъ раннихъ, политическихъ конструкцій. Ее знаетъ античный міръ, ее знало средневѣковье. Но въ полной, разработанной, категорической формѣ она — продуктъ просвѣтительнаго потока XVIII-го вѣка и связывается, по преимуществу, съ именемъ Руссо. Ему принадлежитъ наиболѣе глубокая политическая формулировка того общественнаго процесса, который заключался въ переходѣ отъ самодержавія монарха къ самодержавію народа. Этотъ переходъ былъ связанъ непосредственно съ появленіемъ на исторической аренѣ новой силы — буржуазіи.
Ея значеніе было огромно. Въ концѣ XVIII-го вѣка весь міръ съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдилъ за событіями, протекавшими въ революціонной Франціи. Величайшая изъ всѣхъ дотолѣ бывшихъ историческихъ драмъ — Великая революція въ однихъ вселяла трепетъ и ужасъ, въ другихъ рождала восторги. Впервые среди феодальныхъ обломковъ юная буржуазія властно возвысила свой голосъ, впервые языкомъ просвѣтительной философіи и революціонныхъ публицистовъ заговорила она о неотъемлемыхъ священныхъ правахъ человѣка и гражданина. Все, казалось, улыбалось тогда этой вновь народившейся силѣ, могуче прокладывавшей себѣ новую дорогу. Буржуазія была властителемъ думъ.
Въ знаменитой брошюрѣ «О третьемъ сословіи» аббатъ Сіесъ въ трехъ вопросахъ и отвѣтахъ резюмировалъ сущность соціально-политическихъ стремленій современной ему буржуазіи. «Что такое третье сословіе?» спрашивалъ онъ — «Все!» «Чѣмъ оно было до сихъ поръ?» «Ничѣмъ!» «Чѣмъ оно желаетъ быть?» «Быть чѣмъ-нибудь!»
И жизнь благосклонно отнеслась къ требованіямъ революціонной буржуазіи; прошли года — и во всѣхъ конституціонныхъ странахъ мы видимъ ее не въ скромной роли «чего-нибудь», а верховной вершительницей судебъ цѣлыхъ народовъ.
Ей стали принадлежать и экономическій и юридическій суверенитетъ. Народовластіе, о которомъ она говорила въ своихъ деклараціяхъ и конституціяхъ, стало ея властью, самодержавіе народа — ея самодержавіемъ.
Демократія — сулила: полное равенство, отрицаніе всѣхъ привиллегій и преимуществъ, привлеченіе всѣхъ къ управленію страной. Это оказалось несбыточной мечтой. Съ одной стороны, уже по причинамъ формальнаго свойства, оказалось невозможнымъ сдѣлать народъ — дѣйствительнымъ сувереномъ. То, что было бы мыслимо въ небольшой общинѣ, технически оказалось не подъ силу обширному народу. И кучка выборныхъ, далекихъ подлинной волѣ народа, стала фактическимъ сузереномъ. Съ другой — суверенная буржуазія сдѣлала все, чтобы обезпечить «свое» самодержавіе и защищать его отъ посягательствъ безпокойныхъ индивидуальностей, недовольныхъ тѣмъ порядкомъ, который былъ упроченъ буржуазнымъ законодательствомъ. Принципъ народовластія былъ обрѣзанъ, извращенъ. Для выраженія правильной народной воли — понадобились цензы: имущественный, осѣдлости, возраста и пола. Въ принципѣ народовластія, этой фикціи, господствующій классъ нашелъ свою лучшую защиту. Онъ сталъ ея идейнымъ и практическимъ щитомъ противъ всѣхъ «народныхъ» нападеній.
Критика демократіи есть вмѣстѣ критика принципа большинства.
Въ настоящее время общепризнано, что этотъ принципъ былъ принятъ не во всѣхъ раннихъ демократіяхъ. «Демократіи древности — пишетъ Еллинекъ въ своемъ этюдѣ «Право меньшинства» — знали принципъ большинства и проводили его различнымъ образомъ, часто признавая при этомъ и права меньшинства. Напротивъ, средневѣковый міръ призналъ его далеко не сразу и съ оговорками. Сильно развитое чувство личности, которымъ отличались германскіе народы, не мирилось съ тѣмъ, что двое всегда должны значить больше, чѣмъ одинъ. Одинъ храбрый могъ побѣдить въ открытой борьбѣ пятерыхъ, — почему же долженъ онъ въ совѣтѣ склоняться передъ большинствомъ. И потому въ средневѣковыхъ сословныхъ собраніяхъ мы часто встрѣчаемся съ принципомъ, что рѣшать должна pars sanior а не pars major, иначе — что голоса надлежитъ взвѣшивать, а не считать. Въ нѣкоторыхъ сословныхъ корпорацияхъ вплоть до позднѣйшаго времени вообще не производился правильный подсчетъ голосовъ, напримѣръ — въ венгерскомъ сеймѣ. Въ общественной жизни германцевъ первоначально всѣ рѣшенія принимались единогласно — особенно при выборахъ, — большею частью путемъ аккламаціи, которою заглушались голоса несогласнаго меньшинства». И не только у германцевъ требовалось для принятія важныхъ рѣшеній единодушіе собранія, то-же было и въ славянскомъ мірѣ.
Однако, при переходѣ къ большимъ демократіямъ современности стало очевиднымъ, что народовластіе въ его чистой формѣ — невозможно. И новая демократія на мѣсто единогласія поставила начало большинства.
Послѣднее было объявлено единственно возможнымъ способомъ рѣшенія общенародныхъ вопросовъ; меньшинство должно было смириться, за большинствомъ была признана постоянная привиллегія правды.
Однако, подобное признаніе было слишкомъ вопіющимъ компромиссомъ, и апологеты демократіи должны были подыскать рядъ аргументовъ для его защиты.
Отмѣтимъ лишь важнѣйшіе.
Прежде всего указывали, что торжество начала большинства есть прочный историческій фактъ. Разсужденіе Еллинека, только-что приведенное, обнаруживаетъ несостоятельность этой «исторической» ссылки. Но если бы даже и всѣ историческіе народы практиковали большинство вмѣсто единогласія, это могло обозначать только одно, что подлинной демократіи исторія еще не знала. Начало большинства есть слишкомъ очевидная фальсификація народной воли, принужденіе къ согласію, неуваженіе къ чужой свободѣ.
Указывали далѣе, что рѣшеніе общественныхъ вопросовъ началомъ большинства сообщаетъ обществу устойчивость. Согласіе большинства на извѣстное мѣропріятіе, реформу является гарантіей, что реформа — популярна, что она имѣетъ глубокіе общественные корни, что она удовлетворяетъ дѣйствительнымъ запросамъ общества.
Большинство — въ глазахъ его апологетовъ — является не только гарантіей устойчивости, но и необходимой гарантіей прогресса. Меньшинство было бы безсильно провести въ жизнь то, что отвѣчало только бы его интересамъ и общество при отсутствіи принудительной власти «большинства» страдало бы отъ постоянныхъ контраверзъ, творчески безплодныхъ. Нѣкоторые, наиболѣе упорные сторонники полнаго смиренія меньшинства даже охотно признаютъ, что то общество представляется имъ болѣе созрѣвшимъ и здоровымъ, которое даетъ въ обсужденіи важнѣйшихъ проблемъ общежитія maximum разногласій. Но... въ виду невозможности какого либо реальнаго исхода для всѣхъ этихъ разногласій, меньшинство должно склониться предъ волей «большинства».
Нѣкоторые отстаиваютъ «большинство», слѣдуя за Бентамомъ съ его принципомъ утилитаристической морали. Достиженіе удобствъ, счастья возможно большей части общества, вотъ — идеалъ, къ которому слѣдуетъ стремиться. Нравственнѣе и цѣлесообразнѣе сдѣлать счастливымъ «большинство», чѣмъ меньшинство. Арифметика является критеріемъ истинности принятыхъ рѣшеній.
Наконецъ, господствующимъ мотивомъ въ защиту «большинства» является соображеніе о совершенной невозможности добиться въ большомъ обществѣ единогласія. Принятіе начала «большинства», какъ руководящаго регулятора общественной жизни, диктуется, такимъ образомъ, мотивами технической цѣлесообразности, политической необходимостью. Или отказъ отъ демократіи, или принципъ «большинства» — средины нѣтъ.
Едва-ли нужно говорить, что всѣ эти соображенія, независимо отъ ихъ формальной, внѣшней справедливости или практичности, ничего общаго не имѣютъ съ защитой «правды» или «нравственнаго достоинства» рѣшенія. О свободѣ и, слѣдовательно, морали не можетъ быть и рѣчи тамъ, гдѣ дѣло идетъ о количественномъ подсчетѣ голосовъ.
«Большинство» — можетъ-быть неправо, и историческіе случаи «неправоты» большинства — столь часты, многочисленны и столь самоочевидны, что на нихъ едва-ли стоитъ останавливаться.
Но и помимо соображеній «правоты», которая можетъ чрезвычайно субъективно толковаться, принципіальное согласіе на постоянное подчиненіе большинству является величайшимъ нравственнымъ униженіемъ для подчиняющагося, отказомъ не только отъ свободы дѣйствій, но часто и отъ свободы сужденій, свободы вѣрованій. При управленіи большинствомъ меньшинство становится рабомъ, который только въ бунтѣ выражаетъ свою волю. Право большинства есть право сильнаго. Основанное на порабощеніи чужой воли, отрицаніи чужой свободы, оно должно быть отвергнуто анархическимъ сознаніемъ. «Когда среди 100 человѣкъ — писалъ Л. Толстой — одинъ властвуетъ надъ 99 — это несправедливо, это деспотизмъ; когда 10 властвуютъ надъ 90 — это тоже несправедливо, это олигархія; когда же 51 властвуютъ надъ 49 (и то только въ воображеніи — въ сущности же опять 10 или 11 изъ этихъ 51) — тогда это совершенно справедливо — это свобода!»
Превосходный примѣръ, одновременно характеризующій и негодность нравственной природы «большинства» и техническую недостижимость этого начала въ большомъ обществѣ.
И на бѣгломъ анализѣ современнаго парламентаризма мы легко убѣдимся, что «большинство», представляющее фикцію народовластія, въ дѣйствительности, обращается всегда въ правящее меньшинство — олигархію.
«Парламентъ — есть лучшее средство защищать общенародные интересы», — говоритъ современная государственная наука, гласятъ катехизисы современныхъ политическихъ партій.
Съ того момента, когда побѣдоносная буржуазія впервые утвердила въ парламентѣ свой оплотъ противъ феодальныхъ властителей, парламентъ остался въ сознаніи народовъ неизмѣннымъ палладіумомъ политическихъ свободъ и политическаго равноправія.
Пусть долгая парламентская исторія дала достаточно примѣровъ тому, что рабство широкихъ народныхъ массъ всегда уживалось и уживается съ парламентомъ — этимъ признаннымъ защитникомъ quasi-народныхъ вольностей, что парламентъ оказался совершенно неспособнымъ, даже въ самые блестящіе періоды своего существованія, защищать реальные, а не фиктивные только интересы трудящагося населенія, что народные представители изъ приказчиковъ пославшихъ ихъ сюда состоятельныхъ классовъ неизмѣнно обращались всегда въ самодовлѣющій тяжелый аппаратъ, начинавшій немедленно жить своей собственной жизнью, чуждой, а иногда и враждебной интересамъ обманутыхъ довѣрителей.
Недвусмысленной защиты плутократическаго благополучія, да крохотныхъ полумифическихъ подачекъ голодному пролетаріату было довольно, чтобы въ парламентъ увѣровали и вѣруютъ еще и сейчасъ не только «буржуазная», но и «соціалистическая» наука.
Парламентъ созданъ буржуазіей. Онъ сыгралъ уже крупную историческую роль; въ свое время служилъ онъ могучимъ средствомъ борьбы буржуазіи противъ феодальной реакціи. Законодательства, которыми мы обязаны различнымъ національнымъ парламентамъ, носятъ на себѣ яркую, несомнѣнную печать творчества той соціальной группы, которая вызвала къ жизни и самый парламентъ.
Цѣлыя историческія эпохи обращали парламентъ въ лозунгъ наиболѣе прогрессивныхъ слоевъ общества; крупная и мелкая буржуазія, пo очереди, писали на своихъ знаменахъ парламентскія вольности.
Но времена, когда буржуазія выступала передовымъ борцомъ за права человѣка, давно прошли, героическій періодъ ея отошелъ въ область преданій, революціи ея потускнѣли, обветшали знамена и лозунги.
И теперь, послѣ дѣловыхъ турнировъ въ конторахъ и банкахъ, избалованная успѣхами, не забываетъ она въ часы досуга излюбленнаго ею когда-то парламента. Но она къ нему не относится уже съ прежней ретивостью; нерѣдко въ интимномъ кругу она непрочь и сама добродушно посмѣяться надъ чистой и наивной вѣрой въ его цѣлебную силу.
Ея прежняя энергія просыпается лишь тогда, когда новые борцы за новыя права человѣка — пролетаріатъ — идутъ на нихъ съ оружіемъ въ рукахъ. Тогда парламентская машина работаетъ полнымъ ходомъ, льются потоки краснорѣчія, ораторы распинаются за «общее благо», «интересы и прочность страны», напоминаютъ дерзкимъ пришельцамъ, тревожащимъ покой буржуазіи, о традицияхъ, о драгоцѣнныхъ завѣтахъ прошлаго.
Въ концѣ концовъ, буржуазія облегчаетъ свою совѣсть, бросая фиктивныя подачки; вновь все успокаивается, вновь начинается для нея безмятежное существованіе.
И вотъ, за эту парламентскую машину, которая столько лѣтъ служила вѣрой и правдой привиллегированному классу, жадно хватаются соціалисты, надѣясь также найти въ ней цѣлебное средство противъ несовершенствъ современнаго капитализма, думая, что парламентъ — слуга будетъ работать такъ же честно и усердно и на новаго хозяина, какъ онъ работалъ на стараго.
Но что такое парламентъ? Какую службу онъ можетъ нести революціонному классу?
Основная задача парламента заключается въ томъ, чтобы представлять общенародные интересы, чтобы, внимательно прислушавшись къ голосамъ гражданъ, ознакомляться съ ихъ нуждами и путемъ своевременнаго и цѣлесообразнаго вмѣшательства содѣйствовать общему благополучію.
Такова, конечно, задача, по существу, любого органа государственнаго управленія, но парламентъ менѣе, чѣмъ какой-либо другой органъ, способенъ стоять на стражѣ именно общенародныхъ интересовъ.
Парламентъ является одной изъ формъ народнаго представительства. Въ немъ народъ какъ бы переноситъ на избранниковъ свою волю, и парламентъ въ цѣломъ являетъ собой національную волю. Воля парламентскаго большинства или фактически, воля народнаго меньшинства становится волей народнаго большинства, волей всѣхъ.
Но такое понятіе представительства есть понятіе юридическое, а не политическое.
«Въ политической же дѣйствительности — пишетъ авторитетнѣйшій изъ новыхъ государственниковъ — Еллинекъ — мы имѣемъ въ парламентскомъ постановленіи... всегда лишь волю большинства голосующихъ членовъ парламента. Руссо совершенно правъ: нельзя желать за другого, столь же мало, прибавимъ мы, какъ нельзя за другого ѣсть или пить».
Такимъ образомъ, представленіе народной воли волей парламента — есть фикція, которая не перестаетъ быть фикціей только оттого, что имѣетъ за собой почтенный возрастъ или потому, что здѣсь «юридическія представленія... глубоко срослись съ общимъ правоубѣжденіемъ, хотя и безсознательно для широкихъ слоевъ общества».
Парламентская воля есть искаженіе народной воли.
Какіе бы мы избирательные законы ни сочиняли, какіе бы мы ни придумывали коррективы вродѣ пропорціональныхъ выборовъ въ погонѣ за чистой народной волей, всѣ наши усилія — напрасны.
Благодаря чрезвычайному многообразію индивидуальныхъ воль, представляющихъ народъ, благодаря неуловимымъ иногда оттѣнкамъ, изъ которыхъ каждый имѣетъ неоспоримое право быть представленнымъ въ любой парламентской комбинаціи и въ любомъ избирательномъ законѣ, мы имѣемъ лишь жалкую пародію на то, что мы съ такой увѣренностью и гордостью называемъ волей народа.
«Въ народной жизни масса различій — пишетъ Еллинекъ въ своемъ блестящемъ этюдѣ о конституціяхъ — не сразу замѣтныхъ и не подлежащихъ измѣренію, и они, несомнѣнно, остаются безъ представительства при системѣ, построенной исключительно на количествѣ населенія... Пропорціональные выборы не въ состояніи обезпечить представительства всѣмъ справедливымъ интересамъ народа, потому что на выборахъ народъ обыкновенно дѣлится на партійныя группы, а партіи отнюдь не соотвѣтствуютъ группировкѣ народа во всей ея полнотѣ. Поэтому — заключаетъ Еллинекъ — проблема правильнаго, справедливаго избирательнаго права абсолютно неразрѣшима. «Ни одно политическое учрежденіе не основано въ такой мѣрѣ, какъ народное представительство, на фикціяхъ и на несоотвѣтствующихъ дѣйствительности идеальныхъ построеніяхъ».
«Чѣмъ далѣе увеличивается численность населенія государствъ и общинъ, — пишетъ Масарикъ, весьма далекій отъ анархистскаго міросозерцанія — чѣмъ сложнѣе становятся общественныя отношенія, чѣмъ болѣе образовано населеніе и чѣмъ болѣе развиты его потребности, тѣмъ чувствительнѣе несоотвѣтствіе между волей населенія и волей парламента...» («Философскія и соціологическія основанія марксизма»).
Даже всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право дастъ намъ однѣ иллюзіи народнаго представительства, становящіяся еще болѣе обманчивыми въ зависимости отъ роста процента воздерживающихся отъ выборовъ.
Въ одной изъ своихъ рѣчей Бисмаркъ представилъ однажды палатѣ слѣдующій любопытный расчетъ: «Изъ числа имѣющихъ право выбора принимали въ немъ участіе всего 34%; большинство этихъ 34% выбрало избирателей, которые могли, такимъ образомъ, имѣть за собой 20—25% всего числа, имѣющихъ право участвовать въ выборахъ. Большинство избирателей выбирало депутатовъ, число которыхъ представляло, такимъ образомъ, 13—15% общаго числа, имѣвшихъ право участвовать въ выборахъ.
Бранденбургъ, приводящій этотъ расчетъ въ своемъ любопытномъ этюдѣ о парламентской обструкціи, замѣчаетъ, что Бисмаркъ умолчалъ о томъ, что «благодаря трехстепеннымъ выборамъ небольшое число населенія можетъ существенно повліять на результатъ выборовъ, и что открытая подача голосовъ сильно вредитъ результату выборовъ». «Но — замѣчаетъ Бранденбургъ — и при размѣрахъ участія въ выборахъ въ 70%, депутаты едва-ли могутъ съ увѣренностью являться представителями болѣе чѣмъ 40—50% всего числа избирателей, а парламентское большинство, если оно не подавляюще велико, будетъ выразителемъ мнѣнія только 25—35% всѣхъ, имѣющихъ право выбора. Если, напримѣръ, — заключаетъ онъ — въ нынѣшнемъ рейхстаге консерваторы, ультрамонтаны и протестанты вмѣстѣ будутъ имѣть большинство 219 голосовъ изъ 397, то все же они представятъ собой только 32 1/2% всего числа избирателей».
Такимъ образомъ, никакое парламентское большинство не можетъ представлять народа, не можетъ выражать его воли.
Казалось-бы, воля народа все-же могла получить извѣстное выраженіе, если-бы немногіе и случайные представители его были снабжены императивными мандатами и, такимъ-образомъ, не могли уклониться отъ подлинныхъ желаній народа или вѣрнѣе его отдѣльныхъ господствующихъ группъ.
Но теорія уже довольно показала, что парламентаризмъ и императивные мандаты — несовмѣстимы, и современныя законодательства ихъ не знаютъ. Представители, законодательствуя, осуществляютъ свою волю, выдавая ее за волю народа.
Эта идея, безспорная и ясная, идея подкрѣпляемая математическими доказательствами, становится еще болѣе яркой, еще болѣе убѣдительной, если мы будемъ оперировать не туманнымъ понятіемъ «народа» съ его несуществующей единой и цѣльной «народной волей» и его фиктивными «общенародными интересами», а конкретно существующимъ классовымъ обществомъ.
На мѣстѣ единаго и недѣлимаго народа, мы видимъ борющіяся группы, сталкивающіеся интересы, которые безпощадно расправляются другъ съ другомъ и только въ цѣляхъ самозащиты или въ состояніи крайней необходимости вступаютъ въ компромиссы и заключаютъ соглашенія.
Эти интересы встрѣчаются не въ открытомъ полѣ, а въ парламентѣ; въ современномъ государствѣ оружіемъ является избирательный бюллетень, парламентъ — мѣстомъ, гдѣ учитываются побѣды и пораженія и заключаются договоры борющихся сторонъ. И до тѣхъ поръ, пока мы будемъ жить въ классовомъ государствѣ, парламентъ будетъ вѣрнымъ отраженіемъ воли сильнѣйшаго класса, которая, конечно, не желаетъ, да и не можетъ быть «народной волей».
Являя собой не болѣе, какъ «бумажное представительство штыка, полицейской дубинки и пули», парламентское большинство «дѣлаетъ излишнимъ кровопролитіе», но не въ меньшей степени является рѣшеніемъ силы, чѣмъ декретъ самаго абсолютнаго деспота, опирающагося на самую могущественную изъ армій.
Парламентъ является, такимъ образомъ, прежде всего учрежденіемъ соціальнымъ, а не политическимъ и представляетъ интересы не государства, а интересы отдѣльныхъ общественныхъ группъ или, въ конечномъ счетѣ, наиболѣе сильной изъ нихъ.
Эту идею проводили въ своихъ трудахъ такіе выдающіеся государственники, какъ Лоренцъ Штейнъ или даже консервативный Рудольфъ Гнейстъ.
Въ нашемъ капиталистическомъ обществѣ сильнѣйшей изъ группъ является буржуазія, и ей принадлежитъ и верховный голосъ, и верховная власть, и «народная воля».
Она создала парламентъ, избравъ его своимъ орудіемъ борьбы, она въ своихъ приходахъ защищала его въ Англіи, противъ Тюдоровъ, во Франціи связала всю свою исторію съ исторіей генеральныхъ штатовъ, въ парламентѣ же она санкціонировала политическія завоеванія своей побѣдоносной революціи конца XVIII вѣка. Ей по праву долженъ принадлежать и принадлежитъ современный парламентъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ключи къ «народной волѣ». И до тѣхъ поръ — справедливо говоритъ Левердэ — пока общество остается буржуазнымъ, представительство его, называемое національнымъ, необходимо будетъ такимъ же, т.-е. буржуазнымъ. Если же представительство имѣетъ буржуазную сущность, то оно будетъ поддерживать, вопреки всему, притязанія имущихъ классовъ противъ домогательствъ труда, послѣднему нечего ожидать отъ него. Это — столь же фатально, какъ паденіе камня... Адвокаты пролетаріата... будутъ лицами, ходатайствующими за другихъ овецъ предъ волками...»
И какимъ беззастѣнчивымъ поруганіемъ противъ другихъ общественныхъ группъ ни было бы рѣшеніе буржуазнаго парламентскаго большинства, оно всегда выходитъ подъ ярлыкомъ «народной воли» и потому священно для всѣхъ сознательныхъ и безсознательныхъ апологетовъ современнаго государства. И если вчера еще — многіе изъ тѣхъ адвокатовъ, людей либеральныхъ профессій или партійныхъ крикуновъ и политикановъ, которые населяютъ парламенты, казались народу жалкими дармоѣдами, сегодня, облаченные въ священный мантіи носителей «народной воли», они объявлены неприкосновенными, a рѣшенія ихъ, исполненныя «государственной мудрости», подлежатъ безпрекословному исполненію. И, какъ ни далека ваша собственная воля отъ воли этихъ пигмеевъ, внезапно возмнившихъ себя титанами, какъ ни противорѣчатъ ихъ законы и мѣропріятія лучшимъ и завѣтнымъ стремленіямъ вашего ума и сердца, вы будете раздавлены желѣзной рукой исполнительнаго механизма, если ослушаетесь этихъ господъ и поступите такъ, какъ вамъ диктуетъ ваша совѣсть.
Но, если бы мы вообразили, что какимъ-нибудь непостижимымъ волшебствомъ фикція обратилась въ наиреальнѣйшую дѣйствительность и парламентъ чудеснымъ образомъ получилъ бы возможность отражать «общенародную волю», то и тогда было бы величайшимъ заблужденіемъ полагать, что парламентъ сталъ бы прибѣжищемъ слабыхъ и угнетенныхъ, оплотомъ противъ правительственнаго деспотизма. Такіе упованія обнаружили бы только рѣшительное непониманіе самой природы современнаго государственнаго механизма, потому что парламентъ далеко не есть слуга народа, оберегающій его вольности противъ тиранническихъ поползновеній правительства, а есть самъ — правительство, самъ — органъ государственной власти.
Мало этого: эволюція государственной власти въ странахъ ранняго конституціоннаго развитія, какъ Англія или Америка, тамъ, гдѣ закладывались первые камни современнаго парламентаризма, насъ совершенно убѣждаетъ въ томъ, что съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе парламентъ уступаетъ свое прежнее фактическое преобладаніе правительству.
«Авторитетъ и сила парламентскихъ учрежденій — пишетъ Еллинекъ — вездѣ падаютъ... конституціонное развитіе сопровождается непрерывнымъ возрастающимъ усиленіемъ правительственной власти».
И если мы обратимся къ изученію, уже ставшихъ классическими, работъ Вильсона, или Брайса, или такихъ образцовыхъ новѣйшихъ изслѣдованій, какъ труды Сиднея, Лоу Лоуэлля, или нашего соотечественника Острогорскаго, мы увидимъ, что въ Америкѣ всѣ наиболѣе сложные и серьезные вопросы государственной жизни передаются парламентскимъ комитетамъ, предсѣдатели которыхъ назначаются единоличной властью парламентскаго спикера, что въ Англіи вся фактическая власть перешла въ руки кабинета; въ парламентѣ хозяиномъ является правительство, которое смѣло диктуетъ ему свои желанія, пользуясь монопольнымъ положеніемъ. Контроль парламента — лишь нарядная фикція; на практике парламентъ послушливо санкціонируетъ любые декреты правительства. То же явленіе, то-есть постепенное исчезновеніе парламентской иниціативы и фактическое упраздненіе его, какъ контрольнаго органа за правительствомъ, наблюдается и во Франціи.
Неудивительно, что конституціонное правительство нашихъ дней является безотвѣтственнымъ деспотомъ, неограниченнымъ владыкой, передъ которымъ стирается въ прахъ «народная воля», представляемая парламентомъ, и который разливаетъ благодѣянія вдохновляющему классу, беззастѣнчиво угнетая въ то же время другія группы, вредныя или опасныя съ точки зрѣнія его классовой философіи. Въ рукахъ современнаго конституціоннаго правительства сконцентрированы такія могучія средства воздѣйствія на всю народную жизнь, что прежніе абсолютные монархи «Божіей милостью» кажутся жалкими пигмеями рядомъ съ этими новыми «капиталистической милостью» великанами.[17]
Чрезвычайно любопытно, что въ оцѣнкѣ этого явленія сходятся нерѣдко самые разнородные наблюдатели современной политической жизни.
Такой трезвый, осторожный, научный изслѣдователь, какъ Еллинекъ, говоритъ о чудовищномъ ростѣ исполнительнаго аппарата, о деспотизмѣ конституціоннаго правительства почти въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ, что и пламенный трибунъ, проповѣдникъ Кропоткинъ. Оба признаютъ, что современные министры могущественнѣе Людовика ХIV.
Мы не будемъ останавливаться на томъ, что осторожные государственники и публицисты называютъ «недостатками парламентаризма».
Съ тѣхъ поръ, какъ толки о кризисѣ, переживаемомъ современнымъ парламентаризмомъ, стали общимъ мѣстомъ, — уже не только анархистская, но и буржуазная литература дала цѣлый рядъ краснорѣчивыхъ страницъ, раскрывающихъ намъ язвы, которыя несет парламентъ въ общественную жизнь. У насъ въ рукахъ неисчерпаемое богатство данныхъ, собранныхъ на почвѣ кропотливаго анализа механизма современныхъ политическихъ партій, изученія самаго процесса избирательной кампаніи. И нужно быть неизлѣчимо предубѣжденнымъ въ пользу парламента или совершенно слѣпымъ человѣкомъ, чтобы, послѣ знакомства и съ этимъ матеріаломъ, отрицать, что вся парламентская жизнь построена на подкупахъ, насиліи и лжи.
Всюду, гдѣ воцарился парламентскій режимъ и гдѣ механизмъ политическихъ партій имѣетъ опредѣленную хронологическую давность, другими словами, всюду, гдѣ политическое зодчество находится въ рукахъ профессіональныхъ политиковъ, мы видимъ картины систематическаго подкупа населенія, открытаго и грубаго преслѣдованія своихъ личныхъ интересовъ, давленія администраціи, видимъ «политикановъ» и «маріонетокъ».
Чтобы убѣдиться въ этомъ, вовсе не надо читать «анархистовъ». Довольно пробѣжать такія спокойныя и солидныя изслѣдованія, какъ книгу Брайса, Ш. Бенуа и особенно книгу Острогорскаго — «О демократіи и организаціи политическихъ партій», гдѣ дается богатѣйшій, почти исчерпывающій матеріалъ для сужденія о политическихъ обычаяхъ и порядкахъ избирательной борьбы въ Англіи и Америкѣ.[18] «Недостатки» парламентаризма — неотдѣлимы отъ самаго существа парламентарной демократіи. Она сама есть великое зло.
Осуждая парламентаризмъ, анархизмъ осуждаетъ и тотъ механизмъ, который лежитъ въ основѣ его — механизмъ политическихъ партій.
Партія — въ условіяхъ современнаго правового государства — есть органъ политическаго представительства интересовъ опредѣленной общественной группы или общественнаго класса[19].
Такимъ образомъ, партія становится аппаратомъ приспособленія къ государственно-правовому строю. Она есть — группировка людей, примыкающихъ къ общему политическому міровоззрѣнію, объединенныхъ однородной программой и подчиненныхъ однородной дисциплинѣ. Задача ея — выявлять и представлять волю опредѣленнаго общественнаго класса, какъ въ собственныхъ партійныхъ организаціяхъ, такъ — и въ соотвѣтствующихъ государственныхъ и муниципальныхъ учрежденіяхъ.
Сама же партійная организація въ процессѣ дальнѣйшаго развитія пріобрѣтаетъ слѣдующія характерныя особенности.
А) Члены партіи, вступая въ парламентѣ (центръ современной партійной жизни) въ сотрудничество съ представителями иныхъ враждебныхъ партійныхъ организацій, утрачиваютъ чистоту классоваго идеала. Въ начала, представляемыя классомъ, врываются чуждыя имъ, государственно-парламентскія ноты, вырабатывается эклектическая, съ урѣзками и оговорками, практическая программа дѣйствій (отличная отъ теоретической, сберегаемой для парадовъ), которая при слабости партіи становится настолько эластичной, что постепенно утрачиваетъ специфическій классовый привкусъ и можетъ быть подогнана къ общему уровню программъ, выработанныхъ большинствомъ парламента.
B) Представительство интересовъ становится сложной дипломатической миссіей — требующей не столько яснаго сознанія классовыхъ интересовъ, сколько умѣнія проникать мысли противника, улавливанія шансовъ разнородныхъ программъ и искуснаго использованія промаховъ противника. Подобная миссія не можетъ быть поручена любому, для нея требуется извѣстный образовательный уровень, умственная дрессировка, интеллигентность. Представительство становится профессіей; образуются партійные комитеты, канцеляріи, сформированные наполовину на бюрократическихъ, наполовину на филантропическихъ началахъ, съ неизбѣжной іерархіей и столь же неизбѣжнымъ паразитизмомъ. Представительство въ парламентѣ становится соблазнительной карьерой.
Партійныя организаціи наполняются людьми, чуждыми своимъ классовымъ происхожденіемъ, своимъ «бытомъ», даже своей подлинной «психологіей» (для партійнаго человѣка довольно внѣшняго сочувствія — принятія программы) тому классу, интересы котораго они представляютъ. Такъ у партійнаго человѣка между его экономическимъ положеніемъ и его идеологіей можетъ не быть никакой связи. Милліонеры и нищіе могутъ быть членами одной партіи. Столь-же разнородны и кліенты послѣдней.
Разросшаяся партійная организація превращается въ совершенно самостоятельную среду, которая, хотя и прислушивается къ хору классовыхъ голосовъ, но въ большинствѣ случаевъ имѣетъ свое, предопредѣленное мнѣніе, выработанное передовыми мыслителями, дискуссіями и турнирами партійныхъ людей, партійной прессой. Мнѣніе это становится обязательнымъ правиломъ поведенія для людей класса. Постепенно представительство вырабатывается въ тяжелый самодовлѣющій аппаратъ, оторванный отъ экономической основы и тѣмъ не менѣе претендующій управлять классомъ.
Такъ рождается партійная гегемонія.
С) Обособленіе партійнаго механизма и своеобразное его рекрутированіе порождаютъ еще одно любопытное явленіе.
Въ партійной организаціи, заполненной «интеллигентскими профессіоналами», царитъ культъ разума — (партійнаго), вѣра въ его неограниченную силу, и пренебрежительное отношеніе, если не совершенное игнорированіе реальныхъ запросовъ жизни. Партійная работа всегда носитъ характеръ отвлеченности, схематизма. Партійные раціоналисты обладаютъ секретомъ и монополией соціологическаго прогноза. Отъ дня образованія партіи до достиженія «конечныхъ цѣлей» имъ извѣстно все напередъ. Этимъ поверхностнымъ универсализмомъ подготовляется партійный авантюризмъ, тѣ, въ сущности, безотвѣтственныя выступленія, которыя являются самой страшной язвой партійной жизни. Партійные мудрецы, на основаніи произвольныхъ построеній и столь же произвольныхъ истолкованій ихъ, провоцируютъ классъ на выступленія, быть можетъ чуждыя реальнымъ условіямъ, въ которыхъ онъ живетъ.
Ни одна партія не можетъ дать такого богатаго матеріала для иллюстраціи намѣченныхъ положеній, какъ политическая партія пролетаріата.
Это объясняется, конечно, прежде всего потому, что, вслѣдствіе отсутствія соотвѣтствующей подготовки, именно рабочій классъ породилъ тѣ вліятельные соціалистическіе штабы, которые взяли въ свои руки всю иниціативу классовой пролетарской политики.
Коммунистическій манифестъ былъ не только указаніемъ на новые методы изслѣдованія общественныхъ явленій, онъ былъ также геніальной попыткой соціологическаго прогноза. Въ немъ пролетаріату были показаны и освѣщены не только его прошлое и настоящее, но предуказаны и будущія судьбы. Отвлеченныя спекуляціи мыслителя сковывали пролетаріатъ разъ навсегда опредѣленными методами борьбы съ капитализмомъ. На иные возможные побѣги пролетарскаго самосознанія было заранѣе наложено veto. Борьба классовъ была объявлена борьбой политической и ближайшей цѣлью пролетаріата должно было стать образованіе самостоятельной политической партіи и завоеваніе демократіи[20].
И соціалъ-демократія съ увлеченіемъ пошла на завоеваніе «государства». По выраженію бывшаго с.-д. Михельса, для соціалъ-демократіи стала «высшимъ закономъ — боязнь потерять своихъ избирателей и свои средства».
Но для успѣшнаго завоеванія парламента соціалистическая партія должна была отказаться отъ отстаиванія классовой платформы въ чистомъ видѣ и перешла къ политикѣ оппортунизма.
Когда то старый Либкнехтъ протестовалъ противъ оппортунистической политики, на которую, по его убѣжденію, неизбѣжно обречена любая соціалистическая партія въ парламентѣ. ...«Священные принципы, серьезная политическая борьба — говорилъ онъ — понижаются парламентскими стычками; между тѣмъ въ народѣ поддерживается иллюзія, что рейхстагъ можетъ рѣшить соціальный вопросъ...» Но это... было давно. Съ тѣхъ поръ утекло много воды. Шумѣли «молодые» въ 1891 г., упрекая вождей германской соціалъ-демократіи за то, что они убиваютъ революціонный духъ партіи и обращаютъ ее въ партію мелко-буржуазную. Съ «молодыми» было покончено. Старый же Либкнехтъ обвинилъ ихъ въ анархизмѣ, Бебель пугнулъ техническимъ могуществомъ современнаго государства и спокойствіе было возстановлено. Съ тѣхъ поръ въ увлеченіи борьбой съ смутьянами и Либкнехтъ и Бебель не разъ были уносимы «реформистскимъ потокомъ и иной разъ трудно было отличить аргументацію Фольмара или Бернштейна отъ аргументаціи ортодоксальнаго центра.[21]
Р. Михельсъ въ изслѣдованіи о германской соціалъ-демократіи замѣчаетъ, что дѣти партійныхъ соціалистовъ, вышедшихъ изъ рабочей среды — выростаютъ въ новой средѣ и, если не пріобрѣтаютъ симпатій къ новому классу, то обнаруживаютъ совершенный политическій индифферентизмъ. Такимъ образомъ, отъ буржуазіи откалываются элементы, чтобы встать въ соціалистическіе ряды; поднявшіеся изъ пролетаріата пристаютъ къ буржуазіи. Михельсъ указывая, что изъ 81 представителя соціалъ-демократіи въ рейхстагѣ, 22 — занимаются свободной профессіей и буржуазными занятіями, 24 — предприниматели и только 35 — подлинные рабочіе, меланхолически замѣчаетъ: «Первоначально пролетарская фракція становится все болѣе и болѣе мелко-буржуазной». Но такой или приблизительно такой составъ имѣютъ всѣ соціалистическія партіи.
Бюиссонъ пытался, возражая противникамъ соціалистическаго парламентаризма, объяснить этотъ несоціалистическій характеръ соціалистической партіи. Критики забываютъ, — писалъ онъ — что страна состоитъ не изъ однихъ рабочихъ и что парламентъ долженъ быть занятъ общими вопросами, прежде чѣмъ приняться за соціальныя реформы.
И кліентела соціалистической партіи растетъ неограниченно. «Парламентскій соціализмъ — писалъ Сорель — говоритъ на столькихъ языкахъ, сколько у него родовъ кліентовъ; онъ обращается къ рабочимъ, къ мелкимъ хозяйчикамъ и крестьянамъ. Вопреки Энгельсу, онъ занимается фермерами, то онъ патріотъ, то онъ яро выступаетъ противъ арміи. Никакое противорѣчіе не успокаиваетъ его — опытъ показалъ, что во время избирательной кампаніи возможно собрать силы, которыя, собственно говоря, должны бы были высказаться противъ марксизма. И этимъ же объясняются и успѣхи соціалъ-демократіи, ея Пирровы побѣды»...«Возрастающему успѣху соціалъ-демократіи — писалъ недавно одинъ изъ постоянныхъ обозрѣвателей германской жизни — ничто такъ не содѣйствуетъ, какъ та энергія, съ которой онъ подставляетъ за послѣдніе годы на мѣсто классоваго идеала общепрогрессивный. Рядовой избиратель голосуетъ не за «экспропріацію экспропріирующихъ» и не за демократическую республику...»
Въ этихъ условіяхъ отъ соціалистическихъ представителей, претендующихъ на дѣйствительную роль въ парламентѣ, требуется прежде всего искусное сочетаніе соціализма съ разнородными принципами.
Примѣрами могутъ служить министеріализмъ, въ лице Милльерана, бріандерія, легко освободившаяся отъ всѣхъ соціалистическихъ покрововъ, жоресизмъ, оправдывавшій любой шпіонажъ (въ арміи) для спасенія радикальнаго министерства Комба. Послѣднее было столь зазорно, что даже Каутскій писалъ: пусть Жоресъ спасъ министерство (засѣданіе 4 Ноября 1904 г.), но онъ скомпрометировалъ соціализмъ.
Такова — трудная, зато безпроигрышная политика соціалистическаго парламентаризма: кипѣть противъ буржуазіи во имя угнетеннаго пролетаріата, спасать буржуазное министерство, хотя бы съ нѣкоторымъ ущемленіемъ соціализма, возглашать себя мученикомъ «идеи» и класть въ удобномъ случаѣ «идею» подъ сукно. Разносторонность современнаго Тартюфа — изумительна.
И наиболѣе изумительно въ волшебныхъ обращеніяхъ парламентскаго соціалиста — его отношеніе къ классу.
Выше мы сказали, что современная партійная организація есть культъ разума. И «марксисты» не составляютъ исключенія.
«Діалектическій матеріализмъ — писалъ Плехановъ — служитъ лишь для того, чтобы возстановить и сдѣлать неограниченными права и силы человѣческаго разума»... Я червь — говоритъ идеалистъ. Я — червь, пока я невѣжественъ, возражаетъ матеріалистъ—діалектикъ; но я богъ, когда я знаю. Tantum possumus, quantum scimus!»
Итакъ, знаніе — богъ! Въ духѣ такого восторженнаго раціонализма опредѣлилъ марксизмъ и отношеніе партіи къ классу. Только партія — полагаетъ Плехановъ, можетъ хранить въ чистотѣ пролетарскіе идеалы.
И нигдѣ предпочтеніе партіи классу не принимало такихъ уродливыхъ формъ, какъ въ рядахъ именно русской соціалъ-демократіи.
Особенно поучительна, въ этомъ смыслѣ, классическая позиція «Искровцевъ». Въ то время какъ «экономисты», оставаясь на почвѣ истинно демократическихъ началъ, высказывались за необходимость предоставленія иниціативы самому рабочему классу, за желательность его широкой самодѣятельности, «политики» проповѣдывали крайній, до конца идущій централизмъ». Движеніе представлялось имъ въ видѣ организаціи — огромнаго заговорщическаго штаба, составленнаго исключительно изъ теоретиковъ движенія и надѣленнаго полномочіями диктатора.
Психологія подпольной диктатуры, полной презрѣнія къ самому пролетаріату, нашла яркое выраженіе въ извѣстной брошюре Ленина — «Что дѣлать?» (1902 г.).
Идеальная соціалъ-демократическая партія представляется Ленину конспиративной организаціей теоретиковъ, сочувствующихъъ движенію. Во главѣ движенія — штабъ «профессіональныхъ революціонеровъ». Классъ — безгласное стадо, послушный органъ въ рукахъ штаба. «Исторія всѣхъ странъ — писалъ Ленинъ — свидѣтельствуетъ, что исключительно своими собственными силами рабочій классъ въ состояніи выработать лишь сознаніе трэдъ-юніонистское. Ученіе же соціализма выросло изъ тѣхъ философскихъ, историческихъ, экономическихъ теорій, которыя разрабатывались учеными представителями имущихъ классовъ, интеллигенціи».
Другой с.-д., Череванинъ писалъ еще рѣшительнѣе, заявляя, что соціалъ-демократія, даже опираясь на небольшую часть организованныхъ рабочихъ, можетъ говорить отъ имени всего пролетаріата, ибо классовое сознаніе соціалъ-демократа, это — будущее, классовое самосознаніе (sic!) всего пролетаріата»[22].
И вѣрные своимъ «заговорщическимъ» лозунгамъ — русскіе соціалъ-демократы «большевики» (санкціонированные 2-мъ съѣздомъ), относятся пренебрежительно къ собственно-пролетарскому движенію, призывая своихъ послѣдователей отказаться вовсе отъ участія въ рабочемъ профессіональномъ движеніи, что въ свое время чрезвычайно облегчило правительственную борьбу съ профессіональными союзами.
Въ такую отвратительную погоню за властью выродились попытки кучекъ безотвѣтственныхъ «интеллигентовъ» представлять интересы пролетарскаго класса. Неудивительно, что провокація и гешефтъ-махерство свили себѣ прочное гнѣздо въ «законспирировавшихся» кучкахъ.
И спрашивается, что же оставалось въ подобномъ «соціалъ-демократическомъ» толкованіи отъ марксизма, матеріалистическаго пониманія исторіи, классовой борьбы?
Развѣ не подобныхъ идеологовъ, падающихъ съ неба, имѣлъ въ виду Марксъ, когда саркастически писалъ въ Коммунистическомъ Манифестѣ: «...Эти теоретики являются только утопистами, которые, желая удовлетворить потребностямъ угнетенныхъ классовъ, выдумываютъ системы, гонятся за наукой — возродительницей. Но по мѣрѣ развитія исторіи, борьба пролетаріата пріобрѣтаетъ все болѣе и болѣе ясный характеръ и для этихъ теоретиковъ становится излишнимъ искать науки въ своей собственной головѣ, теперь они должны только дать себѣ отчетъ въ томъ, что происходитъ у нихъ передъ глазами и стать выразителями дѣйствительности».
Какъ мало это вяжется съ «большевистскими потугами» — изображать «будущее классовое самосознаніе» пролетаріата.
Сторонники партійныхъ организацій, чуждые уродливыхъ централизмовъ, доказываютъ необходимость ихъ самостоятельности тѣмъ, что профессіональное движеніе рабочихъ, погружая послѣднихъ въ тину повседневности, не можетъ способствовать выработкѣ общепролетарскаго идеала, что оно топитъ «конечную цѣль» въ компромиссной борьбѣ въ предѣлахъ даннаго строя. Наконецъ, рабочее профессиональное движеніе, на извѣстныхъ ступеняхъ развитія, само начинаетъ требовать восполненія его политической борьбой и толкаетъ трэдъ-юніонистовъ на образованіе независимой политической рабочей партіи. Послѣдняя имѣетъ задачей представлять общіе классовые интересы и, такимъ образомъ, раздвигаетъ самыя рамки рабочей борьбы, переходя непосредственно въ борьбу съ капиталистическимъ строемъ, борьбу противъ буржуазнаго общества.[23]
Такова точка зрѣнія, напримѣръ, глубокомысленнаго писателя и послѣдовательнаго марксиста — Гильфердинга.
Однако, самъ Гильфердингъ, утверждая за политическимъ представительствомъ рабочаго класса такую важную роль, тѣмъ не менѣе признаетъ, что побѣда рабочихъ обусловливается «не только политическимъ воздѣйствіемъ».
«.. Послѣднее, напротивъ, можетъ воспослѣдовать и въ концѣ-концовъ увѣнчаться успѣхомъ лишь послѣ того, какъ профессіональный союзъ достаточно обнаружилъ свою силу — показалъ, что онъ съ величайшей энергіей и интенсивностью можетъ проводить чисто экономическую борьбу, съ такой интенсивностью и энергіей, что ему удается расшатать сопротивленіе буржуазнаго государства, которое отказывалось вмѣшиваться въ условія труда неблагопріятнымъ для предпринимателей способомъ, и что политическому представительству остается лишь окончательно сломить это сопротивленіе. Положеніе далеко не таково, чтобы сдѣлать профессіональный союзъ излишнимъ для рабочаго класса и замѣнить его политической борьбой: наоборотъ, возрастаніе силы профессіональной организаціи становится необходимым условіемъ всякаго успѣха».
Такъ политикѣ отводится настоящее мѣсто: роль арріергарда вь движеніи.
И далѣе Гильфердингъ еще болѣе укорачиваетъ партійныя претензіи на монополію въ руководительствѣ классовымъ движеніемъ.
Гильфердингъ, проницательный изслѣдователь современнаго капитализма, прекрасно понимаетъ и природу современнаго государственно-правового строя. Ему ясно, что государство давно стало слугой капиталистическаго класса. «Капиталъ — пишетъ онъ — устраняетъ свободную конкурренцію, организуется, и, вслѣдствіе своей организаціи, пріобрѣтаетъ способность овладѣть государственной властью, чтобы непосредственно и прямо поставить ее на службу своихъ эксплоататорскихъ интересовъ», и далѣе онъ называетъ государство «непреодолимымъ орудіемъ охраны экономическаго господства».
И высказанныя выше частныя замѣчанія Гильфердинга окончательно закрѣпляются въ его общей соціальной концепціи. «Финансовый капиталъ въ его завершеніи — пишетъ онъ — это высшая ступень полноты экономической и политической власти, сосредоточенной въ рукахъ капиталистической олигархіи. Онъ завершаетъ диктатуру магнатовъ капитала».
Но экономическій процессъ съ ростомъ диктатуры финансоваго капитала напрягаетъ до невыносимой степени всѣ противорѣчія классоваго буржуазнаго общества, объединяетъ всѣ трудовые слои населенія противъ капиталистической диктатуры.
Какъ же разрѣшатся эти противорѣчія? Какъ произойдетъ соціальная революція? Черезъ счастливую комбинацію парламентскихъ голосовъ? Черезъ овладѣніе цитаделью «государственной воли»? Ничуть не бывало.
Путь къ революціи, намѣчаемый Гильфердингомъ таковъ: «...Выполняя функцію обобществленія производства, финансовый капиталъ до чрезвычайности облегчаетъ преодолѣніе капитализма. Разъ финансовый капиталъ поставилъ подъ свой контроль важнѣйшія отрасли производства, будетъ достаточно, если общество черезъ свой сознательный исполнительный органъ, завоеванное пролетаріатомъ государство, овладѣетъ финансовымъ капиталомъ: это немедленно передаетъ ему распоряженіе важнѣйшими отраслями производства. Отъ этихъ отраслей производства зависятъ всѣ остальныя, и потому господство надъ крупной промышленностью уже само по себѣ равносильно наиболѣе дѣйствительному контролю, который осуществляется и безъ всякаго дальнѣйшаго непосредственнаго обобществленія».
Итакъ, значитъ все дѣло въ «овладѣніи финансовымъ капиталомъ».
Да! ..Но черезъ «завоеванное государство». Но для чего-же нужно это «завоеваніе государства», вѣрнаго, какъ видѣли мы выше, слуги капитализма, завоеваніе, требующее времени, энергіи, жертвъ? Ни для чего. По крайней мѣрѣ, самъ Гильфердингъ далѣе пишетъ слѣдующее: «Захватъ шести крупныхъ берлинскихъ банковъ уже въ настоящее время былъ бы равносиленъ захвату важнѣйшихъ сферъ крупной промышленности и до чрезвычайности облегчилъ бы первые шаги политики соціализма въ тотъ переходный періодъ, когда капиталистическій методъ счетоводства представляется еще цѣлесообразнымъ. Экспропріацію незачѣмъ будетъ распространять на многочисленныя крестьянскія и промышленныя мелкія производства, потому что вслѣдствіе захвата крупной промышленности, отъ которой они уже давнымъ давно находятся въ полной зависимости, они будутъ обобществлены при ея посредствѣ, какъ сама она будетъ обобществлена непосредственно. Слѣдовательно, въ тѣхъ случаяхъ, когда процессъ экспропріаціи оказался бы вслѣдствіе децентрализаціи слишкомъ затяжнымъ и политически опаснымъ, будетъ возможно медленнымъ развитіемъ подготовить этотъ процессъ къ зрѣлости; т.-е. однократный актъ экспропріаціи государственной властью превратить въ постепенное обобществленіе, ускоряемое тѣми экономическими выгодами, которыя сознательно представляются обществомъ: вѣдь финансовый капиталъ уже позаботился объ экспропріаціи, поскольку она необходима для соціализма».
Я привелъ цѣликомъ это длинное разсужденіе изъ-за его чрезвычайной характерности. Трудно дать болѣе полное и яркое признаніе ненужности «завоеванія государственной власти», если Гильфердингъ считаетъ возможнымъ уже сейчасъ «однократный актъ экспропріаціи государственной властью превратить въ «постепенное обобществленіе» и т.д., если захватъ крупныхъ банковъ уже сейчасъ былъ бы «равносилен захвату»... etc. «Завоеваніе государства» съ подобными оговорками есть отказъ отъ «завоеванія».Что такое «захватъ», какъ не замаскированная всеобщая соціальная стачка, соціальная революція, такъ, какъ ее понимаетъ, хотя бы и современный революціонный синдикализмъ.
Очевидно, что реальное пролетарское движеніе не нуждается въ завоеваніи «всеклассовыхъ» учрежденій. Простое соображеніе экономизаціи силъ, творческой ихъ концентраціи должно удержать его отъ того, чтобы разсылать своихъ представителей по такимъ мѣстамъ, гдѣ, по самому существу дѣла, имъ, вооруженнымъ однимъ краснорѣчіемъ, обезпечено пораженіе.
ГЛАВА VI.
Анархизмъ и его средства.
Анархизмъ, какъ вѣрованіе, какъ мечта есть не только общественный идеалъ опредѣленной группы или партіи людей. Анархизмъ лежитъ въ тайникахъ человѣческой природы. Что бы ни говорили временные, историческіе противники его — превосходство этого идеала надъ всѣми политическими катехизисами и программами — очевидно. Только изувѣры и замученные рабствомъ могутъ отрицать высшій, освобождающій смыслъ анархистскихъ формулъ — права личности на безграничное развитіе и ея право творческаго самоутвержденія.
Всѣ исторически извѣстныя концепціи общественнаго идеала — за рѣдчайшими исключеніями — будь это — мечта о достиженіи «Божескаго царства» Августина или Беды, о «Федераціи» въ цѣляхъ общаго мира Вико, о царствѣ «Вѣчнаго Евангелія» Лессинга, о торжествѣ «идеи права» Канта, объ осуществленіи «человѣчности» Гердера, о прыжкѣ въ «соціалистическое государство», о воплощеніи «Теургіи» В. Соловьева, о наступленіи «анархистскаго строя» и т. д., и т. д. — всѣ, въ конечномъ счетѣ, возвращаются къ человѣку и свободѣ его самоопредѣленія.
Можно сказать: потенціально всѣ люди — анархисты и всѣ разными путями идутъ къ анархизму.
Гранью, отдѣляющей современныя анархистскія единицы отъ милліоновъ будущихъ, возможныхъ анархистовъ — является выборъ средствъ для достиженія анархистскаго идеала.
И потому вопросъ о средствахъ анархизма выростаетъ въ самостоятельную проблему, требующую спеціальнаго разсмотрѣнія.
Традиціонный методъ анархизма можетъ быть характеризуем, какъ революціонаризмъ.[24]
Революціонаризмъ, въ противоположность такъ называемой «реальной политикѣ», отправляющейся отъ соотношенія «реальныхъ» силъ, есть методъ дерзаній, есть прямое нападеніе на окружающую среду; онъ смѣло разсѣкаетъ передовые слои и проходитъ сквозь нихъ, не останавливаясь, не уклоняясь, не разлагаясь. Его задача — цѣлостное измѣненіе даннаго принципа.
Противоположный ему — органическій реальный методъ исходитъ отъ данной среды, отъ мѣстныхъ условій; онъ тратитъ много усилій и времени на предварительную подготовку и переработку данной среды. На себѣ онъ испытываетъ ея обратное вліяніе, поддается ея гипнозу. Постепенно въ ней разлагаясь, обращается онъ въ оппортунизмъ, погрязаетъ въ болотахъ реформизма и вырождается постепенно въ квіетизмъ, мирящійся съ любымъ уродствомъ настоящаго, безпощадный ко всякой цѣльной безъ компромиссовъ, творческой работѣ.
Если революціонаризмъ нерѣдко покоится на «дерзости», то противоположный ему методъ — реформистскій не позволяетъ изъ-за деревьевъ видѣть лѣса. Въ большинствѣ случаевъ, особенно въ эпохи политическихъ кризисовъ, точный учетъ силъ бываетъ невозможенъ; наконецъ, значительная часть реальныхъ силъ всегда находится въ потенціальномъ состояніи. Въ нихъ надо разбудить скрытую энергію, надо вызвать къ жизни дремлющія силы. И въ глазахъ традиціоннаго анархизма — революціонаризмъ, перманентное «бунтарство» въ разнообразныхъ его формахъ является единственно нравственнымъ и единственно цѣлесообразнымъ методомъ дѣйствія.
Нравственнымъ потому, что онъ, не желая мириться въ какой-бы то ни было мѣрѣ съ тѣмъ, что для него является «неправдой» — отвергаетъ всякіе компромиссы.
Цѣлесообразнымъ потому, что, съ одной стороны, реформизмъ, культъ «мелкихъ» дѣлъ и пр., въ его глазахъ только укрѣпляютъ то зло, противъ котораго надлежитъ бороться, съ другой, потому, что онъ категорически отрицаетъ самую возможность пользоваться указанiями историческаго опыта.
Въ его глазахъ законы «исторической необходимости» — лишь слово, которое своей безнадежной схоластичностью убиваетъ въ зародышѣ смѣлую мысль, душитъ смѣлое слово, опускаетъ поднявшіяся руки. «Историческая необходимость» — этотъ сфинксъ, никѣмъ и никогда еще не разгаданный, несмотря на горы соціально-политической рецептуры, накопленной геніями человѣческаго рода, есть лишь тормазъ стремленію впередъ, протесту, попыткамъ свободнаго творчества.
Является глубокимъ, трагическимъ недоразумѣніемъ — искать истину, несущую уроки будущему, всегда среди развалинъ прошлаго.
Общественный процессъ — слишкомъ сложенъ еще для нашей познавательной природы, вооруженной слабыми и недостаточными методологическими пріемами.
A) Прежде всего невозможно игнорировать то неизбѣжно-субъективное отношеніе историка къ матеріаламъ прошлаго, съ которымъ онъ приступаетъ къ самому изслѣдованію историческихъ фактовъ. Отборъ фактовъ, ихъ классификація, опредѣленіе и оцѣнка ихъ сравнительной роли находятся въ полной зависимости отъ субъективнаго усмотрѣнія изслѣдователя. Послѣдній предъявляетъ къ историческому матеріалу свои требованія, разсматриваетъ его съ своей опредѣленной точки зрѣнія, въ своемъ разрѣзѣ.
B) Современная философія исторіи, въ лицѣ наиболѣе выдающихся ея представителей, имѣетъ склонность утверждать исторію, какъ «систему неповторяющихся явленій», какъ научную дисциплину, изучающую не общее, а дѣйствительность въ ея конкретныхъ и индивидуальныхъ выраженіяхъ.
Этому не противорѣчатъ труды того современнаго историческаго теченія (особ. Пельманъ, Эд. Мейеръ и др.), которое пытается подмѣтить и установить, аналогичные нашему времени, процессы развитія и соціальные институты въ отдаленнѣйшихъ отъ насъ эпохахъ. Какъ бы ни было велико ихъ дѣйствительное сходство, ясно, что они выступали тамъ въ такихъ комбинаціяхъ, которыя въ цѣломъ въ наше время — неповторимы, а потому и допущеніе тожественности развитія двухъ разновременныхъ культуръ является завѣдомо неправильнымъ.
C) Мы не можемъ искусственно изолировать общественныя явленія, мы не можемъ экспериментировать отдѣльными историческими фактами, мы не можемъ, слѣдовательно, учесть болѣе или менѣе точно и вліянія отдѣльной причины. Прошлое представляется намъ въ видѣ своеобразнаго «химическаго соединенія» историческихъ фактовъ и явленій, съ которымъ намъ нечего дѣлать при нашей неспособности къ искусственной изоляціи.
Д) Наконецъ, къ нашей познавательной неумѣлости присоединяется еще совершенная невозможность сейчасъ для насъ измѣренія, какъ индивидуальной, такъ и коллективной психики прошедшихъ эпохъ.
При этихъ условіяхъ, сколько бы мы ни создавали соціально-политическихъ законовъ, они не могутъ претендовать на универсальное обязательное значеніе. Они — быть-можетъ — результатъ и невѣрнаго пониманія и неполнаго изслѣдованія историческаго процесса.
Ссылки на историческія событія, протекавшія при иныхъ комбинаціяхъ историческихъ элементовъ и отдѣленныя отъ переживаемаго состоянія извѣстной хронологической давностью, являются не только неубѣдительными, но и неправильными. Въ дѣйствительности, историческіе уроки никого никогда не учатъ. Не только темныя массы, но и просвѣщенные вожди въ своихъ выступленіяхъ и актахъ не руководствуются ими. Только послѣ катастрофъ усердные историки, устанавливающіе и признающіе историческіе законы, извлекаютъ изъ архивовъ историческихъ событій факты, которые должны были въ свое время быть грознымъ предостереженіемъ, а теперь являются лишь живымъ укоромъ для пренебрегшихъ ими современниковъ.
Историческій прогнозъ — невозможенъ. И исторія съ ея мнимыми «законами» не можетъ быть надъ нами. Безполезно апеллировать къ ней на «безумства», «надъорганическіе скачки», «революціонный методъ» автономной личности. Самоутвержденіе является высшимъ идеаломъ для послѣдней и во имя конечнаго освобожденія духа она можетъ пренебрегать традиціями и игнорировать «законы» прошлаго. Она сама куетъ для себя свои законы.
Прогрессъ исторіи — есть прогрессъ личности; прогрессъ личности — прогрессъ революціоннаго метода.
Раскрѣпощеніе человѣческой личности знаменуется переходомъ ея къ методу «прямого воздѣйствія», революціонному методу, немедленному утвержденію въ жизни своей творческой воли. Революціонный методъ становится единственно возможной, единственно нравственной формой человѣческой дѣятельности.
По словамъ поэта:
Споръ о душѣ прекращается,
Старые обычаи и фразы сопоставляются, ихъ опрокидываютъ, или отбрасываютъ!
Что теперь ваше скопленіе денегъ? что оно можетъ теперь?
Что теперь ваша почтенность?
Что теперь ваша теологія, обученіе, общество, традиціи, книги статутовъ?
Гдѣ теперь ваши слова о жизни?
Гдѣ крючкотворства ваши о душѣ?
(Уольтъ Уитманъ).
Въ этихъ словахъ поэта, въ этой своеобразной ставкѣ на «сильнаго» звучитъ подлинная анархическая мораль. Анархическій методъ дѣйствія — есть методъ безбоязненнаго и безпощаднаго отрицанія любого «быта» и любой «морали».
И тѣмъ не менѣе — такое, чисто формальное обоснованіе анархическаго метода — совершенно недостаточно. Убѣжденіе, столь распространенное и столь легко дающееся, что само дерзаніе родитъ свободу, что актъ разрушенія уже самъ по себѣ — есть сущность анархическаго самоутвержденія — находится въ зіяющемъ противорѣчіи съ основными принципами анархизма.
Въ «дерзаніи», «революціонаризмѣ» — есть отзвукъ стараго романтическаго бунтарства, жившаго въ подпольѣ и выходившаго сразиться въ одиночку съ «неправдой» въ мірѣ. Что могло быть оружіемъ анархиста противъ полицейскаго аппарата и обывательскихъ болотъ правового государства той эпохи? Одно дерзаніе — крикъ, безумно смѣлый жестъ, «разнузданіе злыхъ страстей» (Бакунинъ).
И «дерзаніе», какъ таковое, стало традиціей.
Въ насажденіи и укрѣпленіи этой традиціи огромную роль сыграло «бакунинство». Слѣпые послѣдователи, какъ это всегда бываетъ съ ними — и тѣмъ болѣе въ анархизмѣ — не поняли учителя и извратили самый смыслъ его ученія.
Они проглядѣли — то великое и созидающее, что стоитъ за пламенными отрицаніями Бакунина, они извратили духъ его формулы — «Духъ разрушающій есть въ то-же время духъ созидающій», они не поняли его гимновъ творческому «многоразличію» жизни съ ея «переходящими вздыманіями и великолѣпіями» и усвоили изъ всего ученія идеализацію террора.
Они не поняли даже его преклоненія передъ реальнымъ творчествомъ «массъ», его великой борьбы за Интернаціоналъ противъ партійныхъ паразитовъ и породили анархическихъ героевъ-одиночекъ, призванныхъ облагодѣтельствовать народы. Бомбы сверху, погромы снизу таковъ сталъ анархизмъ! Его дерзанія стали пусты; въ нихъ не билось соціальное содержаніе.
Анархизмъ этой эпохи — нигилизмъ, торжество отрицающаго раціонализма.
Разсуждая о «средствахъ» анархизма, мы должны прежде всего выяснить отношеніе его къ «компромиссу», программѣ-«минимумъ».
Теоретически анархистское міросозерцаніе не мирится съ компромиссомъ. Компромиссъ есть средство бѣжать чрезмѣрной отвлеченности и согласовать свой идеалъ съ практическими требованіями момента. Но анархизмъ, поскольку это можно вывести изъ отдѣльныхъ и случайныхъ мнѣній его представителей, не боится этой отвлеченности.
Любовь къ правдѣ и воля осуществить ее во всей полнотѣ безъ ограниченій не могутъ быть никогда вполнѣ отвлеченными. Ибо въ нихъ то и заключена наибольшая полнота жизни. Наоборотъ, утвержденіе практичныхъ полуистинъ — обречено на безславное существованіе и безслѣдное исчезновеніе. Никто не можетъ искренно и глубоко любить полуистину; ее презираютъ даже тѣ, кому въ данныхъ условіяхъ она можетъ быть выгодна. Наоборотъ, отвлеченнѣйшія истины, утопіи живутъ упорно, родятъ героевъ, мучениковъ и въ конечномъ счетѣ управляютъ жизнью. Онѣ будятъ человѣческую совѣсть, будятъ духъ протеста, утверждаютъ нашу вѣру въ человѣка и грядущее его освобожденіе — онѣ безспорны и требуютъ немедленнаго утвержденія.
И, тѣмъ не менѣе, можетъ ли существовать какое-либо ученіе или міросозерцаніе, которое не имѣло бы никакой программы, и въ своей жаждѣ безусловнаго могло бы надѣяться на реализацію — безъ промедленій и оговорокъ своего идеала въ жизни.
Одинъ изъ критиковъ анархизма (И. А. Ильинъ) чрезвычайно мѣтко опредѣлилъ то основное настроеніе, которое проникаетъ анархизмъ.
«Въ анархизмѣ — пишетъ онъ — первенство остается за вопросомъ о должномъ. Проблема идеала — вотъ основное содержаніе анархистической психологіи. Познаніе сущаго, предреченіе будущаго, изученіе прошлаго — все это для него лишь орудіе для обоснованія своего идеала. Интересъ къ конечной цѣли жизненнаго дѣйствованія окрашиваетъ каждое переживаніе его души». Даже и въ «реалистическихъ, позитивно-научныхъ изслѣдованіяхъ или даже просто отдѣльныхъ (напр. соціологическихъ) утвержденіяхъ у анархистовъ обыкновенно чувствуется уклоняющее вліяніе этого «идеализма».
Но отсюда — и анархистскій «утопизмъ», его пренебреженіе къ «реальной» обстановкѣ, его ненависть къ «программѣ» вообще.
Вырвемъ изъ литературы «дѣйственныхъ» анархистовъ нѣсколько строкъ, превосходно характеризующихъ философскую и практическую непримиримость анархизма, его «утопизмъ».
«Цѣль соціалиста анархиста — читаемъ мы въ сборникѣ «Хлѣбъ и Воля», составившемся изъ статей основоположниковъ анархизма — во всякое время и при всякихъ обстоятельствахъ одна и та же. Промежуточныхъ цѣлей быть не можетъ».
«... Борьба за улучшеніе не должна быть содержаніемъ соціалистическаго движенія, а лишь попутною въ той борьбѣ, которую мы ведемъ для интегральной реализаціи рабочаго идеала. Работая, такимъ образомъ, мы никогда не рискуемъ подставить частичное улучшеніе на мѣсто нашей конечной цѣли... Борьба за частичныя улучшенія дѣло серьезное, когда она не возводится въ систему, возведенная же въ систему, она превращается въ реформизмъ».
И какъ практическое обоснованіе этого утвержденія.
«Мы не думаемъ, что ближайшая революція поведетъ къ осуществленію нашего идеала во всей его полнотѣ; революція не будетъ дѣломъ какой-нибудь одной партіи, да и не можетъ она стряхнуть сразу всѣ пережитки стараго общества. Но мы знаемъ, что она пойдетъ по равнодѣйствующей всѣхъ силъ, приложенныхъ къ дѣлу, и чѣмъ упорнѣе и непоколебимѣе мы будем дѣйствовать въ нашемъ направленіи, тѣмъ сильнѣе отзовется его вліяніе и тѣмъ большая доля нашихъ идей будетъ въ нее внесена. Чѣмъ громче мы будемъ заявлять о своихъ требованіяхъ, тѣмъ ближе будетъ подходить къ намъ то, что даетъ дѣйствительность...»
И, наконецъ, какъ методъ:
«Активное революціонное меньшинство должно стараться увлечь за собою болѣе пассивное большинство, а не тратить своихъ силъ на составленіе такихъ программъ, которыя пришлись бы по плечу этому большинству».
«Идеалистическій» характеръ анархизма — очевиденъ. «Идеализмомъ» напитаны не только его основныя положенія, но сплошь «идеалистична» и его тактика.
Проанализируемъ анархистскую «тактику» болѣе конкретно.
Прежде всего слѣдуетъ особо — поставить то анархистское теченіе, которое обычно бываетъ связано съ именемъ Нечаева и которое въ уголъ своего міровоззрѣнія ставило — «голое отрицаніе», разрушеніе, порожденіе хаоса, изъ котораго стихійными силами массового творчества долженъ былъ возникнуть новый порядокъ, построенный на «безначаліи». Это теченіе не только не имѣло никакой положительной программы, но и вообще не ставило себѣ никакихъ положительныхъ задачъ. Въ пламенной прокламаціи — «Народная Расправа» Нечаевъ мечетъ громы противъ мыслителей, теоретиковъ, «доктринерствующихъ поборниковъ бумажной революціи». «Для насъ — писалъ Нечаевъ — мысль дорога только, поскольку она можетъ служить великому дѣлу радикальнаго и повсюднаго всеразрушенія... Фактическими проявленіями мы называемъ только рядъ дѣйствій, разрушающихъ положительно что-нибудь: лицо, вещь, отношеніе, мѣшающія народному освобожденію».
Это чисто-разрушительное теченіе анархизма можетъ, впрочемъ, уже считаться ушедшимъ въ исторію. Подлинному идейному анархизму въ немъ нѣтъ мѣста, зато оно таитъ глубокіе соблазны для уголовныхъ элементовъ. Послѣдніе для совершенія своихъ, вполнѣ индивидуальныхъ актовъ прикрываются якобы анархистской «идеологіей» и весьма легко усваиваютъ ея немудреную квази-революціонную фразеологію.
Господствующее мѣсто въ тактикѣ анархизма до послѣдняго времени занималъ — «терроръ».
Терроръ былъ освященъ еще Бакунинымъ. Онъ поощрялъ устраненіе вредныхъ политическихъ лицъ, усматривая въ этомъ начало разложенія общества, основаннаго на насиліи; единичный терроръ онъ считалъ временной стадіей, которая должна смѣниться эпохой коллективнаго, народнаго террора.
Превосходное изложеніе воззрѣній «традиціоннаго анархизма» на терроръ мы находимъ въ его оффиціозномъ, цитированномъ уже нами выше сборникѣ «Хлѣбъ и Воля».
Эти воззрѣнія можно резюмировать слѣдующимъ образомъ:
Терроръ и террористическіе акты открыты не анархизмомъ. Какъ средство самозащиты угнетенныхъ противъ угнетателей, они существовали въ любомъ человѣческомъ общежитіи, но характеръ и формы ихъ проявленія мѣнялись вмѣстѣ съ эволюціей общества и эволюціей взглядовъ на терроръ.
Анархистическій терроръ — не политическій, но антибуржуазный и антигосударственный. Онъ — направленъ на самыя основы существующаго строя. Въ зависимости отъ заданія, онъ можетъ принять форму или индивидуальнаго акта или массового террора — фабричнаго и аграрнаго.
Индивидуальный актъ защищается анархизмомъ съ двоякой точки зрѣнія.
Съ одной стороны, индивидуальный актъ является отвѣтомъ на возмущенное чувство справедливости. Въ извѣстныхъ условіяхъ «личный актъ получаетъ характеръ вполнѣ заслуженнаго мщенія революціонеровъ за звѣрство угнетателей. Въ такія минуты это единственно возможный отвѣтъ народа, но отвѣтъ грозный; доказывающій его жизнеспособность. Личный актъ, совершенный въ указанныхъ условіяхъ, явится громкимъ и многозначущимъ свидѣтельствомъ активной революціонной ненависти ко всему тому, что угнетаетъ и что будетъ угнетать. Мы долго любили, любовь оказалась безплодной, теперь намъ нужно ненавидѣть, но сильно ненавидѣть».
Съ другой стороны, индивидуальный актъ можетъ имѣть глубоко-воспитательное значеніе. «Хорошо иногда показать народу, что и г. г., ведущіе «райскую жизнь», смертны... Слухъ объ убійствѣ тирана, разрушая торжество лакейства, въ мигъ разносится по всей странѣ и даже индифферентныхъ вызываетъ на размышленіе. ...Пусть всякій властитель и эксплуататоръ знаетъ, что его «профессія» связана съ серьезными опасностями; и если несмотря на это, находятся люди, желающіе сыграть роль собаки буржуазіи, то они этимъ самымъ пріобрѣтаютъ право на смерть».
Наконецъ, индивидуальный актъ можетъ нести въ себѣ и опредѣленную непосредственную пользу, устраняя съ общественной арены какого-либо особенно энергичнаго, непримиримаго и жестокаго дѣятеля реакціи.
Такимъ образомъ, «индивидуальный террористическій актъ можетъ имѣть троякое значеніе: мщенія, пропаганды и «изъятія изъ обращенія».
Необходимо, наконецъ, имѣть въ виду, что индивидуальные террористическіе акты направлялись не только противъ отдѣльныхъ лицъ, но, какъ принципіально «антибуржуазные», могли имѣть объектомъ и случайную, анонимную толпу. Таковы случаи «пропаганды дѣйствіемъ» въ палатѣ депутатовъ, кафе и пр. Но подобные акты имѣли вообще немногочисленныхъ сторонниковъ, а въ послѣднее время въ сознательныхъ анархистическихъ кругахъ окончательно утратили кредитъ.
Въ настоящее время даже наиболѣе террористически настроенные анархисты уже признаютъ, что соціальную революцію нельзя ни вызвать, ни рѣшить «нѣсколькими пудами динамита», а потому анархизмъ высказывается рѣшительно за актъ коллективнаго террора.
Онъ рекомендуетъ даже предпочесть — «попытку коллективнаго акта осуществленію личнаго акта».
Задача-же коллективнаго террора — послѣдовательное устрашеніе собственника до отказа его отъ всѣхъ его привиллегій. «Цѣль фабричнаго и аграрнаго террора — довести фабриканта и землевладѣльца именно до того, чтобы они молились только о спасеніи шкуръ своихъ».
Необходимо, наконецъ, отмѣтить еще одну особенность анархистскаго террора.
Этотъ терроръ не только — «антибуржуазный» въ отличіе отъ «политическаго» соціалъ-революціонеровъ, но онъ также — «неорганизованный». «... Мы не признаемъ организованнаго террора и «подчинять его контролю партіи» не только не рекомендуемъ, но, наоборотъ, относимся самымъ отрицательнымъ образомъ къ такому подчиненію, потому что при такихъ условіяхъ террористическій актъ теряетъ свое значеніе акта независимости, акта революціоннаго возмущенія. Оправдывать террористическіе акты, высказываться за нихъ принципіально, словесно или печатно всякій можетъ, кто находитъ имъ историческое оправданіе, но право писанія смертныхъ приговоровъ мы рѣшительно отвергаемъ за организаціями, подъ какимъ бы флагомъ они не выступали. Партійный терроръ всегда бываетъ централизованнымъ и это послѣднее обстоятельство лишаетъ его характера борьбы народа противъ правителей, и превращаетъ въ поединокъ между двумя верховными властями».
Однако, если анархизмъ отрицаетъ, по морально-политическимъ соображеніямъ, возможность постоянныхъ террористическихъ организацій, онъ не высказывается противъ временнаго существованія террористическихъ группъ вообще: «...группы эти могутъ возникать для извѣстной опредѣленной цѣли. Онѣ создаются самими условіями борьбы, жизни, но онѣ должны возникать и разрушаться вмѣстѣ съ объектами ихъ ударовъ».
Резюмируя все вышесказанное, анархическій терроръ можно характеризовать, по преимуществу, слѣдующими моментами: а) анархическій терроръ — антикапиталистиченъ и антигосударственъ в) анархическій терроръ признаетъ индивидуальное право каждаго на казнь ненавистнаго ему лица с) анархизмъ не настаиваетъ на планомѣрномъ, организованномъ веденіи террора d) анархизмъ высказывается категорически противъ партійной санкціи террора.
Въ этомъ бѣгломъ и чисто теоретическомъ очеркѣ, разумѣется, не можетъ найти мѣста изложеніе ни исторіи, ни практики анархическаго террора. Къ тому же — акты Равашоля, Вальяна, Анри, Казеріо и др. — слишкомъ общеизвѣстны и слишкомъ еще на памяти у многихъ, чтобы описаніе ихъ могло представить интересъ[25].
До послѣдняго времени, какъ мы уже говорили выше, террористическая тактика была чуть-ли не единственной формой практическихъ выступленій анархизма, если не считаться съ анархическимъ «просвѣщеніемъ», то-есть словесной и печатной пропагандой, не имѣвшей, впрочемъ, въ массахъ особенно глубокаго успѣха.
Эта тактика была насквозь «идеалистичной». «Идеализмъ» анархизма шелъ такъ далеко, что въ любой моментъ онъ предпочиталъ идти на пораженіе, чѣмъ дѣлать какія либо уступки реальной дѣйствительности. Душевный порывъ, въ его глазахъ, былъ не только чище, нравственнѣе, но и цѣлесообразнѣе систематической, планомѣрной работы. Его не смущало, что никогда и ничто изъ анархистскихъ требованій не было еще реализовано въ конкретныхъ историческихъ условіяхъ. Несмотря на нѣкоторыя коренныя разногласія анархизма съ толстовствомъ, лозунгъ послѣдняго — «Все или ничего» былъ и его лозунгомъ. Только Толстой въ своемъ отношеніи къ общественности избралъ «ничего», анархизмъ требуетъ «все».
Но толстовство представляетъ самый разительный примѣръ неизбѣжности тупика, къ которому должно придти на землѣ всякое ученіе, въ своей жаждѣ безусловнаго, отказывающееся отъ самой земли.
Безпримѣрное по силѣ и послѣдовательности своихъ абсолютныхъ утвержденій, отказывающее въ моральной санкціи каждому практическому дѣйствію, не дающему разомъ и цѣликомъ всей «правды», толстовство приходитъ неизбѣжно (по крайней мѣрѣ, теоретически) къ признанію ненужности и даже вредности и опасности для нравственнаго сознанія людей — любой формы общественной дѣятельности. Система нравственнаго абсолютизма видитъ въ ней однѣ иллюзіи.
Всѣ «проклятые» вопросы нашей общественной и моральной жизни могутъ быть разрѣшены исключительно черезъ внутреннее совершенствованіе самой личности. Только черезъ ея совершенствованіе можетъ совершенствоваться и общество[26].
Въ этомъ смыслѣ, отрицанія полезности общественнаго дѣйствія — ученіе Толстого — близко къ абсолютному индивидуализму типа Ницше. Отъ нигилистическаго пессимизма утвержденій Ницше Толстого спасаетъ — признаніе имъ объективнаго закона добра, «Бога» и его «Воли», живущихъ въ людяхъ.
И мы не думаемъ, чтобы традиціонная анархистическая тактика въ конкретныхъ условіяхъ была продуктивнѣе толстовства.
Мы не говоримъ уже о практически-неизбѣжномъ сдвигѣ вправо «пассивнаго большинства» подъ опасеніемъ «чрезмѣрныхъ» требованій анархизма. Традиціонный анархизмъ, предполагавшій дѣйствовать сверху, черезъ «активное революціонное меньшинство», игнopируетъ дѣйственную и психологическую силу массъ, полагая возможнымъ или, по крайней мѣрѣ, желательнымъ «увлечь ее за собой». Здѣсь — неизбѣжное противорѣчіе съ той убѣжденной вѣрой въ творческую силу массъ, которая характерна именно для современнаго анархизма. Но это противорѣчіе, какъ и многія иныя, есть плодъ того безудержнаго «утопизма», который проникаетъ всѣ построенія анархизма и всю его тактику.
Утопизмъ несетъ въ себѣ великую моральную цѣнность. Онъ будитъ человѣческую совѣсть, будитъ духъ протеста, утверждаетъ вѣру въ творческія силы человѣка и его грядущее освобожденіе.
Но «утопизмъ» для борца, какъ анархизмъ, не можетъ быть перманентнымъ. Борецъ долженъ идти на борьбу съ открытыми глазами, зрѣло избирая надлежащія средства, не пугаясь черной работы въ борьбѣ. Утопизмъ же застилаетъ глаза дымкой чудеснаго; онъ подсказываетъ борцу высокія чувства, высокія мысли, но часто оставляетъ его безъ оружія.
Возвращеніе къ жизни; творческое разрѣшеніе въ каждомъ реальномъ случаѣ кажущейся антиноміи между «идеаломъ» и «компромиссомъ» — таковы должны быть основныя устремленія анархизма. Тогда самый идеалъ его выиграетъ въ ясности, средства и дѣйствія — въ мощи.
Основная стихія анархизма — отрицаніе, но отрицаніе не нигилистическое, а творческое; отрицаніе, ничего общаго не имѣющее съ тѣмъ безсмысленнымъ разгромомъ цѣнностей и упраздненіемъ культуры — во имя только инстинкта разрушенія или чувства слѣпой неудержимой мести, которыя свойственны народу—варвару, народу— ребенку. Упражненіе голаго инстинкта разрушенія губитъ реальныя условія существованія самого разрушителя. Это — походъ противъ самой жизни, а такой походъ всегда кончается пораженіемъ. Донъ-Кихотъ, грязный плутъ и просто темный человѣкъ гибнутъ на равныхъ основаніяхъ.
Вѣра въ рожденіе анархической свободы изъ свободы погромной — безсмысленна. И анархисту она принадлежать не можетъ. «Погромный духъ» — уродливая антитеза анархизма, злобная отвратительная каррикатура на него, придуманная мстительнымъ бѣсомъ раба, развращеннаго полиціей, взяткой, алкоголемъ и совершенной безотвѣтственностью.
Напрасны апофеозы голому «дерзанію». Дерзаніе, только какъ дерзаніе, отталкивается развитымъ анархическимъ самосознаніемъ.
Что такое «дерзаніе»? Безстрашіе, энергія, способность сильно чувствовать: если не сильно любить, то, по крайней мѣрѣ, сильно ненавидѣть. Вотъ — конститутивные признаки «дерзанія». Но всѣ эти качества — и смѣлость, и энергія, и способность сильно чувствовать носятъ отвлеченно-формальный характеръ. Въ какомъ дѣлѣ — смѣлость является помѣхой, энергія — ненужной, сильное чувство — безразличнымъ? Какая бы конкретная задача ни ставилась передъ человѣкомъ или обществомъ, перечисленныя качества являются условіемъ ея успѣха. Внѣ дерзанія невозможны дѣятельность, творчество, независимо отъ ихъ реальнаго содержанія.
И потому дерзаніе — лучшій помощникъ и въ самомъ возвышенномъ творческомъ актѣ и въ самомъ безчестномъ дѣлѣ.
Дерзаніе — есть средство, условіе успѣшнаго достиженія поставленной цѣли, но само въ себѣ не есть цѣль.
Мы должны «дерзать» на подлинно анархическій актъ, чтобы само дерзаніе было анархическимъ.
Въ окружающей насъ реальной исторической обстановкѣ — строительству, положительному творчеству анархизма еще мало мѣста. Дерзаніе, «бунтарство» стало представляться ему его единственной, самодовлѣющей задачей. Подлинное содержаніе анархизма было забыто, цѣли оставлены и голое бунтарство безъ идейнаго содержанія стало покрывать анархическое міровоззрѣніе.
Но развѣ анархизмъ можетъ быть сведенъ только къ свободѣ самопроявленія? Развѣ анархизмъ есть ни къ чему не обязывающая кличка, билетъ, по которому «все дозволено»? Анархизмъ есть то-же, что и традиціонная формула русскаго варварства — «моему ндраву не препятствуй»? Довольно-ли назвать себя анархистомъ и «дерзать», чтобы быть дѣйствительно анархистомъ, т.-е. подлинно свободнымъ?
Что же отличаетъ разбой отъ анархизма, отдѣляетъ анархическое бунтарство отъ погрома?
И развѣ мы не знаемъ, какъ преломляются анархическія средства — анархическій революціонализмъ (action directe), анархическая экспропріація въ призмѣ варварскаго сознанія?
«Революціонаризмъ» свелся къ групповымъ или даже индивидуальнымъ террористическимъ актамъ — не связаннымъ общностью цѣли, подмѣнившимъ идейное анархическое содержаніе не анархической жаждой мести противъ отдѣльныхъ лицъ, желаніемъ свести личные счеты.
Экспропріація утратила соціальное содержаніе — экспропріаціи орудій и средствъ производства въ цѣляхъ ихъ обобществленія, а стала актомъ личной мести, личнаго обогащенія или безсмысленнаго разгрома.
Такой «анархизмъ», доступный сознанію варвара, имѣетъ естественно тѣмъ большій успѣхъ, чѣмъ въ болѣе темныхъ массахъ онъ культивируется почитателями архаическаго подпольнаго бунтарства.
Уже давно стало общимъ мѣстомъ соціологіи, что «чѣмъ ниже интеллектуальный уровень, чѣмъ неопредѣленнѣе границы отдѣльныхъ представленій, тѣмъ возбудимѣе область чувства и тѣмъ волевые акты являются менѣе продуктами опредѣленныхъ, логически расчлененныхъ посылокъ и выводовъ, будучи лишь результатами общаго душевнаго возбужденія, вызваннаго какимъ-либо толчкомъ извнѣ». (Зиммель).
Было бы, разумѣется, убійственнымъ для самого анархизма полагать, что онъ имѣетъ тѣмъ большій успѣхъ, чѣмъ «ниже интеллектуальный уровень» его послѣдователей.
Такъ мы приходимъ къ заключенію, что анархизмъ не можетъ родиться изъ «всякой» свободы и анархизмъ еще не осуществляется въ каждомъ «дерзаніи».
Анархизму нѣтъ и не можетъ бьггь мѣста среди мародеровъ, предателей, алкоголиковъ, сутенеровъ, жандармовъ, государственныхъ террористовъ. Ихъ дерзанія родятъ погромы и рабство, и никогда анархическая свобода не можетъ вырасти изъ ихъ дерзаній.
Анархизму нѣтъ мѣста въ безстыдномъ, безотвѣтственномъ сбродѣ, который свой бунтъ начинаетъ съ разгрома погребовъ и винныхъ заводовъ, безсмысленнаго разрушенія и расхищенія того, что можетъ и должно быть обращено на пользу народную, безсмысленныхъ убійствъ, безсмысленныхъ насилій, самосудовъ, достойныхъ людоѣдовъ.
Анархизму нѣтъ мѣста среди тѣхъ, кто, свергнувъ сегодня иго деспотизма, завтра проектируетъ иную усовершенствованную диктатуру, революціонныя охранки, тюрьмы, революціоннаго жандарма, революціей оплаченныхъ убійцъ?
Только то дерзаніе становится героическимъ, которое несетъ въ себѣ достаточное содержаніе, которое продиктовано сознаніемъ возвышающаго его идеала.
Только то дерзаніе становится анархическимъ, которое соотвѣтствуетъ содержанію его основныхъ устремленій, которое несетъ подлинно освобождающій смыслъ, а не варіируетъ формы насилія.
И прежде всего необходимо подчеркнуть, что анархизму претитъ іезуитская мораль, что въ глазахъ анархизма средства не могутъ быть оправданы цѣлью, что анархическая мораль должна быть построена на признаніи внутренняго соотвѣтствія средствъ цѣлямъ. Только такое средство можетъ быть употреблено анархизмомъ, которое не противорѣчитъ его цѣлямъ, избраннымъ въ данныхъ условіяхъ, или инымъ — болѣе цѣннымъ, съ точки зрѣнія его морали.
Поэтому, анархизмъ, если онъ хочетъ не только имѣть наиболѣе совершенный изъ извѣстныхъ общественныхъ идеаловъ, но хочетъ воплотить его въ жизнь, не можетъ, не смѣетъ отказаться отъ нѣкоторыхъ уступокъ реальности, неизбѣжныхъ въ условіяхъ человѣческаго общежитія.
Человѣкъ, какъ личность — свободенъ, какъ членъ опредѣленной общественности — обусловленъ. И эта обусловленность — имманентна общественности. Кто хочетъ эмансипироваться отъ обусловленности соціальной стороны своего существованія, тотъ долженъ отказаться отъ самой общественности. А это въ современныхъ условіяхъ существованія — невозможно, равносильно смерти.
И самый абсолютный, самый непримиримый идеалъ, не можетъ претендовать на немедленное утвержденіе его въ жизни и на вытѣсненіе всѣхъ тѣхъ относительныхъ цѣнностей, среди которыхъ живетъ человѣчество.
Это великолѣпно показалъ В. Соловьевъ въ «Оправданіи добра».
Требованіе осуществленія абсолютнаго идеала, не считаясь съ міромъ относительнаго и необходимыми уступками ему, заключаетъ въ себѣ неизбѣжное внутреннее противорѣчіе: «Въ самомъ существѣ безусловнаго нравственнаго начала — пишетъ онъ въ «Оправданіи Добра» — какъ заповѣди или требованія... заключается уже признаніе относительнаго элемента въ нравственной области. Ибо ясно, что требованіе совершенства можетъ обращаться только къ несовершенному, обязывая его становиться подобнымъ высшему существу, эта заповѣдь предполагаетъ низшія состоянія и относительныя степени возвышенія» (Нравственность и право).
Или еще въ другомъ мѣстѣ: «Отрицать во имя безусловнаго нравственнаго идеала необходимыя общественныя условія нравственнаго прогресса, значитъ, во-первыхъ, вопреки логикѣ смѣшивать абсолютное и вѣчное достоинство осуществляемаго съ относительнымъ достоинствомъ степеней осуществленія, какъ временнаго процесса; во-вторыхъ, это означаетъ несерьезное отношеніе къ абсолютному идеалу, который безъ дѣйствительныхъ условій своего осуществленія сводится для человѣка къ пустословію; и, въ третьихъ, наконецъ, эта мнимо нравственная прямолинейность и непримиримость изобличаетъ отсутствіе самаго основного и элементарнаго нравственнаго побужденія — жалости, и именно жалости къ тѣмъ, кто ея болѣе всего требуетъ — къ малымъ симъ. Проповѣдь абсолютной морали съ отрицаніемъ всѣхъ морализующихъ учрежденій, возложеніе бременъ неудобоносимыхъ на слабыя и безпомощныя плечи средняго человѣчества — это есть дѣло и нелогичное, и не серьезное, и безнравственное».
Оставляя въ сторонѣ «жалость», какъ специфическій элементъ религіозно-философской системы Соловьева, мы должны признать доводы его въ защиту «относительныхъ степеней возвышенія» — неотразимыми и особенно для того міросозерцанія, которое утверждаетъ себя «боевымъ», по преимуществу, и которое болѣе всего отталкиваютъ уродства квіетизма.
Отказаться отъ признанія «низшихъ состояній», отъ постояннаго и непрерывнаго воплощенія своего «безусловнаго» въ неизбѣжно «относительныхъ» условіяхъ общественной среды — значило бы сознательно обречь себя на безплодіе, на невозможность общественнаго дѣйствія и тѣмъ самымъ признать тщету своихъ утвержденій. Идеалъ — какъ хорошо сказалъ одинъ писатель — есть всегда путь, то-есть переходъ отъ даннаго къ должному, который включаетъ, слѣдовательно, и дѣйствительность и идею.
Такъ приходимъ мы къ сознанію неизбѣжности уступокъ относительному. Стремленіе къ своему общественному идеалу и послѣдовательное осуществленіе его въ жизни и есть внѣдреніе абсолютнаго въ рамки относительнаго.
Наконецъ, ни одинъ общественный идеалъ, не исключая и анархическаго, не можетъ быть называемъ абсолютнымъ въ томъ смыслѣ, что онъ предустановленъ разъ навсегда, что онъ — вѣнецъ мудрости и конецъ этическихъ исканій человѣка. Подобная точка зрѣнія должна обусловить застой, стать мертвой точкой на пути человѣчества къ безграничному развитію. И мы знаемъ уже, что конструированіе «конечныхъ» идеаловъ — антиномично духу анархизма.
Подведемъ итоги.
Можетъ-ли быть оправдано насиліе?
Да, должно быть оправдано, какъ актъ самозащиты, какъ оборона личнаго достоинства. Ибо непротивленіе насильнику, примиреніе съ насиліемъ есть внутренняя фальшь, рабство, гибель человѣческой свободы и личности. Кто не борется противъ «неправды», въ неизбѣжныхъ случаяхъ и насиліемъ, тотъ укрѣпляетъ ее.
Но употребленіе насилія, его формы и предѣлы примѣненія должны быть строго согласованы съ голосомъ анархической совѣсти; насиліе для анархиста не можетъ стать стихійнымъ, когда теряется возможность контроля надъ нимъ и отвѣтственности за него. Вотъ почему анархическая революція не можетъ быть проповѣдью разнузданнаго произвола, погромовъ и стяжаній. Этимъ внѣшнимъ самоосвобожденіемъ не только не облегчается борьба съ насиліемъ, но, наоборотъ, поддерживается и воспитывается само насиліе. Оно приводитъ, такимъ образомъ, къ слѣдствіямъ, отрицающимъ самый анархизмъ.
Расцѣнивая съ этой точки зрѣнія террористическую тактику, необходимо согласиться, что анархизмъ правильно отказывается отъ введенія организованности, планомѣрности въ нее. Терроръ можетъ быть дѣломъ только личной совѣсти и можетъ быть предоставленъ только личной иниціативѣ. Онъ не можетъ стать — постояннымъ методомъ дѣйствія анархической организаціи, ибо, съ одной стороны, цѣликомъ построенъ на насиліи, съ другой, не заключаетъ въ себѣ ни атома положительнаго. Терроръ вовсе не вытекаетъ изъ самой природы анархизма, и, въ этомъ смыслѣ, совершенно правъ одинъ его критикъ, когда пишетъ: «Антибуржуазный терроръ связанъ съ анархическимъ ученіемъ не логически, а только психологически... Нѣкоторые теоретики анархизма не идутъ на этотъ компромиссъ; Э. Реклю, напр., лишь психологически оправдываетъ отдѣльные террористическіе акты, но отнюдь не выступаетъ принципіальнымъ сторонникомъ «пропаганды дѣломъ». (В. Базаровъ. «Анархическій коммунизмъ и марксизмъ).
Тѣмъ не менѣе, въ томъ фактѣ, что господствующіе круги анархистской мысли все же ищутъ извѣстной «мотиваціи» террористическаго акта, относясь безусловно отрицательно къ чисто «антибуржуазному», стихійному террору, можно видѣть, что индивидуальный актъ, этотъ «психологическій компромиссъ» перестаетъ уже удовлетворять развитое анархическое самосознаніе.
Если-же оцѣнивать индивидуальный актъ, не какъ актъ личной совѣсти, но какъ актъ политическій, можно придти къ заключенію о его полной безнадежности.
Правда, этотъ актъ есть единоборство личности не только противъ отдѣльнаго лица, но, въ сущности, противъ цѣлой общественной системы. И въ этомъ безкорыстномъ выступленіи — не мало героизма, неподдѣльной красоты и мощи. Они сообщаютъ акту характеръ подвига, въ молодыхъ, чистыхъ, всѣхъ — способныхъ къ экзальтаціи, зажигаютъ энтузіазмъ. Актъ-ли это самозащиты — обороны, актъ ли это личной мести, или чистаго безумія, но террористъ всегда готовъ пасть жертвой, и это самообреченіе борца окружаетъ голову его свѣтлымъ нимбомъ мученичества.
Но внѣ этихъ заражающихъ вліяній на небольшую относительно кучку «идеалистически» настроенныхъ людей, практическое значеніе индивидуальныхъ актовъ — ничтожно.
А) Индивидуальный актъ — есть столько же доказательство силы, какъ и слабости. Этотъ актъ — взрывъ отчаянія, вопль безсилія передъ сложившимся порядкомъ. Вѣрить въ силу «бомбы», значитъ, извѣриться во всякой иной возможности дѣйствовать на людей и ихъ политику. И потому террористическій актъ есть столько-же актъ «убійства», сколько и «самоубійства». Этимъ актомъ нельзя создать «новаго міра»; можно лишь съ честью покинуть «старый». И тѣ, противъ кого направляются подобные акты, превосходно понимаютъ ихъ внутреннее безсиліе. Они могутъ повредить, убить частное, конкретное, а иногда даже случайное выраженіе системы, но не въ состояніи убить ея «духа». Какое можетъ быть дано лучшее доказательство непобѣдимости той власти, противъ которой единственно возможнымъ средствомъ оказывается «динамитъ».
В) Никогда ни бомба, ни динамитъ, ни вообще какія-бы то ни было насильственныя средства въ этомъ родѣ, не производили такого устрашающаго впечатлѣнія на власть, чтобы она самоупразднилась подъ гипнозомъ страха. Прежде всего, прерогативы власти настолько обольстительны еще въ глазахъ современнаго человѣчества, обладаютъ такой огромной развращающей силой, что рѣдкіе относительно террористическіе акты не могутъ убить «психологіи» власти. А въ отдѣльныхъ случаяхъ, когда носитель власти обладает личнымъ мужествомъ, террористическій актъ сообщаетъ ему новыя силы, укрѣпляющія его личную «психологію». Смакованіе возможности для себя «мученичества» — порождаетъ особую увѣренность въ себѣ, гордость, преувеличенное сознаніе своего значенія, презрѣніе къ врагу, особое сладострастіе жестокости. Наконецъ, терроромъ можно было бы бороться противъ власти въ примитивномъ обществѣ — при неразвитости общественныхъ связей, при слабой дифференціаціи органовъ власти. Въ современномъ же обществѣ власть долгіе относительно періоды покоится на прочномъ базисѣ общественныхъ отношеній. Самая власть представляетъ сложный комплексъ органовъ, и устраненіе одного изъ ея представителей, хотя бы и вліятельнѣйшаго, еще не колеблетъ всей системы, баланса, который сложился подъ вліяніемъ совокупности реальныхъ жизненныхъ условій. Le roi est mort, vive le roi!
С) Практическая безполезность террористическихъ актовъ подтверждается еще тѣмъ, что они обычно порождаютъ вспышки реакціи, усиливаютъ государственно-полицейскій гнетъ, и вмѣстѣ способствуютъ «поправѣнію» общества. Россія имѣетъ въ этомъ смыслѣ достаточно краснорѣчивый примѣръ — безсилія «Народной Воли», несмотря на исключительную даровитость и энергію отдѣльныхъ ея членовъ.
Д) Наконецъ, террористическіе акты, возведенные въ систему, нецѣлесообразны потому, что они санкціонируютъ то зло, противъ котораго призваны бороться. Если вора невозможно исправлять покражей у него, убійцу — убійствомъ близкаго ему человѣка, ибо подобными возмездіями воровство и убійство получаютъ только лишнюю поддержку, то и террористическая политика правительства не можетъ быть излѣчена или измѣнена терроромъ. Терроръ, какъ мы сказали выше, сохраняетъ за собой значеніе лишь личнаго, «психологическаго» акта.
Еще болѣе возраженій и принципиальнаго, и практическаго характера вызываетъ противъ себя «индивидуальное» присвоеніе частной собственности — экспропріація, какъ тактическій пріемъ[27].
Никто не можетъ оспаривать права не анархиста, но человѣка вообще, открыто и насильственно брать необходимое для себя и зависимыхъ отъ него людей въ тѣхъ случаяхъ, когда условія общественной организаціи не могутъ обезпечить его человѣческаго существованія. Но отсюда очень далеко до той «экспропріаціонной» практики, которая, устраняя якобы насильниковъ и лодырей, въ сущности, ихъ подмѣняетъ новыми фигурами. Безпринципность въ этомъ направленіи дѣлаетъ лишь то, что любой мошенникъ можетъ наклеить на свой, якобы, «антибуржуазный» актъ — этикетку анархизма.
Это печальное и грозное явленіе уже обращало на себя не разъ вниманіе сознательныхъ анархистовъ. Однако, въ борьбѣ съ нимъ никогда не было проявлено достаточно энергіи, ибо въ глазахъ многихъ «свобода» все еще является тѣмъ жупеломъ, котораго не смѣетъ коснуться ни анархическая логика, ни анархическая совѣсть. Однако, Гравъ посвятилъ «воровству» въ анархизмѣ несколько вразумительныхъ строкъ: «Есть анархисты — пишетъ онъ — которые изъ ненависти къ собственности доходятъ до оправданія воровства, и даже — доводя эту теорію до абсурда — до снисходительнаго отношенія къ воровству между товарищами. Мы не намѣрены, конечно, заниматься обличеніемъ воровъ: мы предоставляемъ эту задачу буржуазному обществу, которое само виновато въ ихъ существованіи. Но дѣло въ томъ, что, когда мы стремимся къ разрушенію частной собственности, мы боремся, главнымъ образомъ, противъ присвоенія нѣсколькими лицами, въ ущербъ всѣмъ остальнымъ, нужныхъ для жизни предметовъ; поэтому всякій, кто стремится создать себѣ какими бы то ни было средствами такое положеніе, гдѣ онъ можетъ жить паразитомъ на счетъ общества, для насъ — буржуа и эксплуататоръ, даже въ томъ случаѣ, если онъ не живетъ непосредственно чужимъ трудомъ, а воръ есть ничто иное, какъ буржуа безъ капитала, который, не имѣя возможности заниматься эксплуатаціей законнымъ путемъ, старается сдѣлать это помимо закона — что нисколько не мѣшаетъ ему, въ случаѣ, если ему удастся самому сдѣлаться собственникомъ, быть ревностнымъ защитникомъ суда и полиціи» («Умирающее общество и анархія»).
Изслѣдованіе внутренней природы компромисса невозможно внѣ уясненія проблемъ, неизбѣжно встающихъ передъ дѣйственнымъ анархистомъ. Эти проблемы: 1 ) какъ возможно «прощеніе» другихъ, 2) какъ возможенъ «анархическій долгъ».
Говоря о «прощеніи», мы имѣемъ въ виду не субъективныя настроенія личности, а нѣкоторый соціальный принципъ, обязательный лозунгъ практической жизни.
Если мы рѣшаемъ «прощать» всегда, принципіально, во имя стихійной, не могущей быть нами осознанной до конца причинности, но обусловливающей въ насъ все до послѣдняго дыханія — мы неизбѣжно придемъ къ дѣйствительно всепрощающему, но отталкиваемому свободнымъ сознаніемъ матеріализму, гдѣ все предопредѣлено и свободы выбора не существуетъ. Но въ такомъ «матеріалистическомъ» пониманіи мы уже — не свободныя, сознающія себя «я», a химическіе или механическіе процессы. Всѣ наши устремленія, борьба, революціи — моменты, обусловленные уже за тысячи лѣтъ назадъ. Такое пониманіе не только неизбѣжно ведетъ къ безплодному пессимизму, но не оставляетъ мѣста и самой морали, невозможной внѣ свободы.
Съ точки же зрѣнія свободнаго сознанія — «прощеніе», само по себѣ, не есть благо. Оно можетъ быть и благомъ и зломъ, въ зависимости отъ содержанія, которое вы въ него вложите. Есть вещи, которыя можно понимать и можно простить. Есть вещи, которыя должно понимать и должно простить. Есть, наконецъ, вещи, которыя нельзя ни понимать, ни прощать. Мы не смѣемъ прощать проступковъ, претящихъ свободной человѣческой совѣсти, насилующихъ человѣческую свободу. Въ подобныхъ случаяхъ компромиссы — не неумѣстны, но преступны. Что значило-бы понять и простить подобный актъ, когда самая возможность пониманія отталкивается нашимъ нравственнымъ сознаніемъ. Понять и простить его значило бы стать его соучастникомъ.
Личная психологія и соціальная подоплека любой тиранніи (любого принужденія) могутъ быть великолѣпно выяснены. Вы можете понять и оцѣнить всѣ «необходимости» ея появленія. Но какими «внутренними» мотивами можетъ быть оправдана для васъ тираннія?
Знаніе причинности и основанное на ней прощеніе убаюкиваютъ насъ. Они оправдываютъ не только возмутившій нашу совѣсть фактъ, но попутно, по аналогіи, готовятъ напередъ оправданіе инымъ, могущимъ открыться рядомъ, язвамъ. Та погоня за причинностью и закономѣрностью, которая оскопляетъ нашу «науку», характеризуетъ и всѣ наши судилища государственнаго и общественнаго характера, не исключая и безстыдныхъ пародій ихъ — революціонныхъ трибуналовъ. Въ нихъ всегда ищутъ, если не опредѣленно партійную, то нѣкоторую срединную правду, этическій минимумъ, ничего общаго съ нравственностью не имѣющій, a являющійся лишь необходимой въ глазахъ общественности условностью, позволяющей продѣлывать успокоительныя для общественной совѣсти операціи.
Но «непрощеніе» не можетъ переходить въ недостойное анархиста чувство «мести».
Анархизму ненавистны — не люди, но строй, порядокъ, система, развращающіе ихъ. Анархизмъ не прощаетъ идолопоклонства, но не жаждетъ мстить отдѣльнымъ людямъ. Помимо этической недопустимости подобнаго чувства у анархиста, оно и практически нецѣлесообразно, ибо удовлетвореніе его родитъ всегда новое зло, новыхъ мстителей и новыя цѣпи преступленій. Месть—насиліе можетъ быть оправдано лишь въ случаяхъ исключительныхъ — необходимой обороны себя и общественности отъ необузданныхъ проявленій произвола.
Великолѣпныя, подлинно анархическія мысли въ этомъ планѣ были сказаны на судѣ «Чикагскими мучениками» въ 1885 г. — Cписомъ и Парсонсомъ.
«Анархизмъ вовсе не значитъ — говорилъ Списъ — убійства, кражи, поджоги и т. п., а миръ и спокойствіе для всѣхъ». «Война съ учрежденіями, но миръ съ людьми» — говорилъ Парсонсъ. — «Необузданный гнѣвъ противъ тиранновъ и смутное желаніе во что бы то ни стало разрушать и убивать не составляетъ характерныхъ чертъ анархическаго міросозерцанія... Анархизмъ есть полное противоположеніе идеи насилія».
Наоборотъ, на неправильной почвѣ стоитъ «традиціонная анархическая» мысль.
«Нельзя осуществить свободу безъ разрушенія рабства — читаемъ мы въ «Хлѣбъ и Воля» — а въ дѣлѣ разрушенія, само собою разумѣется, перчатокъ надѣвать не приходится». И мы совершенно согласны съ этимъ утверждениемъ. Конечно, бунтъ, революція, низложеніе цѣлаго порядка не могутъ обойтись безъ насилія и жертвъ. Но мы не можемъ согласиться съ слѣдующимъ за тѣмъ воззваніемъ: «И не нужно бояться народа, не нужно бояться, что крестьянинъ, разъ сорвался съ цѣпи, пойдетъ и слишкомъ далеко, что ему не будетъ удержу. Не надо бояться «лишняго буйства» со стороны народа. По отношенію того класса, который вѣками угнеталъ его, онъ, какъ бы ни старался, не можетъ проявить «лишняго буйства». Какъ бы ни были жестоки въ день революціи угнетенные капиталомъ и властью, угнетатели все-таки останутся у нихъ въ долгу за муки, причиненныя имъ въ продолженіе долгихъ вѣковъ. Не надо бояться всѣхъ этихъ «страховъ».
Это — призывъ къ духу «погромному», который ничего общаго съ анархизмомъ имѣть не можетъ. И, помимо того, что призывъ этотъ напередъ санкціонируетъ любую безпринципность, онъ — безплоденъ именно въ анархическомъ смыслѣ, ибо на мѣсто однихъ угнетателей воспитываетъ другихъ.
Лучшее рѣшеніе проблемы «мести» и именно въ анархическомъ смысле дано Ницше.
«... Активный, наступающій, переступающій границы человѣкъ — писалъ онъ — стоитъ всегда несравненно ближе къ справедливости, чѣмъ реактивный. Для него не необходимо такъ ложно, такъ предубѣжденно отнестись къ своему объекту, какъ это дѣлаетъ или долженъ дѣлать послѣдній... Во всѣ времена агрессивный человѣкъ, какъ болѣе сильный, болѣе спокойный, болѣе благородный, имѣлъ болѣе свободный взоръ и болѣе чистую совѣсть. Наоборотъ, человѣкъ мести на своей совѣсти имѣетъ вымыслы нечистой совѣсти»... И въ другомъ мѣстѣ: «... Въ благородныхъ и сильныхъ людяхъ... большой запасъ пластической, творческой, исцѣляющей, дающей забвеніе силы... Какое глубокое уваженіе питаетъ благородный человѣкъ даже къ своему врагу! А такое уваженіе — вѣдь, мостъ къ любви... Самый врагъ — для него отличіе! Наоборотъ,... человѣкъ, живущій злобой и местью, представляетъ врага себѣ «злымъ» и, сдѣлавъ это своимъ основнымъ убѣжденіемъ, создаетъ себѣ иной, противоположный образъ «добраго»; это — онъ самъ!»
Конечно, это — отвлеченное рѣшеніе проблемы, но оно наполнено именно тѣмъ этическимъ содержаніемъ, которое отвѣчаетъ подлинно свободному міросозерцанію.
Предъявляя чрезвычайно высокую требовательность по отношенію ко всему окружающему, анархистское міросозерцаніе тѣмъ съ большей силой утверждаетъ и обязанности по отношенію къ самому анархизму, анархическій «долгъ», начало отвѣтственности.
Идеалъ, должное — въ анархическомъ міровоззрѣніи занимаютъ доминирующее мѣсто. Должное проникаетъ всѣ частныя построенія анархизма. Анархизмъ, по существу, занятъ болѣе всего этической проблемой.
Поэтому, анархизмъ — не можетъ отказаться отъ основного принципа морали — сознанія долга. Послѣднее не выводится изъ опыта, оно — имманентно человѣческой природѣ. Эмпирическія данныя обусловливают лишь конкретное содержаніе нашего сознанія.
Анархическое содержаніе сознанія долга, отвѣтственности передъ собой, предъ свѣтомъ своей совѣсти — высшее и благороднѣйшее бремя, которое когда-либо человѣкъ возлагалъ на себя.
Если, какъ я говорилъ выше, моя свобода — въ свободѣ и радости другихъ, этимъ самымъ я постулирую содержаніе моего «долга» и моей «отвѣтственности».
Я не смѣю отказаться отъ моей доли въ «злѣ», меня окружающемъ. Я — повиненъ за все отчаяніе, за всѣ преступленія, за голодъ и насильственную смерть, если они есть въ мірѣ. Только рабъ мирится съ существованіемъ рабовъ и всѣхъ хотѣлъ бы видѣть рабами. Рабъ, объявившій войну угнетателю — уже не рабъ.
Сознать въ себѣ отвѣтственность за всѣхъ, за все — значитъ призывать къ подвигу. И отвѣтственность такая — не страшна. Наоборотъ, она напояетъ жизнь реальнымъ содержаніемъ, роднитъ каждое «я» съ другими, безсильнаго дѣлаетъ активнымъ, творческимъ.
Наоборотъ, чувство безотвѣтственности разрубаетъ связи и огораживаетъ отъ всѣхъ. Страшное въ жизни не перестаетъ быть страшнымъ, но становится невыносимымъ своимъ безсмысліемъ, ибо самой черной человѣческой совѣсти не дано спокойно пировать на человѣческихъ трупахъ.
Безотвѣтственность неуклонно ведетъ къ личной гибели — сознанію своего безсилія и ненужности. Сильнымъ становится тотъ, кто береть на себя «грѣхъ міра».
И только свободное отъ мертваго догматизма, отъ вѣры въ непогрѣшимость вождей и партій, идущее изъ глубинъ творческаго «я», вѣрующее въ свободную активность личности — анархическое міросозерцаніе не побоится никакой отвѣтственности передъ судомъ своей совѣсти. Поэтому, анархизмъ — необходимая форма нравственнаго отношенія къ жизни.
Изслѣдованіе практической дѣятельности или скорѣе программы анархистовъ легко насъ убѣждаеть въ томъ, что ригоризмъ ихъ носитъ часто внѣшній и поверхностный характеръ. Въ дѣйствительности, и анархисты допускаютъ отступленія отъ непримиримой догмы и идутъ на компромиссы.
Фактически самый нетерпимый анархистъ не можетъ обойтись безъ компромисса — въ рамкахъ капиталистическаго строя. Не всѣ анархисты слагаютъ свою голову на плахѣ и не всѣ кончаютъ жизнь въ тюрьмѣ. Между тѣмъ, казалось-бы, самая возможность мирнаго существованія анархиста въ буржуазномъ обществѣ, изданія имъ органовъ печати, выступленія его въ собраніяхъ есть абсурдъ. Такое существованіе возможно только потому, что перманентнаго бунта, какъ перманентной революціи, не было и быть не можетъ. Не въ силу только инстинкта самосохраненія, или общественнаго инстинкта косности, но въ силу психо-физическихъ условій самаго человѣческаго организма.
Періоды разрушенія смѣняются моментами строительства; послѣдніе, независимо отъ ихъ характера, всегда несутъ съ собой извѣстное успокоенie, примиреніе, удовлетвореніе достигнутымъ. Это — лежитъ въ самой человѣческой природѣ и, доколѣ она сохраняетъ извѣстныя намъ сейчасъ ея особенности, это измѣненію не подлежитъ. Особенность анархизма отъ прочихъ идеаловъ человѣчества заключается лишь въ томъ, что онъ никогда не можетъ остановиться на достигнутомъ, не мирится съ косностью, таитъ всегда въ себѣ «безпокойство», не знаетъ конечныхъ цѣнностей. Но промежуточныя творческія ступени знаетъ и анархистъ. Доказательства этому мы найдемъ въ собственныхъ заявленіяхъ анархистовъ.
Кропоткинъ не вѣрилъ прежде, повидимому, не вѣритъ и въ настоящее время, въ возможность непосредственнаго перехода отъ нашего дореволюціоннаго порядка къ коммунистическому строю. «Мы прекрасно знаемъ — читаемъ мы также въ сборникѣ «Хлѣбъ и Воля» — что не завтра или послѣзавтра осуществится въ Россіи анархизмъ, т.-е. безгосударственный соціализмъ». И далѣе: «Не конституція, какъ таковая, намъ нужна, такъ-какъ мы вообще противъ всякаго государства, а свобода слова, печати и собраній, чтобы мы могли послѣдовательнѣе вести нашу соціалистическую пропаганду и ускорить соціальную революцію».
Тѣ-же признанія мы найдемъ у Малатесты, Корнелиссена, Малато, Мерлино и др.
Развѣ мы не знаемъ, что непримиримый анархическій догматизмъ не мѣшалъ анархистамъ принимать дѣятельное участіе въ такихъ явленіяхъ, какъ буланжизмъ, дрейфусизмъ и пр., хотя обѣ стороны, казалось-бы далеки «дѣлу» анархистовъ, а защита принциповъ демократіи и цѣлости буржуазной республики имѣетъ мало общаго съ анархической «программой».
Развѣ анархизмъ не удѣляетъ чрезвычайно широкаго мѣста своимъ просвѣтительнымъ задачамъ?
«Мы ничего не выигрываемъ — пишетъ Кропоткинъ въ «Рѣчахъ бунтовщика» — избѣгая споровъ о «теоретическихъ вопросахъ»; наоборотъ, чтобы быть «практичными», мы должны ставить ихъ на обсужденіе и всѣми силами оспаривать и защищать нашъ идеалъ анархическаго коммунизма... Мы должны ясно и точно опредѣлить цѣль, къ которой стремимся. И не только опредѣлить эту цѣль, но и подтвердить ее словомъ и дѣломъ, сдѣлать достояніемъ всего народа, чтобъ въ день возстанія она вырвалась изъ всѣхъ устъ. Совершить эту работу гораздо необходимѣе и труднѣе, чѣмъ это предполагаютъ; если цѣль наша и стоитъ, какъ живая, передъ глазами небольшого числа избранныхъ, то она совсѣмъ не ясна для большей части народа, на который непрерывно вліяетъ пресса буржуазная, либеральная, коммунистическая, коллективистическая и т. д. и т. д... И если мы хотимъ, чтобъ въ день разгрома, народъ единодушно выставилъ наше требованіе, мы должны непрерывно распространять свои идеи и ясно выставить свой идеалъ будущаго общества. Если мы хотимъ быть практическими, мы должны заняться тѣмъ, что реакціонеры называютъ «утопіями и теоріями». Теорія и практика должны составлять одно цѣлое, чтобъ побѣда была на нашей сторонѣ».
«... Первое и самое важное средство для борьбы за анархическій коммунизмъ — пишетъ Вѣтровъ — есть просвѣщеніе». И далѣе слѣдуетъ длинный списокъ того, что «необходимо доказать» народу. («Анархизмъ, его теорія и практика»).
Наконецъ — и это поворотный пунктъ въ исторіи анархизма — современный анархизмъ все болѣе приходитъ къ убѣжденію, что соціальное дѣйствіе требуетъ и соціальныхъ средствъ, что воздѣйствіе на самыя основанія общественной системы требуетъ постоянныхъ организацій, связанныхъ между собой не іерархически, но по принципу федераціи и тѣсно спаянныхъ единствомъ цѣли.
Организація перестаетъ пониматься, какъ иниціативная группа «одиночекъ». Такія группы — полезны, какъ ферментъ, но строить политику» на нихъ нельзя. Такую «политику могутъ» нести на своихъ плечахъ только революціонные слои, революціонныя массы въ соотвѣтствующихъ организаціяхъ. Такъ пришелъ анархизмъ къ «классу» и классовой борьбѣ. «...Классовая борьба — читаемъ въ «Хлѣбъ и Воля» — есть единственная почва, на которой возможно построеніе здоровой, цѣлесообразной революціонной тактики».
Что-же такое классъ? И какъ анархизмъ понимаетъ и долженъ понимать классовую организацію?
Экономическая эволюція въ цѣломъ представляется намъ систематическимъ, послѣдовательнымъ процессомъ выдѣленія организаціонныхъ или предпринимательскихъ, и исполнительскихъ, или рабочихъ, общественныхъ группъ.
Этотъ процессъ, наблюдаемый въ зачаткахъ уже на самыхъ раннихъ ступеняхъ хозяйственнаго развитія, въ античномъ строѣ, феодальномъ строѣ, въ эпоху товарнаго капитализма, наиболѣе рельефно и ярко выступаетъ въ современномъ капиталистическомъ строѣ съ его почти законченной классовой организаціей. «Экспропріація производителя отъ средствъ производства», къ которой можетъ быть сведенъ весь хозяйственный процессъ, получила именно въ наше время, благодаря окончательному торжеству машины надъ человѣкомъ, наиболѣе категорическое и рѣзкое выраженіе.
Въ чемъ же сущность организаціонной и исполнительской функціи? Въ чемъ разница между организаторомъ и исполнителемъ? Что были они раньше? Чѣмъ стали теперь?
Удачный отвѣтъ на эти вопросы мы найдемъ въ прекрасномъ очерке о классахъ и группахъ А. Богданова, помещенномъ въ третьей книге его работы объ «Эмпиріомонизмѣ».
Исполнители, независимо отъ ихъ профессіи, «сапожникъ, кузнецъ, земледѣлецъ — разсуждаетъ г. Богдановъ — выполняютъ очень различные трудовые акты, но всѣ эти акты лежатъ въ сферѣ непосредственнаго воздѣйствія со стороны человѣческаго организма на внѣ соціальную природу, непосредственной борьбы съ нею, — словомъ, въ области техническаго процесса въ самомъ полномъ и строгомъ значеніи этого слова».
Наоборотъ, организаторъ, направляющій трудъ исполнителей, будетъ-ли это патріархъ родовой общины, или средневѣковый феодалъ, или рабовладѣлецъ античнаго міра, или предприниматель эпохи капитализма, воздѣйствуетъ на природу черезъ этихъ исполнителей; онъ не вступаетъ съ ней въ непосредственную борьбу... Для организатора непосредственный объектъ дѣятельности — не природа внѣ-соціальная, a другіе люди...»
Въ образованіи этихъ двухъ группъ: организаторской и исполнительской и кроется зародышъ классоваго начала. Разумѣется, образованіе общественнаго класса далеко не совпадаетъ съ процессомъ выдѣленія организаторскихъ или исполнительскихъ функцій. Послѣднія въ той или другой формѣ возникаютъ уже въ самыхъ раннихъ человѣческихъ общежитіяхъ, наоборотъ, общественный классъ, есть продуктъ долгаго историческаго развитія.
Минуя раннія историческія эпохи и разнообразныя идеологическія ученія, складывавшіяся на почвѣ общественныхъ антагонизмовъ[28], мы перейдемъ непосредственно къ тому времени, когда начала слагаться соціалистическая мысль, ибо въ ея критикѣ капитализма ученіе о классовомъ строеніи общества заняло одно изъ первыхъ мѣстъ. Элементы этого ученія мы находимъ уже у англійскихъ соціалистовъ-утопистовъ: у В. Годвина, Ч. Голла и особенно В. Томсона. Затѣмъ идея классоваго строенія общества получила широкое развитіе въ Сенъ-Симонизмѣ, въ «Демократическомъ Манифестѣ» Консидерана, въ трудахъ Пеккера, Бюре, Л. Блана, Прудона, вплоть до ученыхъ идеологовъ французской буржуазіи въ родѣ Гизо. Въ этомъ бѣгломъ перечнѣ нельзя не отмѣтить также замѣчательнаго австрійскаго государственника, Л. Штейна, труды, котораго, посвященные исторіи соціализма и коммунизма во Франціи и опубликованные до появленія основныхъ работъ Маркса и Энгельса, несомнѣнно вліяли на политическую философію марксизма.
Въ «Письмахъ женевскаго жителя къ современникамъ» (1802) С. Симонъ, набрасывая фантастическій планъ будущаго политическаго устройства, обращается съ горячимъ призывомъ — осуществить его къ различнымъ общественнымъ группамъ. «Ученые и артисты», какъ представители умственной иниціативы, должны первые побѣдить инертность. Собственникамъ — консервативному элементу общества — С. Симонъ напоминаетъ, что они меньшинство въ странѣ, что, если они не примутъ его плана, они могутъ вновь подвергнуться ужасамъ революціи. Остальнымъ — страдающимъ и бѣднымъ онъ указываетъ, что, хотя они и многочисленнѣе собственниковъ, но слабѣе ихъ, благодаря непросвѣщенности. Власть принадлежитъ только просвѣщеннымъ. Господство черни въ эпоху революціи приведетъ страну къ голоду.
Въ этомъ противопоставленіи общественныхъ группъ, различныхъ въ экономическомъ смыслѣ, съ различнымъ отношеніемъ къ общественному строю, различной психологіей, глубоко противорѣчивыми стремленіями лежитъ основа современнаго ученія объ общественномъ классѣ. Конечно, здѣсь многое неясно, анализъ Сенъ-Симона — неполонъ, классовыя грани — намѣчены суммарно, — мы не говоримъ уже о глубокомъ политическомъ безразличіи, характерномъ для всей системы С. Симона въ ея цѣломъ — но здѣсь уже на лицо элементы соціологической идеи о классовомъ строеніи общества, здѣсь рѣзкій, безповоротный разрывъ съ буржуазными теоріями «гармоніи интересовъ». И въ другихъ своихъ произведеніяхъ С. Симонъ указываетъ на классовый антагонизмъ, какъ движущій факторъ исторіи. Борьба феодализма—землевладѣнія съ промышленностью—капиталомъ, обусловила, по его мнѣнію, наступленіе Великой революціи конца ХVIII-го вѣка. С. Симонъ предвосхищаетъ современное соціалистическое требованіе всеобщей трудовой повинности и право каждаго на трудъ. Отсюда его критика права собственности на наслѣдство и всякаго права собственности, не основаннаго на личномъ трудѣ. Съ необычайной силой онъ возстаетъ противъ неравенства — не того, которое вытекаетъ изъ самой сущности человѣческой природы; — это онъ привѣтствуетъ, но того, которое своимъ происхожденіемъ обязано дурному соціальному устройству. Его «Новое христіанство» есть апоѳеозъ труда и его представителей.
Ученики С. Симона продолжали и углубляли идеи учителя. У Анфантена мы находимъ блестящую критику буржуазной экономіи. «Политическая экономія — писалъ онъ — софистика въ пользу привилегій... Но капиталъ работаетъ только потому, что къ нему прилагаютъ руки другіе люди, сообщающіе ему жизнь, рождающіе его производительность». На улицахъ Парижа кипитъ іюльская революція и Анфантенъ обращается къ французскому народу съ пламенной прокламаціей, въ которой клеймитъ «праздныхъ, живущихъ чужимъ потомъ». Въ замѣчательномъ курсѣ лекцій по С. Симонизму (1828) Базаръ характеризуетъ всю исторію человѣчества, какъ систематическую эксплоатацію человѣка человѣкомъ. «Довольно бросить бѣглый взглядъ на то, что происходитъ вокругъ — восклицалъ Базаръ — чтобы видѣть, что современный рабочій эксплоатируется матеріально, интеллектуально и морально такъ же, какъ прежній рабъ».
Еще болѣе глубокое пониманіе роли классовыхъ антагонизмовъ въ капиталистическомъ обществѣ мы находимъ у Фурье. Его характеристика современнаго періода «цивилизаціи» является самой полной изъ всѣхъ, когда-либо имѣвшихъ мѣсто въ соціологической литературѣ. Марксизму оставалось ее лишь углубить. Источникъ «зла» — училъ Фурье — лежитъ въ глубокомъ, проникающемъ весь современный строй, «безпорядкѣ». Самый грозный безпорядокъ — безпорядокъ экономическій, порождающій бѣдность, самый страшный бичъ современности, источникъ физическихъ и моральныхъ страданій, ведущій къ вырожденію, толкающій на преступленія. Экономическій безпорядокъ вызываетъ безпорядокъ соціальный. «7/8 народа ограблены ½-ой, живущей на ихъ счетъ». Общество разбилось на враждующіе классы, заинтересованные въ причиненіи зла одинъ другому. Это взаимоненавистничество — борьба за жизнь — источникъ глубокаго противорѣчія между «индивидуальными интересами и интересомъ коллективнымъ» Нѣтъ болѣе общихъ идеаловъ. «Сколько классовъ, столько и моральныхъ системъ». Безпорядокъ проникаетъ и политическую жизнь. Государство и правительство стоятъ исключительно на стражѣ привилегированныхъ интересовъ. Ихъ главная забота — «вооружить нѣкоторое количество жалкихъ рабовъ, именуемыхъ солдатами, терроризировать ихъ помощью различныхъ строгостей… …и держать, такимъ образомъ, въ повиновеніи массы невооруженныхъ бѣдняковъ». Естественно, что послѣдніе находятся въ состояніи постояннаго антагонизма къ существующему порядку, антагонизма, прорывающагося временами въ возмущеніяхъ и бунтахъ.
Несмотря, однако, на глубокую и разностороннюю наблюдательность, ясное пониманіе несовершенствъ общественнаго строя, ранніе соціалисты, позже названные «утопическими», не оцѣнивали достаточно сложности соціальнаго процесса, полагая, что сознанія идеала довольно, чтобы измѣнить существующій порядокъ вещей. Фурье съ ослѣпительной ясностью учившій, что каждая общественная форма вынашиваетъ слѣдующую въ своихъ собственныхъ нѣдрахъ, вѣрилъ, однако, что главная революціонная сила — нравственное перерожденіе человѣчества. Для переворота довольно обратиться къ благороднымъ инстинктамъ человѣка, внушить состраданіе къ меньшому брату или показать соціально-экономическія преимущества новаго строя. С. Симонъ глубоко вѣрилъ, что королевскаго ордонанса довольно, чтобы сдѣлать жизнь людей свободной и счастливой. И онъ, и Фурье вѣрили, что новый строй долженъ быть «открытъ», «изобрѣтенъ» и на это время забывали о хорошо извѣстной имъ неумолимой послѣдовательности въ развитіи соціально-экономическихъ формъ.
При этомъ положительные проекты утопистовъ всегда основывались на представленіяхъ, во первыхъ, о высокомъ достоинствѣ человѣческой природы, во вторыхъ, объ исключительно дезорганизующемъ значеніи классовой борьбы. «Богачи — писалъ, напримѣръ, Кабе въ своемъ «Путешествіи въ Икарію» — такіе же люди, какъ и бѣдняки и также — наши братья. Они — обширная и прекрасная часть человѣчества. Конечно, надо препятствовать имъ стать притѣснителями, но ихъ также не слѣдуетъ притѣснять, какъ не слѣдуетъ давать угнетать самихъ себя... Ихъ не слѣдуетъ ненавидѣть, такъ какъ ихъ предразсудки и вообще ихъ жизнь есть такой же плодъ ихъ дурного воспитанія и дурной общественной организаціи, какъ несовершенства и пороки бѣдняковъ».
Такъ утопическій соціализмъ исправлялъ свои соціологическія концепціи моралью и въ общемъ морализированіи думалъ найти средства къ разрѣшенію соціальныхъ неустройствъ.
Впервые съ классовой борьбой въ современномъ ея пониманіи мы встрѣчаемся въ трудахъ «научнаго» соціализма. Начало было положено «Коммунистическимъ Манифестомъ» (1847), возгласившимъ, что исторія всѣхъ бывшихъ до сихъ поръ человѣческихъ обществъ есть исторія борьбы классовъ. Послѣ характеристики историческаго процесса, со стороны участвующихъ въ немъ общественныхъ группъ, манифестъ заключалъ :« Все болѣе и болѣе современное общество разбивается на два обширныхъ враждебныхъ лагеря — два великихъ класса, прямо противоположныхъ по своимъ интересамъ: буржуазію и пролетаріатъ».
Однако, ни въ Коммунистическомъ Манифестѣ, ни у самого Маркса мы не находимъ систематическаго законченнаго ученія о классѣ. Глава 52-я и послѣдняя 3-го тома «Капитала», посвященная интересующему насъ вопросу, неожиданно прерывается замѣчаніемъ редактора — Энгельса: на этомъ рукопись обрывается. Но превосходный, хотя и разбросанный матеріалъ для освѣщенія этой трудной проблемы, мы находимъ въ небольшихъ историческихъ работахъ Маркса. Мы отвлеклись бы слишкомъ въ сторону, если-бъ вздумали послѣдовательно прослѣдить ходъ развитія его мыслей объ общественномъ классѣ; мы неминуемо натолкнулись бы и на цѣлый рядъ противорѣчій, изложенію которыхъ здѣсь не можетъ быть мѣста. Поэтому, мы остановимся только на капитальномъ выводѣ Маркса, который можетъ быть положенъ въ основу современнаго ученія о классѣ. Этотъ выводъ, поскольку онъ вытекаетъ изъ цѣлаго ряда глубокихъ и блестящихъ характеристикъ, посвященныхъ то крестьянству, то мелкой буржуазіи, можетъ быть формулированъ слѣдующимъ образомъ: подъ общественнымъ классомъ слѣдуетъ понимать соціальную группу, члены которой связаны не только однороднымъ экономическимъ интересомъ, но также и сознаніемъ общности этого интереса. «Поскольку милліоны крестьянскихъ семей — писалъ Марксъ въ «Восемнадцатомъ брюмера Луи Бонапарта» (1869), — существуютъ въ экономическихъ условіяхъ, благодаря которымъ онѣ по своему образу жизни, по своимъ интересамъ и образованію отличаются отъ всѣхъ другихъ классовъ и даже враждебны имъ, онѣ сами образуютъ классъ. Но поскольку между малоземельными крестьянами существуетъ только локальная связь, поскольку тожественность ихъ интересовъ не создаетъ никакой общности, никакого національнаго объединенія, никакой политической организаціи, они не образуютъ класса».
Это разсужденіе для конструированія опредѣленія общественнаго класса имѣетъ огромную цѣнность. Оно совершенно порываетъ съ традиціями старой классической школы, довольствовавшейся въ своемъ пониманіи класса принадлежностью совокупности хозяйственныхъ индивидовъ къ однородному экономическому интересу. При такомъ пониманіи необъяснимыми казались тѣ случаи, когда опредѣленныя общественныя группы съ общими экономическими интересами не только не шли рука объ руку, но нерѣдко выступали открытыми врагами въ процессѣ соціальной борьбы.
Итакъ, согласно опредѣленію Маркса, общественный классъ покоится на двухъ основаніяхъ: 1) экономическомъ и 2) идеологическомъ или моральномъ.
Экономическая основа — заключается въ томъ, что всѣ члены класса находятся въ однородномъ положеніи въ процессѣ производства, другими словами, они исполняютъ общія соціально-экономическія функціи, въ зависимости отъ формъ собственности на орудія и средства производства. Изъ этого также слѣдуетъ, что каждый общественный классъ имѣетъ собственную, спеціальную форму дохода, въ свою очередь обусловливающую однородность интересовъ всѣхъ членовъ класса.
Моральная или идеологическая основа — заключается въ томъ, что всѣ члены класса должны имѣть сознаніе однородности и общности ихъ интересовъ, т.-е. классовое самосознаніе.
Оба эти элемента — экономическій и моральный равно необходимы для построенія понятія класса. Въ полемическомъ сочиненіи противъ Прудона «Нищета философіи» Марксъ писалъ: «Господство капитала создало для массы работниковъ общее положеніе, общіе интересы. И эта масса есть уже классъ по отношенію къ капиталу, но еще не по отношенію къ самой себѣ... Въ борьбѣ... эта масса объединяется, она становится классомъ для самой себя. Интересы, которые она защищаетъ, становятся интересами класса».
Современное опредѣленіе общественнаго класса представляетъ лишь углубленное пониманіе первоначальной формулы Маркса.
Еще въ 1875 г. Готская программа, желая подчеркнуть обособленное положеніе рабочаго класса, въ четвертомъ пунктѣ 1-ой части заявляла: «освобожденіе труда должно быть дѣломъ рабочаго класса, по отношенію къ которому всѣ остальные классы представляютъ лишь реакціонную массу». Такимъ образомъ, здѣсь для развитого классоваго самосознанія предполагается необходимымъ не только наличность сознанія общности интересовъ членовъ данной группы, но и сознаніе враждебности этихъ интересовъ интересамъ другихъ общественныхъ группъ: «Общественные классы — пишетъ Каутскій — образуются не только общностью источниковъ дохода, но также и вытекающей изъ нея общностью интересовъ и общностью противоположности своихъ интересовъ интересамъ другихъ классовъ».
Несмотря, однако, на всѣ эти опредѣленія, значеніе моральнаго момента въ образованіи класса долгое время оставалось непонятымъ даже въ марксистскомъ лагерѣ.
Этотъ моментъ съ несравненной яркостью начинаетъ говорить, какъ мы видѣли уже выше, въ революціонномъ синдикализмѣ.
Синдикализмъ исходитъ изъ непримиримаго отношенія къ современной хозяйственной системѣ.
«Необходимо покончить — пишетъ Пуже — съ чудовищной системой распредѣленія, при которой почти все достается господствующему праздному, эксплоатирующему меньшинству и очень мало, почти ничего, большинству, создавшему всѣ богатства».
И синдикализмъ полагаетъ, что классовое движеніе тѣмъ болѣе выиграетъ, чѣмъ ярче обнаружится антагонизмъ между враждебными классами, чѣмъ полнѣе будетъ разрывъ между ними. Онъ не знаетъ ни перемирій, ни соглашеній. «Борьба должна вестись каждый день»... — пишетъ Грифюэль. «Революція — говоритъ Пуже — есть постоянное дѣйствіе, повседневная борьба, безъ отдыха и безъ перемирія противъ всѣхъ силъ тиранніи и эксплоатаціи».
И классовыя учрежденія синдикализма являются дѣйствительнымъ воплощеніемъ его революціоннаго духа.
Основной ячейкой синдикальной организаціи является синдикатъ — органъ классоваго воспитанія и классовой пропаганды. Задачи взаимопомощи, въ отличіе отъ англійскихъ, нѣмецкихъ и пр. профессіональныхъ союзовъ, въ синдикатѣ отступаютъ на второй планъ. Этотъ боевой духъ синдикализма нашелъ превосходное выраженіе въ нормальномъ уставѣ синдиката. «Принимая во вниманіе — гласитъ онъ — что... современный строй промышленности... создаетъ постоянный антагонизмъ между капиталомъ и трудомъ, что... вслѣдствіе этого, лицомъ къ лицу стоятъ два рѣзко различающихся и непримиримыхъ класса, по всѣмъ этимъ основаніямъ пролетаріатъ долженъ поставить своей задачей осуществленіе формулы Интернаціонала: «Освобожденіе рабочихъ можетъ быть дѣломъ только самихъ рабочихъ»...: принимая во вниманіе, что для достиженія этой цѣли синдикатъ есть самый лучшій видъ группировки, такъ какъ онъ осуществляетъ группировку интересовъ, объединяя эксплоатируемыхъ противъ общаго врага, капиталиста, и тѣмъ самымъ объединяетъ въ себѣ всѣхъ производителей, каковы бы ни были ихъ философскія, политическія и религіозныя понятія и убѣжденія»... и т. д.
И высшій органъ классовой воли синдикализма — Конфедерація также осуществляетъ «полный разрывъ между современнымъ обществомъ и рабочимъ классомъ».
Въ современной литературѣ о революціонномъ синдикализмѣ, у теоретиковъ, сочувствующихъ этой формѣ пролетарскаго движенія, мы находимъ обстоятельныя изслѣдованія о природѣ общественнаго класса.
Лагарделль въ любопытномъ этюдѣ объ «общественномъ классѣ и политической партіи» останавливается на самыхъ условіяхъ зарожденія моральной базы класса: «Классъ не только продуктъ экономики, но также исторіи... Одна необходимость не могла бы сдѣлать ничего безъ воли. Или точнѣе: коллективная воля есть элементъ исторической необходимости въ такой мѣрѣ, что съ этой точки зрѣнія можно утверждать, что классы являются своими собственными творцами и изученіе классовой борьбы сводится къ изученію образованія коллективной воли».
И Лагарделль цитируетъ страничку изъ сочиненія Прудона «О политической зрѣлости рабочаго класса», превосходно рисующую этотъ процессъ образованія коллективной воли: «Для того — писалъ Прудонъ — чтобы личность, корпорація или общество могли достигнуть политической зрѣлости, требуется три основныхъ условія: 1) субъектъ долженъ сознавать себя, свое достоинство, свою цѣнность, знать мѣсто, занимаемое имъ въ обществѣ, роль, которую онъ исполняетъ, работу, на которую онъ имѣетъ право расчитывать, наконецъ, интересы, которые онъ представляетъ или олицетворяетъ, 2) въ результатѣ такого сознанія себя и своихъ силъ, субъектъ долженъ обладать своей идеей, т.-е. онъ долженъ умѣть представить въ понятіяхъ, выразить словами, объяснить посредствомъ разума законъ своего бытія въ его принципѣ и со всѣми вытекающими изъ него требованіями 3) наконецъ, изъ этой идеи, провозглашенной символомъ вѣры, онъ всегда долженъ умѣть извлечь практические выводы, смотря по обстоятельствамъ и потребностямъ момента».
Условія, необходимыя для образованія класса, реализуются, такимъ образомъ, постепенно въ процессѣ борьбы. Они — продуктъ долгой и трудной эволюціи. Но всѣ сформировавшіеся общественные классы прошли эти обязательныя стадіи: 1) отдѣленія соціальной группы отъ другихъ, благодаря первоначальному, неосознанному еще инстинкту классоваго интереса, 2) прогрессивнаго пробужденія классоваго самосознанія, 3) организаціи группы въ цѣляхъ обороны и нападенія.
Классовая борьба есть не только разрушительный, но и величайшій творческій факторъ исторіи.
Классовая борьба вырабатываетъ общественное сознаніе, сплачиваетъ въ могучее тѣло слабыя, разрозненныя группировки, стимулируетъ коллективную и индивидуальную дѣятельность, будитъ энтузіазмъ, творческую энергію, героизмъ. Разрушая старыя учрежденія, классовая борьба ткетъ новыя соціальныя нити, строитъ новое общество, новое право, новый порядокъ, въ которомъ каждый будетъ умѣть свободно утверждать свою творческую волю.
Тѣ, кто, подобно Г. Ганото или Е. Эйхталю, утверждаютъ, что классовый духъ есть только разрушительный духъ и таковымъ только обнаружилъ себя и въ исторіи — дѣлаютъ величайшую передержку. Изъ вышеизложеннаго должно быть ясно, что классовое самосознаніе — величайшій архитекторъ современной исторіи. Именно онъ раскрылъ глаза, родилъ надежды, далъ, наконецъ, прочную и ясную увѣренность, что въ классовыхъ организаціяхъ закладывается фундаментъ новаго порядка, не знающаго соціальныхъ антагонизмовъ.
Еще Марксъ говорилъ въ «Нищетѣ философіи»: «...Освобожденіе рабочаго класса есть упраздненіе классовъ, какъ освобожденіе третьяго сословія было упраздненіемъ всѣхъ другихъ сословій. Рабочій классъ въ процессѣ своего развитія преобразуетъ старое гражданское общество въ общество, не знающее классовъ и ихъ антагонизмовъ...»
И въ наше время нѣтъ силъ, способныхъ противостоять творческой энергіи общественнаго класса. Она становится болѣе мощнымъ факторомъ исторіи, чѣмъ «естественные», «стихійные», «высшіе» законы общественнаго развитія или меланхолическіе призывы къ «солидарности». Правъ — теоретикъ французскаго синдикализма Эд. Бертъ, что «...катастрофа (соціальная революція) не есть болѣе... механическій продуктъ капиталистическаго фатума, приносящаго рабочимъ въ подарокъ революцію. Она — абсолютно свободный актъ мощно организованнаго и совершенно сознательнаго рабочаго класса»!... И современный міръ готовится къ грандіозной будущей коллизіи[29].
Жизнь издѣвается надъ слащавыми попытками въ стилѣ Леона Буржуа — изобразить капиталистическое общество, какъ большую семью. Увы! семья распалась, и ничто болѣе не въ силахъ соединить ее. Общественные классы становятся все болѣе антагонистичными; въ каждомъ классѣ сознательно и безсознательно совершается отборъ, выдвигается на первый планъ — все наиболѣе непримиримое, наиболѣе боевое.
Въ исторіи капиталистическій классъ сыгралъ и продолжаетъ еще играть огромную организующую и цивилизующую роль. Капитализмъ въ процессѣ развитія создаетъ матеріальныя предпосылки будущаго общества. Капитализмъ въ его завершенныхъ формахъ — есть апоѳеозъ техно-экономической логики.
Соотвѣтственно этимъ матеріальнымъ успѣхамъ, совершенствуется и классовое оружіе буржуазіи, борцы закаляются. Французскій экономистъ Жидъ далъ превосходную характеристику современнаго представителя капиталистическаго класса: «Предприниматель... въ настоящее время ведетъ борьбу на два фронта: онъ борется съ рабочими и государствомъ, съ забастовщиками и ихъ вожаками, съ одной стороны, съ рабочимъ законодательствомъ и фабричной инспекціей, съ другой... Такая дѣятельность — не подъ силу «маменькинымъ сынкамъ». Потому люди, перелагающіе бремя веденія отцовскихъ предпріятій на плечи управляющаго — становятся все болѣе рѣдки. Они предпочитаютъ трусливо ликвидировать дѣла и жить рентой. Такъ въ патронатѣ совершается отборъ, выталкивающій паразитовъ и замѣщающій ихъ боевиками...»
Но дни «индивидуальнаго» предпринимателя, какъ изображаетъ его Жидъ, сочтены. Личности пожираются чудовищными коллективными организмами, анонимами, не знающими ни жалости, ни угрызеній совѣсти, неумолимо проводящими свою политику и безпощадно преслѣдующими соратниковъ за малѣйшую измѣну чувству товарищеской солидарности. «..Картельный магнатъ — пишетъ Гильфердингъ — чувствуетъ себя господиномъ производства... Картельный магнатъ не испытываетъ — никакихъ угрызеній совѣсти... Но тягчайшее преступленіе съ точки зрѣнія ихъ этики — нарушеніе солидарности, свободная конкурренція, выходъ изъ братства, поставившаго цѣлью монопольную прибыль. Общественное презрѣніе и уничтоженіе въ экономическомъ смыслѣ — подобающая кара за такія преступленія...»
Мы знаемъ уже, какихъ одушевленныхъ и непримиримыхъ противниковъ боевому патронату готовятъ, въ свою очередь, новыя синдикальныя формы рабочаго класса. И къ зрѣлымъ пролетарскимъ слоямъ примыкаютъ всѣ тѣ, кого развитіе капиталистическаго строя ставитъ въ антагонистическое отношеніе къ капиталу.
Всѣмъ обществомъ владѣетъ неукротимый духъ самоорганизаціи Это — тотъ процессъ, о которомъ осторожный и вдумчивый юристъ писалъ: «...Современное общество охвачено непрерывнымъ процессомъ самоорганизаціи. Разнообразнѣйшіе человѣческіе интересы, которымъ напрасно пытаются дать удовлетвореніе при помощи парламентовъ, объединяются въ цѣломъ рядѣ группъ, перекрещивающихся между собой на каждомъ шагу... Право образованія союзовъ — сдѣлалось могучимъ средствомъ организаціи гражданскихъ обществъ... Въ этихъ союзахъ идея представительства находитъ себѣ гораздо болѣе правильное выраженіе, чѣмъ въ существующихъ центральныхъ парламентахъ, потому—что союзные органы, въ противоположность неосуществимой идеѣ выраженія въ единомъ представительствѣ всей совокупности интересовъ цѣлаго народа, имѣютъ задачей служить только болѣе или менѣе ограниченному кругу интересовъ членовъ даннаго союза...» (Еллинекъ).
Подведемъ итоги.
Современное политическое общество, современная демократія строится по абстрактному понятію «гражданина», современное экономическое, классовое общество отправляется отъ факта эмпирическаго производителя. Классъ — по вѣрному опредѣленію Лагарделля — есть органъ экономическаго общества, партія — органъ политическаго общества.
Классъ родится въ реальной жизненной борьбѣ. Внѣ борьбы образованіе класса — немыслимо. Борьба есть изначальный эмпирическій фактъ, отъ котораго отправляется классовое сознаніе и которымъ обусловливается классовая тактика.
Партія есть искусственно созданный органъ приспособленія къ демократическому обществу. Если для принадлежности къ классу требуется участіе въ его эмпирической борьбѣ, для принадлежности къ партіи требуется принятіе опредѣленной программы — соціологическаго прогноза, въ основѣ своей, несомнѣнно, добытаго изъ наблюденій надъ «движеніемъ», «классомъ», «средой» и пр., но дополненнаго, усовершенствованнаго въ процессѣ развитія самой партіи. Ростъ политическаго значенія партіи есть въ то же время неуклонный отходъ ея отъ той изначальной точки, когда партія воспроизводила точно классовую волю. И въ жизни партіи всегда наступаетъ моментъ, когда она обнаруживаетъ претензію поставить свою волю надъ волей класса.
Итакъ, основными элементами, слагающими характеристику классовой организаціи являются:
а) Жизненность, непосредственное выраженіе дѣйствительной воли самого борющагося класса.
в) Подлинность этого выраженія, такъ какъ идеологія, вырабатываемая въ классовой организаціи подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ повседневнаго классоваго опыта, адекватна идеологіи самого класса.
с) Послѣдовательность, ибо здѣсь каждый поступательный шагъ диктуется предшествующимъ положеніемъ класса, а не является пробой теоретизирующаго ума.
d) Революціонность, ибо классъ, отрицающій, по самому существу своему, компромиссы, находитъ въ своей организаціи послушный инструментъ для осуществленія своей революціонной воли.
e) Отвѣтственность, ибо классъ непосредственно наблюдаетъ за дѣятельностью своего исполнительнаго органа и видоизмѣняетъ его въ зависимости отъ правильности принятаго имъ курса.
f) Творческій духъ, проникающій классовую организацію, ибо каждый шагъ класса есть дѣйствительно нѣчто новое, вносящее измѣненія въ установившіяся соотношенія.
Основными элементами, слагающими характеристику партійной организаціи являются:
а) Отвлеченность, ибо партійная организація, по мѣрѣ роста ея зрѣлости, все далѣе отходитъ отъ «движенія», стремясь подчинить его своимъ универсальнымъ схемамъ.
в) Фальсификаторство, ибо, отрываясь отъ «движенія», она исправляетъ, дополняетъ, извращаетъ подлинную классовую волю.
c) Непослѣдовательность, ибо партійная политика, не имѣя эмпирической основы, строится на «изобрѣтеніяхъ», счастливыхъ «выдумкахъ» или компромиссахъ противоборствующихъ мнѣній.
d) Компромиссность, ибо задача партіи найти равнодѣйствующую между антагонистическими требованіями различныхъ классовъ.
e) Безотвѣтственность, ибо отвѣтственность партійныхъ вождей, въ конечномъ счетѣ, есть отвѣтъ не передъ классомъ, а передъ партіей и сводится къ критикѣ ихъ въ партійной печати, къ турнирамъ на конгрессахъ, гдѣ краснорѣчіе или искусно подобранное «большинство» могутъ легко спасти «недодумавшаго» или «передумавшаго»товарища.
f) Доктринерство, ибо партійная организація болѣе или менѣе искусно приспособляетъ или развиваетъ то, что создано непосредственно самимъ классомъ — дѣятельность не творческая, а паразитическая.
Въ частности для пролетарскаго движенія должны быть сдѣланы еще слѣдующія оговорки:
А) Марксизмъ и выросшія изъ него соціалистическія партіи въ своихъ построеніяхъ исходили изъ наблюденій надъ первоначальной капиталистической фабрикой съ деспеціализованнымъ рабочимъ, низведеннымъ до роли живого «орудія производства». Фабрика была своеобразнымъ микрокосмомъ, въ которомъ воля непосредственнаго производителя была подчинена хозяйской волѣ, гдѣ отъ рабочаго требовалось только слѣпое подчиненіе. Современное предпріятіе, благодаря повышеннымъ техническимъ условіямъ производства, предъявляетъ къ рабочему требованіе интеллигентности. Чернорабочій долженъ былъ уступить мѣсто квалифицированному и экстраквалифицированному рабочему. Отъ рабочаго требуютъ — сознательности, иниціативы, активности, гибкости и быстроты въ рѣшеніи предлагаемыхъ ему техническихъ проблемъ. Современный рабочій находится подъ двойнымъ вліяніемъ: техническаго прогресса и роста классоваго самосознанія. Въ зависимости отъ этихъ коренныхъ измѣненій въ самомъ трудовомъ центрѣ — производителѣ, долженъ идти и уже идетъ коренной пересмотръ и взаимоотношеній между классомъ и партіей. Политическая рабочая партія, корректировавшая, въ извѣстномъ смыслѣ, первые, робкіе шаги малосознательныхъ рабочихъ, становится лишней и тяжелой опекой съ ростомъ учрежденій созрѣвшаго класса.
В) Защитники партійной организаціи пролетаріата, возражая противъ упрековъ партіи въ ея гегемоническихъ и бюрократическихъ стремленіяхъ; указываютъ, что классовыя организаціи также знаютъ іерархію.
Въ любопытной полемикѣ Туринскаго проф. Роберта Михельса съ Лагарделлемъ Михельсъ указывалъ, что всякая «демократическая организація — фатально обречена стать монархической, т.-е. разбиться на вождей и ведомыхъ, на управителей и управляемыхъ... Этому закону аристократическаго отбора подлежатъ одинаково и всѣ соціалистическія и революціонныя организаціи». Конечно — продолжаетъ Михельсъ — въ синдикализмѣ, напримѣръ, опасности такого отбора меньше, чѣмъ въ партійной организаціи, благодаря пролетарскому происхожденію членовъ. Но... отборъ совершается и здѣсь, вырабатывая постепенно «идеологію» и «психологію» вождя. И здѣсь неизбѣженъ процессъ «депролетаризаціи». «Всякая боевая организація — кончаетъ Михельсъ — несетъ въ себѣ зародышъ монархическаго начала и зародышъ этотъ развивается по мѣрѣ развитія функцій и органовъ самой организаціи».
Михельсъ — правъ. Общіе психологическіе законы любой человѣческой организаціи — остаются незыблемы.
Но... есть разница въ «психологіи» вождя, вышедшаго изъ рядовъ класса, которому онъ служитъ, и психологіей вождя, не бывшаго никогда членомъ той общественной группы, которую онъ представляетъ.
Первый — проникнутъ насквозь тѣмъ специфическимъ «бытомъ», въ которомъ онъ родился и въ которомъ жилъ творческой жизнью, ибо только творецъ становится вождемъ въ человѣческой группѣ. Второй — въ лучшемъ случаѣ — стремится понять психологію и обстановку класса, который всѣми подробностями своего «быта» остается ему чуждымъ, непонятнымъ, нерѣдко именно въ своихъ «бытовыхъ» условіяхъ даже и враждебнымъ. «Психологія» такого вождя — продуктъ или умственныхъ спекуляцій, приводящихъ къ «сочувствію», «приживальчеству» и пр. или плодъ холоднаго расчета, исканія карьеры.
Есть также разница въ самомъ положеніи вождя. Въ классовой организаціи «вождь» есть воистину первый среди равныхъ. Въ ней нѣтъ и не можетъ быть людей провиденціальныхъ — пророковъ и апостоловъ. Вождь, ведущій политику вразрѣзъ съ интересами организаціи, немедленно устраняется. Въ партійной организаціи вождь есть дѣйствительный шефъ, начальникъ съ бонапартистскими замашками, глубоко презирающій «классовую» шумиху и рѣзко отдѣляющій «свои» планы отъ наивныхъ и «ненаучныхъ» намѣреній самого пролетаріата. Подобному вождю не страшны классовыя бури. Партійный жезлъ утишитъ волны.
С) Было-бы неправильнымъ отрицать всякое значеніе за соціалистической партіей въ парламентѣ. Въ отдѣльныхъ случаяхъ политическая партія пролетаріата можетъ содѣйствовать его намѣреніямъ и облегчать его путь. Но для этого необходимо, чтобы соціалистическая партія отказалась отъ гегемоническихъ претензій и согласилась на болѣе скромную, но болѣе плодотворную роль — быть точной, послѣдовательной истолковательницей подлинныхъ требованій класса.
Лагарделль хорошо выразилъ эту мысль: «...Роль партіи состоитъ въ объявленіи народной воли съ трибуны...» Она должна удовлетворяться ролью докладчика рабочихъ требованій».
Классъ можетъ жить безъ партійной организаціи. Партія, образовавшаяся изъ «сочувствующихъ» и жаждущихъ «придти на помощь», должна руководиться тѣмъ, что представляется цѣлесообразнымъ классу, а не тѣмъ, что могло бы служить ея собственному честолюбію.
Глава VII.
Анархизмъ и право.
Въ научной критической литературѣ, посвященной анархизму до настоящаго времени пользуется прочнымъ кредитомъ убѣжденіе, что анархизмъ, категорически отрицающій современное государство и современное право, столь же категорически отрицаетъ «право» вообще и въ условіяхъ будущаго анархическаго строя.
Убѣжденіе это, являющееся совершеннымъ недоразумѣніемъ, поддерживается слѣдующими причинами.
1) Методологической невыясненностью самой проблемы о правѣ и государствѣ въ анархическомъ ученіи.
2) Разнородностью опредѣленій права и государства у анархистовъ и ихъ критиковъ.
3) Голословными и непродуманными заявленіями отдѣльныхъ адептовъ анархизма. Одни въ безбрежной соціологической наивности убѣждены, что «анархія» — означаетъ въ буквальномъ смыслѣ слова отсутствіе какого либо правового регулированія — полное «безначаліе». Другіе постулируютъ чудо внезапнаго и всеобщаго преображенія людей подъ вліяніемъ знакомства съ анархическимъ идеаломъ. Внезапнаго потому, что самый «осторожный» анархистъ, въ роде Корнелиссена, не мечтаетъ о подготовкѣ всѣхъ, безъ исключенія, къ будущему анархическому строю. Третьи, наконецъ, — таковымъ былъ когда-то авторъ этихъ строкъ — мечтаютъ о возможности, благодаря техническому прогрессу, создать условія внесоціальнаго существованія и тѣмъ избѣжать ограничивающаго вліянія «права».
4) Общей предубѣжденностью, а часто и совершенной невѣжественностью критики, не дающей себѣ труда всесторонне и объективно ознакомиться хотя-бы съ наиболѣе выдающимися теченіями анархистской мысли.
5) Наконецъ, нарочитой тенденціозностью, густо окрашивающей, напр., еще со временъ Энгельса, всю «соціалистическую» критику[30].
Въ образцовомъ — во многихъ отношеніяхъ — изложеніи анархическихъ ученій Эльцбахера мы находимъ между прочимъ, слѣдующія строки: «Утверждаютъ, что анархизмъ отвергаетъ право, правовое принужденіе. — Если бы это было такъ, то ученія Прудона, Бакунина, Кропоткина, Тэкера и многія другія ученія, признаваемыя за анархистскія, нельзя было бы считать анархистскими... Говорятъ, что анархизмъ требуетъ уничтоженія государства, что онъ хочетъ стереть его съ лица земли, что онъ не желаетъ государства ни въ какой формѣ, что онъ не желаетъ никакого правленія. — Если бы это было вѣрно, то ученія Бакунина, Кропоткина и всѣ тѣ ученія, которыя признаются анархистскими и не требуютъ уничтоженія государства, но только предвидятъ его, нельзя было бы считать анархистскими... Единственный общій признакъ анархическихъ ученій состоитъ въ отрицаніи государства для нашего будущаго. У Годвина, Прудона, Штирнера и Tэкера это отрицаніе имѣетъ тотъ смыслъ, что они отвергаютъ государство безусловно, а потому и для нашего будущаго. Толстой отвергаетъ государство не безусловно, но лишь для нашего будущаго; наконецъ, у Бакунина и Кропоткина отрицаніе государства имѣетъ тотъ смыслъ, что они предвидятъ, что въ прогрессивномъ развитіи человѣчества государство въ будущемъ исчезнетъ».
Ничего нельзя возразить противъ этихъ утвержденій — сухихъ, формальныхъ, но обоснованныхъ обширнымъ непредубѣжденнымъ изслѣдованіемъ.
Наоборотъ, и теоретическое разсужденіе и изученіе воззрѣній самихъ анархистовъ вполнѣ подтверждают заключенія Эльцбахера.
Интересующая насъ проблема обычно ставится такъ: найти условія существованія такого общества, гдѣ ничто — ни въ учрежденіяхъ, ни въ нравахъ — не ограничивало бы воли личности, гдѣ каждый былъ бы автономенъ, гдѣ законодателемъ, регуляторомъ поведенія была бы личная, а не коллективная воля въ любомъ ея выраженіи.
Анархизму предлагается задача — найти такой общественный строй, «въ которомъ не будетъ больше никакихъ начальниковъ, не будетъ оффиціальныхъ блюстителей нравственности, не будетъ ни тюремщиковъ, ни палачей, ни богатыхъ,ни бѣдныхъ, а только люди, равные между собой въ правахъ, — братья, имѣющіе каждый свою ежедневную долю хлѣба насущнаго и живущіе въ любви и согласіи не въ силу пресловутаго повиновенія законамъ, сопровождаемаго страшными наказаніями для ослушниковъ, а въ силу всеобщаго уваженія интересовъ другихъ, въ силу научнаго слѣдованія законамъ природы». (Реклю. Анархія).
Какъ-же анархизмъ рѣшаетъ подобную проблему?
Протесты противъ «государства», противъ «права государства», противъ «права, основаннаго на законѣ» и пр. начались давно.
Съ «Ορά μή άποχαιζαρωηόζ» (берегись оцезариться) Марка Аврелія, въ разнообразныхъ оттѣнкахъ проходятъ они черезъ политическую литературу всѣхъ временъ. У Гердера они отлились въ настоящіе анархическіе перлы. «Милліоны людей живутъ на земномъ шарѣ безъ государства и тотъ, кто хочетъ быть счастливъ въ искуственномъ государствѣ, долженъ его искать тамъ-же, гдѣ дикарь; искать здоровья, душевныхъ силъ, благополучія своего дома и сердца не въ услугахъ государства, но въ себѣ».
Соціологи показали въ своихъ изслѣдованіяхъ, что государство не является первоначальной формой человѣческаго общежитія, что народы начинаютъ свою историческую жизнь съ «безгосударственнаго» состоянія. Государство является продуктомъ сложной культуры, отвѣтомъ на разнообразные запросы постепенно дифференцирующагося общества, одновременно и плодомъ завоеванія и результатомъ постепенно вырастающаго сознанія о выгодности и даже нравственности связи, солидарности между разрозненными членами хаотическаго цѣлаго.
Соціологи и политики показали намъ картину постепеннаго роста государства, захвата имъ тѣхъ функцій, которыя первоначально принадлежали общественнымъ организаціямъ мѣстнаго характера. И, если нѣкоторыя изъ этихъ функцій, независимо отъ ихъ природы, технически выполнялись государствомъ съ большимъ совершенствомъ, то многія функціи исполнялись имъ неудовлетворительно и притомъ съ постояннымъ нарушеніемъ основныхъ правъ личности. Чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе должно было претитъ это государственное всемогущество развитому чувству личнаго правосознанія.
Этотъ процессъ государственной гипертрофіи и въ противовѣсъ разложенія идеи «государственности» превосходно охарактеризованъ Дюркгеймомъ: «..Государственная власть... стремилась поглотить въ себѣ всѣ формы дѣятельности, носившія соціальный характеръ, и внѣ ея осталась лишь пыль людская. Но тогда ей пришлось взять на себя огромное число функцій, для которыхъ она не годилась и которыя плохо исполняла. Много разъ уже было замѣчено, что ея страсть все захватывать равна только ея безсилію. Только болѣзненно перенапрягая свои силы, сумѣла она распространиться на всѣ тѣ явленія, которыя отъ нея ускользаютъ и которыми она можетъ овладѣть, лишь насилуя ихъ. Отсюда расточеніе силъ, въ которомъ ее упрекаютъ и которое дѣйствительно не соотвѣтствуетъ полученнымъ результатамъ. Съ другой стороны, частныя лица не подчинены болѣе никакому другому коллективу, кромѣ нея, такъ какъ она единственная организованная коллективность. Только черезъ посредство государства они чувствуютъ общество и свою зависимость отъ него. Но государство далеко стоитъ отъ нихъ и не можетъ оказывать на нихъ близкаго и непрерывнаго вліянія. Въ ихъ общественномъ чувствѣ нѣтъ поэтому ни послѣдовательности, ни достаточной энергіи. Въ теченіе большей части ихъ жизни вокругъ нихъ нѣтъ ничего, что оторвало бы ихъ отъ нихъ самихъ и наложило бы на нихъ узду. При такихъ условіяхъ, они неизбѣжно погружаются въ эгоизмъ или въ анархію».
Да, именно на этой почвѣ — стремленія государства поглотить личность, сковать ея волю и акты своими санкціями — выростаетъ бунтъ анархизма.
Но есть-ли этотъ бунтъ — бунтъ противъ «права» вообще? Думаетъ-ли анархизмъ, отвергнувъ государство, ничѣмъ его не замѣнить, предоставив распыленнымъ «индивидамъ» устраиваться, какъ имъ угодно?
Правда, проблемы права, принужденія въ анархическихъ условіяхъ общежитія, трактуются вообще анархистами неясно. Многіе, какъ мы сказали выше, постулируютъ прямое чудо — вѣру въ чудесное и совершенное преображеніе человѣческой природы, болѣе не нуждающейся въ «слишкомъ человѣческомъ» правѣ. Одни при этомъ вѣрятъ въ волшебную силу эгоизма, другіе въ солидарность, третьи возлагаютъ всѣ надежды на силу общественнаго мнѣнія, четвертые на умственный и нравственный прогрессъ личности, пятые, наконецъ, вѣрятъ даже въ особую природу «новаго человѣка», въ которой исчезаетъ все «дурное» съ гибелью собственности и государства.
Но, несмотря ни на какія чудеса, анархизмъ вообще, а коммунистическій, являющійся разновидностью либертарнаго соціализма, въ особенности, прежде всего признаетъ — «организацію».
Онъ только строитъ ее не на началахъ классового господства, какъ строитъ капиталистическій режимъ, но на началахъ солидарности, взаимопомощи. Но самый принципъ «организаціи» не отрицается никѣмъ изъ современныхъ анархистовъ.
«Анархія — говоритъ де-Папъ — есть замѣна политики соціальной экономіей, правительственной организаціи, организаціей промышленной». Мерлино думаетъ, что «въ организаціи — душа, сущность анархіи». Испанскіе рабочіе заявляютъ въ манифестѣ: «самой крупной обязанностью анархіи является соотвѣтствующая организація администраціи»[31].
Такимъ образомъ, необходимость экономической организаціи, хотя-бы и мѣстнаго характера, долженствующей смѣнить дѣйствующій сейчасъ государственный политическій аппаратъ, не оспаривается вовсе анархизмомъ.
Менѣе ясной представляется — проблема организаціи правосудія въ будущихъ анархическихъ условіяхъ общежитія. Здѣсь въ разсужденіяхъ анархистовъ мы найдемъ и полную голословность утвержденій, и вопіющія противорѣчія.
Нечего и говорить, что цѣлыя категоріи современныхъ «преступленій» должны исчезнуть съ устраненіемъ принудительнаго государства со всѣми его органами, бюрократіей и полиціей. Подавляющее большинство коммунистическихъ анархистовъ вѣрятъ также въ глубокое измѣненіе человѣческой природы подъ вліяніемъ уничтоженія частной собственности[32]. Что современный строй съ его исправительными и карательными институтами порождаетъ самъ преступленія и преступниковъ — это, разумѣется, не требуетъ особыхъ доказательствъ. Однако, отсюда еще очень далеко до представленій, что немедленно по вступленіи въ анархическія условія существованія — исчезнутъ всѣ антисоціальные инстинкты, исчезнутъ мотивы ко всякому преступленію.
Если бы мы даже согласились съ тѣмъ, что утверждаютъ нѣкоторые анархисты, что преступленіе въ подлинно свободномъ обществѣ было бы только свидѣтельствомъ «вырожденія» преступника, т.-е. состоянія не подлежащаго вмѣненію, то, для установленія подобныхъ заключеній, необходимы, по меньшей мѣрѣ, годы анархической практики, чтобы человѣкъ былъ воспитанъ уже въ «новыхъ» условіяхъ. Но вѣрить въ мгновенное перерожденіе человѣка, измѣненіе всей его психической природы только съ устраненіемъ государства и наступленіемъ всеобщей сытости едва-ли мыслимо.
Лавровъ, разсуждая объ этой вѣрѣ въ исчезновеніе «преступленій подъ вліяніемъ расцвѣта альтруизма, основательно замѣтилъ: «Это, конечно, весьма возможно и вѣроятно, даже если дѣло идетъ лишь о значительномъ уменьшеніи «преступленій противъ личности», совершаемыхъ подъ вліяніемъ страсти — почти неизбѣжно. Но современное состояніе психологіи все-таки не дозволяетъ поставить вполнѣ достовѣрное предсказаніе о роли аффектовъ и страстей въ будущемъ обществѣ, такъ какъ до сихъ поръ мы имѣемъ крайне недостаточное число фактовъ для опредѣленія измѣненія силы и направленія аффектовъ въ личностяхъ подъ вліяніемъ измѣненія характера общественной среды и подъ вліяніемъ воспитанія. Среда, въ которой развивались личности, была до сихъ поръ наполнена вредными вліяніями, и воспитаніе было настолько подвержено случайностямъ въ своей практикѣ, что «о степени вліянія болѣе здоровой среды и болѣе правильнаго воспитанія можно только догадываться». («Государственный элементъ въ будущемъ обществѣ»).
Лавровъ вѣритъ въ огромную роль общественнаго мнѣнія въ будущемъ обществѣ, и все-же, хотя и въ очень туманныхъ чертахъ, говоритъ объ организаціи «возмездія».
«Будущее общество не будетъ нуждаться въ спеціальной полиціи, охраняющей личную безопасность, потому что всѣ будутъ охранять ее. Столь же мало, въ подобныхъ случаяхъ, можетъ понадобиться, спеціальный судъ, если преступленіе было совершено въ порывѣ непобѣдимой страсти и вызвало негодованіе общественнаго мнѣнія, которое есть и мнѣніе самого преступника въ трезвомъ состояніи, то онъ наказанъ и собственнымъ осужденіемъ и сознаніемъ, что его осудили всѣ окружающіе, съ которыми онъ былъ связанъ тысячью разнобразныхъ нитей, кооперацій. Надо думать, что въ огромномъ большинствѣ подобныхъ случаевъ — совершенно исключительныхъ, какъ я уже говорилъ — эта кара будетъ настолько тяжела, что побудитъ преступника или зажить свой проступокъ всѣми силами, или даже выселиться изъ общества, въ которомъ извѣстенъ... его проступокъ. Въ меньшинстве болѣе серьезныхъ случаевъ, при болѣе упорной натуре преступника, онъ можетъ подлежать приговору, не какихъ-нибудь спеціальныхъ судовъ, но общихъ собраній тѣхъ самыхъ группъ, въ которыя онъ свободно вступитъ для общаго дѣла и для взаимнаго развитія... Для исполненія приговора, не нужно никакой принудительной силы: самъ преступникъ исполнитъ его надъ собой, какъ бы онъ строгъ ни былъ».
Приведемъ мнѣніе еще другого, извѣстнаго своей гуманностью, анархиста — Малатесты: «Во всякомъ случаѣ и какъ бы тамъ ни понимали это сами анархисты, которые, какъ и всѣ теоретики, могутъ потерять изъ виду дѣйствительность, гоняясь за кажущейся логичностью, — извѣстно, что народъ никогда не позволитъ безнаказанно посягать на свою свободу и благосостояніе, и если явится необходимость, онъ приметъ мѣры для защиты противъ антисоціальныхъ стремленій нѣсколькихъ. Но, развѣ есть для этого нужда въ тѣхъ людяхъ, ремесло которыхъ фабрикація законовъ? Или въ тѣхъ, которые отыскиваютъ и выдумываютъ нарушителей законовъ? Когда народъ дѣйствительно отвергаетъ что-нибудь, находя вреднымъ, онъ всегда сумѣетъ этому воспрепятствовать и притомъ лучше, чѣмъ всѣ законодатели, жандармы и судьи по ремеслу. Когда бы народъ пожелалъ, въ пользу или во вредъ остальнымъ заставить уважать частную собственность, онъ заставилъ бы уважать ее, какъ не могла бы сдѣлать цѣлая армія жандармовъ» («Анархизмъ»).
Ниже мы будемъ еще знакомиться съ воззрѣніями анархистовъ на роль «принужденія» въ будущемъ обществѣ, но и сказаннаго довольно, чтобы видѣть, что анархизмъ признаетъ — «организацію», «порядокъ».
Но всякая организація есть результатъ соглашенія, а, слѣдовательно, заключаетъ въ себѣ извѣстную модификацію жизни каждаго.
Это убѣдительно было показано однимъ изъ наиболѣе солидныхъ и добросовѣстныхъ критиковъ анархизма — Штаммлеромъ («Теоретическія основы анархизма»).
ІІІтаммлеръ не вѣритъ въ анархическое «чудо» и отрицаетъ возможность соціальнаго существованія внѣ правового регулированія.
«Мысль о существованіи естественной гармоніи, какъ законной основы общественной жизни, невѣрна — пишетъ онъ. Сама соціальная жизнь — «въ дѣйствительности вообще имѣетъ смыслъ и существуетъ только при предположеніи созданныхъ людьми правилъ»; ...«въ любомъ соглашеніи между людьми уже находится сама по себѣ извѣстная модификація и извѣстное регулированіе естественной жизни каждаго отдѣльнаго человѣка».
Послѣднее положеніе — самоочевидно; отрицать ограниченіе частной воли въ соглашеніи; значило-бы признать абсурдомъ самое соглашеніе. Какія цѣли могло-бы оно преслѣдовать, какъ не опредѣленное направленіе личной воли, въ интересахъ достиженія цѣли, намѣченной участниками соглашенія. Предположеніе, что отдѣльный членъ соглашенія можетъ выйти изъ него въ любой моментъ — недопустимо, ибо этимъ легко можетъ быть разрушено все дѣло, которому соглашеніе призвано служить, не говоря уже о неуваженіи къ достоинству всѣхъ участниковъ соглашенія, выразившихъ въ немъ свою свободную волю.
Мы не знаемъ также ни одного человѣческаго общества (задолго до образованія государствъ), которое бы не было извѣстнымъ правопорядкомъ. Совмѣстная жизнь требуетъ извѣстныхъ правилъ, но правила эти могутъ быть различны.
Наряду съ юридическими постановленіями въ любомъ человѣческомъ общежитіи дѣйствуютъ еще особыя нормы, которыя Штаммлеръ называетъ «конвенціональными правилами». Эти нормы — «въ правилахъ приличія и нравственности, въ требованіяхъ этикета, въ формахъ общественныхъ отношеній, въ болѣе узкомъ смыслѣ слова, въ модѣ и во многихъ внѣшнихъ обычаяхъ, равно какъ въ кодексѣ рыцарской чести». Реальная сила конвенціональныхъ правилъ можетъ быть значительнѣе силы юридическихъ предписаній. Повиновеніе имъ нерѣдко заставляетъ члена общежитія вступить въ конфликтъ съ закономъ. Коренное, внутреннее отличіе конвенціональнаго правила отъ юридическаго предписанія заключается въ томъ, что первое имѣетъ значеніе — «исключительно вслѣдствіе согласія, подчиняющагося ему лица, — согласія, быть-можетъ, молчаливаго, какъ это большей частью имѣетъ мѣсто въ общественной жизни, но всегда вслѣдствіе особаго согласія».
Вотъ это право, право, какъ совокупность конвенціональныхъ правилъ, обусловленныхъ согласіемъ подчиняющихся имъ лицъ, и есть собственно анархистическое право. И это право, какъ мы увидимъ ниже, не отрицается ни однимъ изъ наиболѣе выдающихся представителей анархистской мысли. Ибо ни самое существованіе общественной организаціи, ни ея техническій прогрессъ — невозможны безъ опредѣленнаго регулированія общественныхъ отношеній.
Разумѣется, это право, вовсе не обезпечиваетъ всѣмъ и каждому «неограниченной» свободы.
Во первыхъ, какъ это было указано Штаммлеромъ-же, правомъ, какъ совокупностью конвенціональныхъ нормъ, въ общественной организаціи анархистовъ не предусматриваются тѣ, которые не обладаютъ фактической способностью — вступать въ договорныя отношенія. Таковы всѣ недѣеспособныя лица: дѣти, тяжко-больные, страдающіе безуміемъ, дряхлые старики и пр. Очевидно, что ихъ жизнь регулируется извѣстными правилами, установленными внѣ ихъ согласія.
Съ другой стороны, совершенно ясно, что конвенціональныя правила заключаютъ въ себѣ значительную дозу косвеннаго понужденія до того, какъ на нихъ получено согласіе присоединяющагося. Проблема состоитъ не въ томъ — можетъ ли уклониться личность, принадлежащая къ опредѣленному союзу, отъ принятыхъ послѣднимъ конвенціональныхъ нормъ или нѣтъ, но въ томъ — можетъ-ли личность уклоняться отъ участія въ союзѣ, нормы соглашенія котораго противорѣчатъ его свободному сознанію. Логически проблема разрѣшается весьма просто — личность уйдетъ изъ союза, но практически, надо полагать, будутъ случаи, когда уйти будетъ некуда, и личность должна будетъ согласиться на извѣстныя самоограниченія.
Послѣ бѣглаго теоретическаго обзора познакомимся непосредственно съ воззрѣніями отдѣльныхъ наиболѣе выдающихся представителей анархистской мысли на роль права и государства въ будущемъ обществѣ.
I) Годвинъ, какъ выражается Эльцбахеръ, отрицаетъ право — «вполнѣ и всецѣло». Онъ отмѣчаетъ его — чрезмѣрность, хаотичность, неопредѣленность, отсутствіе индивидуализаціи, претензіи на пророчество. Столь-же категорически отрицаетъ Годвинъ и государство, называя всякое правительство, независимо отъ его формы, тиранніей и зломъ.
Однако, Годвинъ говоритъ объ общинѣ, какъ организаціи «совмѣстнаго разсмотрѣнія всеобщаго блага» и объ обязательствѣ подчиненія отдѣльной личности велѣніямъ общины. Предвидя возможность «несправедливостей», чинимыхъ отдѣльными членами общины, Годвинъ поручаетъ борьбу съ ними «судамъ присяжныхъ», которые рѣшаютъ — исправлять преступника или изгнать его.
Наконецъ, Годвинъ предвидитъ возможность созыва въ исключительныхъ случаяхъ особыхъ національныхъ собраній — для улаживанія споровъ между общинами и изысканія средствъ защиты отъ непріятельскихъ нападеній. Впрочемъ, Годвинъ чисто раціоналистически уповаетъ, что практика всѣхъ этихъ новыхъ учрежденій будетъ далека отъ практики существующихъ учрежденій. Такъ — право, усердно изгоняемое, тѣмъ не менѣе просачивается и въ новыя — анархическія формы общиннаго устройства.
II) Ученіе Прудона, несмотря на многочисленныя частныя противорѣчія, вытекающія изъ основной антиноміи, лежащей въ основѣ всѣхъ Прудоновскихъ построеній — антиноміи между требованіями абсолютной свободы личности и полнаго соціальнаго равенства всѣхъ членовъ общежитія, въ его цѣломъ — за право и даже за государство.
Правда, Прудонъ требуетъ отмѣны всѣхъ правовыхъ нормъ современнаго государства, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ утверждаетъ всеобщее и принудительное значеніе правовой нормы, предписывающей соблюденіе и выполненіе общественнаго договора, на которомъ онъ строитъ новую общественность. Отказъ отъ выполненія договора или нарушеніе его можетъ вызвать противъ нарушителя страшныя репрессіи до изгнанія и смертной казни включительно.
На такое-же радикальное противорѣчіе наталкиваемся мы и въ ученіи Прудона о централизаціи и государствѣ. Какъ бы мы ни называли проектируемый Прудономъ строй, который долженъ утвердиться на мѣстѣ упраздненнаго буржуазнаго государства — «анархіей» или «федерализмомъ», онъ, несомнѣнно, носитъ въ себѣ всѣ черты «государственности». Самое понятіе — «анархія» — употребляется Прудономъ въ двоякомъ смыслѣ. Въ однихъ случаяхъ, анархія есть идеалъ, представленіе объ абсолютно безвластномъ обществѣ. Реально такое общество — невозможно, ибо необходимость соблюденія договора предполагаетъ наличность принужденія. Въ другихъ случахъ — анархія есть только своеобразная форма политической организаціи, характеризующаяся преобладаніемъ началъ автономіи и самоуправленія надъ началомъ госудаственной централизаціи. Однако, компромиссы и поправки идутъ у Прудона еще далѣе. Если въ «Confessions» онъ разрабатываетъ сложную систему общественности на началахъ централизаціи, то въ «Principe Féderatif» онъ уже опредѣленно признаетъ, что «анархія» въ чистомъ видѣ, какъ абсолютное безвластіе, неосуществима и что реальное рѣшеніе политической проблемы лежитъ въ реализаціи «федерализма», какъ дѣйствительнаго, жизненнаго компромисса между анархіей и демократіей.
III) Никто не написалъ болѣе краснорѣчивыхъ и пламенныхъ филиппикъ противъ государства, чѣмъ Бакунинъ.
Государство — для Бакунина вездѣ и всегда зло. Оно — не общество, а его «историческая форма, столь же грубая, какъ и абстрактная. Оно исторически родилось во всѣхъ странахъ, какъ плодъ брачнаго союза насилія, грабежа и опустошенія, однимъ словомъ войны и завоеванія, вмѣстѣ съ богами, послѣдовательно рожденными теологической фантазіей націй. Оно было съ своего рожденія и остается до сихъ поръ божественной санкціей грубой силы и торжествующей несправедливости... Государство это власть, это сила, это самопоказъ и нахальство силы. Оно не вкрадчиво, оно не ищетъ дѣйствовать путемъ убѣжденія и всякій разъ какъ, это ему приходится, оно дѣлаетъ это противъ доброй воли; ибо его природа заключается въ дѣйствіи принужденіемъ, насиліемъ, а не убѣжденіемъ. Сколько оно ни старается скрыть свою природу, оно остается законнымъ насильникомъ воли людей, постояннымъ отрицаніемъ ихъ свободы. Даже когда оно повелѣваетъ добро, оно его портитъ и обезцѣниваетъ именно потому, что оно повелѣваетъ, а всякое повелѣніе вызываетъ, возбуждаетъ справедливый бунтъ свободы»... («Богъ и государство»). Или въ другомъ мѣстѣ: «...Государство... по самому своему принципу, есть громадное кладбище, гдѣ происходитъ самопожертвованіе, смерть и погребеніе всѣхъ проявленій индивидуальной и мѣстной жизни, всѣхъ интересовъ частей, которыя то и составляютъ всѣ вмѣстѣ общество. Это алтарь, на которомъ реальная свобода и благоденствіе народовъ приносятся въ жертву политическому величію, и чѣмъ это пожертвованіе болѣе полно, тѣмъ Государство совершеннѣй... Государство... это абстракція, пожирающая народную жизнь». («Четвертое письмо о Патріотизмѣ»).
Но государство — указываетъ Бакунинъ — есть зло «исторически необходимое..., —столь-же необходимое, какъ были необходимы первобытная животность и теологическія пустосплетенія людей». Оно обречено исчезнуть; его замѣнитъ свободное общество, которое, отправляясь отъ удовлетворенія своихъ естественныхъ потребностей, будетъ строиться на началахъ полнаго самоопредѣленія, отъ маленькой общины къ грандіозному міровому союзу, объемлющему все человѣчество. Связь отдѣльныхъ ячеекъ — не принудительна, она основывается не на законѣ, но на свободномъ соглашеніи всѣхъ. Общая воля — вотъ источникъ всѣхъ правовыхъ нормъ для Бакунина и разъ принятое добровольное соглашеніе обладаетъ обязывающей силой.
IV) Съ воззрѣніями Кропоткина на государство мы познакомились выше. Въ «Рѣчахъ бунтовщика» и «Завоеваніи хлѣба» онъ далъ чрезвычайно полную увлекательную картину будущаго общественнаго строя — федераціи общинъ, въ основаніи котораго должно лежать исполненіе договора свободныхъ и равныхъ людей. Дѣйствующее гражданское и уголовное право находитъ въ Кропоткинѣ безпощаднаго критика: «Если изучать милліоны законовъ, подчиняющихъ себѣ человѣчество — пишетъ онъ — легко можно замѣтить, что они подраздѣляются на три обширныхъ класса: законы, защищающіе собственность, законы, защищающіе правительство и защищающіе личность. Всѣ они равно безцѣльны и вредны. Соціалисты превосходно знаютъ, какую роль играютъ законы о собственности... Они служатъ не для того, чтобы обезпечить отдѣльнымъ лицамъ или обществамъ пользованіе плодами ихъ трудовъ. Наоборотъ, для того, чтобы узаконить похищеніе части продукта у его производителя и защищать похитителя. Что касается законовъ, защищающихъ правительство, то стоитъ ли его защищать, когда всѣ правительства, монархическія или конституционныя или республиканскія, имѣютъ своей цѣлью удержать насиліемъ привилегіи имущихъ классовъ: аристократіи, буржуазіи, духовенства. Болѣе всего предразсудковъ существуетъ насчетъ третьей категоріи законовъ, охраняющихъ личность. Но анархисты — восклицаетъ Кропоткинъ, — должны всюду проповѣдывать, что и эти законы такъ же вредны, какъ и всѣ остальные. Прежде всего извѣстно, что, по крайней мѣрѣ, 75% всѣхъ преступленій противъ личности внушаются желаніемъ обладать чужимъ богатствомъ. Эти преступленія должны исчезнуть вмѣстѣ съ исчезновеніемъ частной собственности. Что касается другихъ мотивовъ, то уменьшила ли когда-нибудь жестокость наказаній число преступниковъ? Остановился ли когда-нибудь хоть одинъ убійца изъ-за страха наказанія? Кто хочетъ убить своего ближняго изъ мести или нужды, тотъ не станетъ раздумывать надъ послѣдствіями. Каждый убійца убѣжденъ, что онъ избѣгнетъ наказанія... Если бы убійство было объявлено безнаказаннымъ, то, конечно бы, число убійствъ не увеличилось, а сократилось, такъ какъ много убійствъ теперь совершается рецидивистами, испорченными въ тюрьме».
Но и Кропоткинъ, подобно своимъ предшественникамъ, признаетъ правовую норму, обязывающую исполненіе договора.
Въ «Завоеваніи хлѣба» онъ подробно останавливается на разборѣ возраженій, обычно представляемыхъ противъ анархическаго коммунизма. Слѣдуетъ признать, что въ отвѣтахъ Кропоткина все-же больше гуманизма и вѣры въ силу любви, долженствующей связать людей, чѣмъ покоряющей логики.
Кропоткинъ, несомнѣнно, правъ, когда онъ говоритъ, что «бездѣльничать можетъ захотѣть только меньшинство, ничтожное меньшинство общества», что, поэтому, прежде чѣмъ «законодательствовать» противъ него — слѣдуетъ узнать причины страннаго желанія «бездѣльничать» и устранить ихъ. Однако, до точнаго изученія «причинъ» и тѣмъ болѣе устраненія ихъ, рецидивы «бездѣлья» или будемъ говорить общѣе, нежеланія подчиниться, принятымъ коллективомъ рѣшеніямъ могутъ найти мѣсто и въ самой благоустроенной общинѣ. Вѣдь, нельзя вообще представить ни одного соціальнаго состоянія, которое не могло бы породить протестанта и тревоги, связанной съ его появленіемъ. Въ этихъ случаяхъ обществу остается одно — изгнать непокорнаго. Но послѣднее практически есть страшное ограниченіе правъ, которое ляжетъ клеймомъ на бунтующую, хотя-бы и недостойно, личность. И невольно, встаетъ сомнѣніе — найдетъ-ли еще изгой, отвергнутый общиной, легко себѣ мѣсто въ другой! А подобрать себѣ спеціальную группу на «новыхъ началахъ» — не просто, хотя бы уже изъ однихъ техническихъ основаній.
V) Въ области философскихъ построеній Тэкеръ — послѣдователь Штирнера, въ области соціально-политической онъ слѣдуетъ за Прудономъ и Уорреномъ. У Штирнера Тэкеръ беретъ идею неограниченнаго верховенства индивида, у Прудона и Уоррена онъ заимствуетъ методы, помощью которыхъ надѣется переформировать современный ему общественный строй въ новое свободное общежитіе, построенное согласно индивидуалистическимъ началамъ.
Крайній индивидуалистъ, — Тэкеръ категорически отвергаетъ всякую принудительную организацію. Отсюда его рѣзко отрицательное отношеніе къ государству. «..Государство, — пишетъ онъ, —самый колоссальный преступникъ нашего времени... Не защита является существеннымъ его признакомъ, a нападеніе, посягательство... Уже первый актъ государства, принудительное обложеніе и взиманіе податей, является нападеніемъ, нарушеніемъ равенства и свободы и отравляетъ собою всѣ послѣдующіе его акты...»
Съ одинаковой силой протестуетъ Тэкеръ противъ монополій — государственныхъ и классовыхъ, защищаемыхъ государствомъ: монетной, тарифной, патентной и др. Монополіямъ онъ противопоставляетъ въ реформированномъ строѣ начало неограниченной конкурренціи. «Всеобщая неограниченная конкурренція обозначаетъ совершеннѣйшій миръ и самую истинную кооперацію!..»—восклицаетъ онъ. Эти воззрѣнія объясняютъ намъ ту страстную борьбу, которую ведетъ индивидуалистическій анархизмъ противъ государственнаго (вообще авторитарнаго) соціализма. Въ послѣднемъ абсолютное торжество большинства, угнетеніе личности ; въ немъ — власть достигаетъ «кульминаціонной своей точки», a монополія — «наивысшаго могущества». Въ этомъ смыслѣ индивидуалистическій анархизмъ не видитъ принципіальнаго различія между государственнымъ соціализмомъ и коммунистическимъ анархизмомъ; послѣдній представляется ему лишь фазой въ общемъ развитіи соціалистической доктрины:.. «Анархизмъ означаетъ абсолютную свободу, — пишетъ Тэкеръ — а коммунисты отрицаютъ свободу производства и обмѣна, самую важную изъ всѣхъ свободъ — безъ которой всѣ другія свободы въ сущности не имѣютъ никакой или почти никакой цѣны...»
Индивидуалиалическій анархизмъ, въ представленіи Тэкера, есть гармоническая общественная организація», предоставляющая своимъ членамъ «величайшую индивидуальную свободу, въ равной мѣрѣ принадлежащую всѣмъ.» Единственное ограниченіе правъ человѣка и «единственную обязанность человѣка» Тэкеръ видитъ лишь въ уваженіи правъ другихъ. Насиліе надъ личностью или правомъ собственности другого, правомъ, основанномъ на трудовомъ, а не на монопольномъ началѣ, — недопустимо.
Самымъ оригинальнымъ моментомъ въ ученіи индивидуалистическаго анархизма является рѣшительное допущеніе имъ частной собственности. Проблема, стоявшая передъ индивидуалистами, была такова: допустимо ли въ анархическомъ обществѣ, чтобы отдѣльная личность пользовалась средствами производства на началахъ частной собственности. Если бы индивидуалистическій анархизмъ отвѣтилъ отрицательно, онъ высказался бы этимъ самымъ за право общества вторгаться въ индивидуальную сферу. И абсолютная свобода личности, являющаяся символомъ всего ученія, стала бы фикціей. Онъ избралъ второе, и институтъ частной собственности на средства производства и землю, — другими словами, право на продуктъ труда возродилось въ индивидуалистическомъ анархизмѣ.
Признавая эгоизмъ единственной движущей силой человѣка, Тэкеръ изъ него выводитъ законъ равной свободы для всехъ. Именно, въ ней эгоизмъ и власть личности находятъ свой логическій предѣлъ. Въ этой необходимости признавать и уважать свободу другихъ кроется источникъ правовыхъ нормъ, основанныхъ на общей волѣ.
Такимъ образомъ, индивидуалистическій анархизмъ не только допускаетъ право, какъ результатъ соглашенія общины, но склоненъ защищать его всѣми средствами. Тэкеръ не останавливается ни передъ тюрьмой, ни перед пыткой, ни передъ смертной казнью.
Если бы даже индивидуалистическій анархизмъ во всѣхъ отношеніяхъ удовлетворялъ потребности человѣческаго духа, то уже одно допущеніе имъ возможности подобнаго реагированія со стороны общественнаго организма на отдѣльные акты личности является полнымъ ниспроверженіемъ всѣхъ индивидуалистическихъ идеаловъ. Можно ли говорить о неограниченной свободѣ личности въ томъ строѣ, гдѣ ею жертвуютъ въ случаѣ нарушенія, хотя бы и самаго священнаго договора? Слѣдовательно, и здѣсь, какъ и въ коммунистическомъ анархизмѣ, мы сталкиваемся съ той же трагической невозможностью — разрѣшить величайшую антиномію личности и общества въ смыслѣ «абсолютной» свободы личности.
Всякое неисполненіе или уклоненіе отъ соглашенія представляетъ уже собою нарушеніе чужого права. Если анархизмъ мирится съ такимъ порядкомъ, онъ кореннымъ образомъ извращаетъ тотъ принципъ, который положенъ въ основу всего его ученія: принципъ равноправности членовъ, принципъ абсолютнаго равенства, какъ логическій выводъ абсолютной свободы всѣхъ индивидовъ, объединенныхъ въ союзъ. Если же анархизмъ не желаетъ мириться съ тѣмъ хаосомъ, который является неизбѣжнымъ результатомъ такого порядка отношеній, онъ долженъ создавать карательныя нормы.
Изъ всего изложеннаго выше очевидно, что анархизмъ — не мечтательный, но дѣйствительный, стремящійся дать живой, реальный выходъ бунтующему противъ насилій человѣческому духу — не долженъ говорить о фикціяхъ — «абсолютной», никѣмъ и ничѣмъ «неограниченной» свободѣ, отсутствіи долга, совершенной безотвѣтственности и пр.
Вѣчная, въ природѣ вещей лежащая — антиномія личности и общества — неразрѣшима. И искать съ фанатическимъ упорствомъ рѣшенія соціологической «квадратуры круга» — значило-бы напрасно ослаблять себя, оставить безъ защиты то, что въ міровоззрѣніи есть безспорнаго и цѣннаго.
Скажемъ категорически — анархизмъ знаетъ и будетъ знать — «право», свое анархическое «право».
Ни по духу, ни по формѣ оно не будетъ походить ни на законодательство современнаго «правового», буржуазнаго государства, ни на «декреты» соціалистической диктатуры. Это «право» не будетъ вдохновляться идеей растворенія личности въ цѣломъ, коллективѣ, всѣхъ нивеллирующемъ, всѣхъ уравнивающемъ въ цѣляхъ служенія «общему благу», придуманному «сверху». Анархическое право не будетъ изливаться благодѣтельнымъ потокомъ сверху. Оно не будетъ — ни изобрѣтеннымъ, ни оторваннымъ, ни самодовлѣющимъ. Оно будетъ органическимъ порожденіемъ — безпокойнаго духа, почувствовавшаго въ себѣ силу творца и жаждущаго своимъ творческимъ актомъ выразить исканія свои въ реальныхъ — доступныхъ человѣчеству формахъ.
Содержаніе этого права — отвѣтственность за свободу свою и свободу другихъ. Какъ всякое право, оно должно быть защищаемо. А конкретныя формы этой защиты напередъ указаны быть не могутъ. Онѣ будутъ опредѣлены реальными потребностями анархической общественности.
Глава VIII.
Анархизмъ и націонализмъ.
Во всѣхъ ученіяхъ и системахъ анархистовъ — безъ исключеній — анархизмъ опредѣляется какъ антипатріотизмъ и антинаціонализмъ.
Только одна стихія анархизма — стихія отрицанія вложена въ эти опредѣленія; они лишены утверждающаго смысла. Конечно, въ анархическомъ словарѣ есть цѣлый рядъ болѣе или менѣе прекрасныхъ формулъ — о вселенскомъ братствѣ, о «гражданинѣ человѣческаго рода» и т. п. Но формулы эти звучатъ блѣдно, какъ-то черезчуръ словесно; въ нихъ такъ-же мало чувствуется жизни, какъ и во многихъ другихъ раціоналистическихъ конструкціяхъ анархизма.
Я думаю, психологія космополитическихъ убѣжденій анархизма намъ станетъ ясной, если мы припомнимъ, что въ построеніяхъ анархистовъ патріотизмъ или націонализмъ (обычно не различающіеся) сочетаются всегда съ представленіями о войнѣ и милитаризмѣ. Анархизмъ, который насквозь пацифиченъ, полагая преступнымъ не только вооруженное столкновеніе народовъ, но и любую форму экономической борьбы между ними — всегда соединяетъ, такимъ образомъ, понятія патріотизма и націонализма съ милитаризмомъ, то-есть воинствующими тенденціями опредѣленнаго историческаго уклада.
Милитаризмъ есть порожденіе имперіализма, своеобразный продуктъ буржуазно-капиталистической культуры. И, если милитаризмъ — немыслимъ внѣ національныхъ границъ, отсюда еще не слѣдуетъ, что любое осознаніе народомъ своего своеобразія и самоутвержденіе его въ своемъ индивидуальномъ бытіи, въ чемъ основное ядро самого анархизма, сопряжено всегда съ тягостями и безнравственностью милитаризма.
Со времени знаменитаго «пятаго письма» Бакунина патріотизмъ въ представленіяхъ анархизма — сталъ навсегда «явленіемъ звѣринымъ», своеобразной формой «пожиранія другъ друга». При этомъ охотно забываютъ и неполноту Бакунинскаго опредѣленія «патріотизма» вообще и то, что въ представленіяхъ самого Бакунина «естественный или физіологическій» элементъ патріотизма заслонилъ и вытѣснилъ всѣ другіе элементы.
Вотъ — наиболѣе полное опредѣленіе патріотизма у Бакунина: «Естественный патріотизмъ можно опредѣлить такъ: это инстинктивная, машинальная и совершенно лишенная критики привязанность къ общественно принятому, наслѣдственному, традиціонному образу жизни, и столь-же инстинктивная, машинальная враждебность ко всякому другому образу жизни. Это любовь къ своему и къ своимъ и ненависть ко всему, имѣющему чуждый характеръ. Итакъ, патріотизмъ это — съ одной стороны, коллективный эгоизмъ, а съ другой стороны — война».
Но ни упрощенное пониманіе Бакунина, далеко не покрывающее всѣхъ представленій о «патріотизмѣ», ни націоналистическое юродство ничего общаго не имѣютъ и не должны имѣть съ анархическимъ пониманіемъ патріотизма.
Анархизмъ, конечно, долженъ отвергнуть и «рыночныя» вожделѣнія имперіалистовъ и изступленный «мессіанизмъ» какого нибудь Шатова.
Слова Шатова: « Всякій народъ до тѣхъ только поръ и народъ, пока имѣетъ своего Бога особаго, а всѣхъ остальныхъ на свѣтѣ боговъ исключаетъ безо всякаго примиренія, пока вѣруетъ въ то, что своимъ богомъ побѣдитъ и изгонитъ изъ міра всѣхъ остальныхъ боговъ» — бредъ, изувѣрство, на смерть поражающія и своего бога и свой народъ. Богъ, какъ и сказалъ Шатову Ставрогинъ, низводится въ такомъ разсужденіи до простого «аттрибута народности», народъ — становится воинствующимъ маніакомъ, сѣющимъ не любовь, а ненависть, отрицающимъ творческое право за всякимъ другимъ народомъ.
Патріотизмъ можетъ и долженъ быть утверждаемъ — внѣ борьбы, внѣ взаимоистребленій, внѣ милитаризма. Всѣ эти явленія не сопутствуютъ патріотизму, но, наоборотъ, отрицаютъ его.
Милитаризмъ — всегда есть покушеніе на самую идею народности, на своеобразіе даннаго національнаго опыта. И потому милитаризмъ — угроза не только чужой національности, но и своей собственной, ибо никакая свобода не можетъ строиться на поглощеніи чужой свободы или даже ограниченіи ея.
Но можетъ-ли анархизмъ отрицать своеобразіе народовъ, индивидуальныя — въ ихъ психологической сущности — различія сложившихся и окрѣпшихъ національностей и можетъ-ли анархизмъ желать ихъ уничтоженія, обращенія яркихъ, душистыхъ цвѣтовъ, выросшихъ въ жизни, въ невѣсомую пыль?
Я думаю, на оба вопроса анархизмъ можетъ отвѣтить только отрицательно.
Правда, анархисты склонны утверждать съ внѣшнимъ удовлетвореніемъ — въ глубочайшемъ противорѣчіи съ основами ихъ ученія — что уже сейчасъ въ «передовыхъ» элементахъ отдѣльныхъ національностей — передовыхъ, понимая это слово въ революціонномъ смыслѣ, то-есть въ трудящемся населеніи, пролетаріатѣ, революціонерахъ — нѣтъ никакого національнаго привкуса, что это — люди, живущіе «внѣ границъ», считающіе весь міръ или лучше интернаціоналъ своимъ отечествомъ. Они любятъ указывать, что «пролетаріи всѣхъ странъ» говорятъ всѣ на одномъ, всѣмъ имъ понятномъ языкѣ и что отечество для нихъ есть варварскій пережитокъ, въ наше время поддерживаемый или явными и скрытыми имперіалистами, или безотвѣтственными романтиками. Но подобныя утвержденія находятся пока въ абсолютномъ противорѣчіи съ дѣйствительностью; пока они — лишь слащавая идеализація реальнаго положенія вещей, Донъ-Кихотизмъ, оставшійся отъ героической эпохи анархизма — романтическаго бунтарства, при томъ Донъ-Кихотизмъ, обезкровливающій самый анархизмъ.
1) Прежде всего, покрывается ли человѣкъ, личность, во всемъ ея своеобразіи и полнотѣ, даже независимо отъ степени ея культуры, понятіемъ пролетарія?
Пролетарское состояніе есть опредѣленная соціально-экономическая категорія и только. Называть даннаго человѣка пролетаріемъ, значитъ характеризовать его въ опредѣленномъ планѣ, обрисовать его соціальную природу. Но пролетарій есть не только пролетарій, не только членъ опредѣленной соціальной культуры, но и человѣкъ, личность — своеобразная, имѣющая кромѣ соціальной еще и индивидуальную природу, и чѣмъ болѣе одаренная, тѣмъ менѣе годная укладываться цѣликомъ въ рамки только пролетарскаго міросозерцанія.
Слѣдовательно, говорить, что пролетарій не имѣетъ отечества, значитъ сказать: человѣкъ — пролетарій, поскольку онъ пролетарій, не имѣетъ отечества. Но это еще не значитъ, что онъ дѣйствительно не знаетъ отечества или не любитъ его, такъ какъ пролетарность — лишь часть его человѣческой природы въ ея спеціальномъ выраженіи. Закрывать глаза на это свидѣтельствовало-бы, во первыхъ, о нежеланіи считаться съ подлинной человѣческой природой, богатствомъ ея особенностей и настроеній, съ другой подчинить все индивидуальное своеобразіе личности моменту только соціальному.
И то и другое можетъ имѣть мѣсто, гдѣ угодно, но не въ анархизмѣ. Анархизмъ отправляется отъ личности, а не отъ ея соціальнаго клейма, и протестуетъ противъ рабскаго подчиненія личнаго соціальному.
2) Непосредственное знакомство съ жизнью, хотя-бы изученіе разнообразныхъ національныхъ формъ пролетаріата, показываетъ намъ съ полной очевидностью, какъ ошибочно характеризовать весь международный пролетаріатъ, какъ единое цѣлое, солидарно шествующее къ освобожденію и въ своихъ теоретическихъ и въ своихъ практическихъ путяхъ.
Среди разнообразныхъ антагонизмовъ, дѣйствующихъ въ пролетарской средѣ, національные антагонизмы также имѣютъ свое мѣсто.
Духъ и тактика англійскаго трэдъ-юніониста, германскаго соціалъ-демократа, французскаго синдикалиста, русскаго анархиста — глубоко различны. Было бы страннымъ настаивать на серьезномъ внутреннемъ сродствѣ русскаго и германскаго, или германскаго и французскаго соціалъ-демократовъ. Кромѣ внѣшняго рабскаго преклоненія передъ авторитетной указкой Маркса — ничего общаго между ними нѣтъ. Въ то время, какъ французскій соціалъ-демократъ, несмотря на весь «экономическій матеріализмъ», прежде всего — скептикъ и бунтарь (кажущееся противорѣчіе), нѣмецкій — атеистъ и бухгалтеръ, русскій — варваръ — идолопоклонникъ. Одинъ требуетъ жертвъ, другой хочетъ самъ быть первой жертвой; одинъ хочетъ благъ культуры, другой въ порывѣ отвлеченнаго паѳоса готовъ похоронить всю культуру. То что для одного есть методъ, для другого есть міросозерцаніе и т. д. и т. д.
Принадлежность къ Интернаціоналу, такимъ-образомъ, не можетъ еще устранить ни непониманія, ни непримиримости.
И это внутреннее, «слишкомъ—человѣческое» живетъ глубоко подъ казарменно-нивеллирующей скорлупой и время отъ времени вспыхиваетъ, обнаруживая неизгладимыя, чисто народныя черты въ опредѣленномъ пролетарскомъ типѣ и давая, такимъ-образомъ, еще лишнее доказательство богатства, разносторонности и своеобразія человѣческой природы. Иммиграціи, эмиграціи, войны — даютъ довольно краснорѣчивыхъ иллюстрацій. И глубокая ошибка — относить ихъ на долю недостаточной сознательности, злонамѣреннаго увлеченія въ «антипролетарскомъ направленіи» зарвавшимися или продажными вождями.
Причины — глубже. Онѣ — въ наличности того остатка, который неразложимъ ни на какія пролетарскія функціи и который живетъ, невзирая ни на какія классификаціи и программы партійныхъ мудрецовъ.
Этотъ остатокъ — неустранимая любовь къ своей странѣ, своему языку, своему народу, его творчеству, всѣмъ особенностямъ его быта. И, если можно и должно отвергнуть «свою» капиталистическую культуру, «свои» таможни, «свой» милитаризмъ, то ничѣмъ не изгонишь изъ ума и сердца человѣка любви къ своему солнцу и своей землѣ.
Это чувство — ирраціонально и конкретно, оно — сильнѣе любой раціоналистической формулы и не считается ни съ какими теоретическими аргументами.
Оно — инстинктъ, вложенный въ насъ самымъ актомъ нашего рожденія въ извѣстной матеріальной и психологической средѣ. Намъ безконечно дорогъ нашъ языкъ, намъ особенно понятны и милы обычаи нашей родины. Вся обстановка — природа, мѣста, люди — связанная съ нашимъ дѣтствомъ, съ нашими юными, творческими годами, для насъ полна особой интимной прелести. И это чувство изжить нельзя.
Оно умираетъ вмѣстѣ съ человѣкомъ.
Это чувство — неразложимо ни на какія интеллектуальныя клѣточки. Казалось бы, общая культура, общность умственныхъ интересовъ должны тѣснѣе сливать между собою людей. А между тѣмъ... самыя высокія культурныя цѣнности оказываются безсильными передъ сладкими и тоскливыми воспоминаніями о «своемъ».
Это чувство — любовь. Какъ всякая любовь, это чувство — внѣразумно, возникаетъ стихійно; его нельзя подмѣнить или вытѣснить инымъ чувствомъ, какъ первую, неповторимую любовь. И такое чувство, по самой природѣ своей, не можетъ быть «дурно». Наоборотъ, оно обязываетъ къ подвигу, оно не знаетъ — холода, измѣны, компромисса. И вмѣстѣ, — диктуя любящему готовность на жертвы для объекта своей любви, оно требуетъ и отъ послѣдняго соотвѣтствія тому нравственному ореолу, которымъ онъ окруженъ въ глазахъ любящаго.
Такъ стихійно родящаяся — внѣ законовъ разума и законовъ морали — любовь, стихійно-же въ самомъ основаніи своемъ проникается нравственнымъ началомъ. Любовь выростаетъ — и не можетъ быть иначе — въ рядъ суровыхъ требованій и къ себѣ и къ объекту своей любви.
И, если патріотизмъ или націонализмъ есть такая любовь, тѣмъ самымъ они исключаютъ возможность насилій, они не могутъ питаться людоѣдствомъ, человѣконенавистническими чувствами.
Если я люблю «мое» отечество, то въ этой любви я заключаю любовь и къ «чужому» отечеству или, по крайней мѣрѣ, ограждаю, чтобы любимое другими — «ихъ» отечество не пострадало отъ «моей любви» къ «моему» отечеству.
Какъ истинное свободолюбіе есть не только свобода для себя, но свобода для другихъ, для всѣхъ, и, наоборотъ, въ свободѣ только для себя заключена несвобода всѣхъ остальныхъ, такъ истинная любовь къ отечеству предполагаетъ несомнѣнное любовное отношеніе къ отечеству другихъ и пониманіе въ другихъ «ихъ» любви къ своему отечеству.
Только тотъ, кто любитъ свою страну, свой языкъ — можетъ по настоящему понимать любовь къ другой странѣ, ибо знаетъ, какой могучій отрадный источникъ радостныхъ, счастливыхъ, благородныхъ человѣческихъ чувствъ заключенъ въ ней.
Любовью къ своей родинѣ, пониманіемъ нравственной красоты и прелести чужой страны — мы лишній разъ незримо приближаемся къ познанію высшаго человѣческаго чувства — человѣческаго братства.
Творческая работа всегда идетъ черезъ индивидуальное и конкретное къ общему и идеальному. Только черезъ личный, непосредственный опытъ постигаешь себя членомъ союза равноправныхъ индивидуальностей. Жизнь прогрессирующей національности, какъ жизнь освобождающейся личности, должна избирать средства, соотвѣтствующія тѣмъ нравственнымъ началамъ, коимъ она считаетъ себя призванной служить. И только такой націонализмъ, не противорѣчащій нравственному сознанію ни цѣлаго, ни его частей, не считаетъ, по чудесному опредѣленію В. Соловьева, «истиннымъ и прекраснымъ утверждать себя и свою національность, а прямо утверждаетъ себя въ истинномъ и прекрасномъ».
Такъ каждый народъ, сознавая свою міровую роль, пріобщается къ общечеловѣческому творчеству. И, какъ свободный человѣкъ не мирится съ существованіемъ рабовъ, такъ свободный народъ не можетъ мириться съ теоріями о зависимыхъ, второстепенныхъ народахъ и ихъ фактическимъ существованіемъ.
Сознаніе общности нравственныхъ цѣлей должно соединить и оравноправить отдѣльные народы. Никто, не отказываясь отъ «себя» и «своего», будетъ служить «себѣ» и всѣмъ.
Замѣчательный русскій лингвистъ Потебня, съ свойственной ему глубиной однажды писалъ: «... Если цивилизація состоитъ, между прочимъ, въ созданіи и развитіи литературъ, и если литературное образованіе, скажемъ больше, если та доля грамотности, которая нужна для пользованія молитвенникомъ, библіею, календаремъ на родномъ языкѣ, есть могущественнѣйшее средство предохраненія личности отъ денаціонализаціи, то цивилизація не только сама по себѣ не сглаживаетъ народностей, но содѣйствуетъ ихъ укрѣпленію.» («Мысль и языкъ»).
Наоборотъ, формулы космополитизма звучатъ безнадежной схоластикой. Это — отвлеченныя догмы, блѣдные призраки. Въ нихъ нѣтъ реальнаго содержанія и паѳосъ ихъ — чисто риторическій. Въ данныхъ намъ формахъ психологическаго развитія космополитъ все еще остается существомъ «метафизическимъ».
Не было и нѣтъ еще людей внѣ определенной народности. Человѣкъ, если онъ не анекдотическое исключеніе, не можетъ не имѣть любви къ своей странѣ, своему языку, своей народной культурѣ. Никогда — за исключеніемъ рѣдчайшихъ случаевъ — «чужое» ему не можетъ быть такъ доступно, какъ «свое». Вспомнимъ Герцена, Печерина... и сколько другихъ...
Космополитизмъ можетъ уживаться развѣ только съ абсолютнымъ индивидуализмомъ, такъ какъ послѣдній въ своемъ безграничномъ эгоизмѣ, отвергающемъ свободу и равенство, разумѣется, самъ свободнѣе отъ какихъ-либо обязательствъ и какой либо отвѣтственности въ обширномъ универзумѣ, чѣмъ въ относительно узкихъ рамкахъ опредѣленной общественности или народности.
Въ этомъ смыслѣ, наиболѣе послѣдовательнымъ и неуязвимымъ космополитомъ является бездушный капиталъ, который въ погонѣ за большей прибылью не разбираетъ странъ и ту назоветъ своимъ отечествомъ, которая обезпечитъ ему наивысшій процентъ.
Такими космополитами кишѣла замѣчательная историческая эпоха — эпоха перехода къ новому времени. «Онъ не былъ ни нѣмцемъ, ни швейцарцемъ, ни фламандцемъ, ни французомъ, ни испанцемъ — пишетъ Ж. Орсье про знаменитаго авантюриста XVI-го вѣка Агриппу Неттесгеймскаго. — Онъ былъ всѣмъ сразу, судя по сторонѣ, откуда дулъ вѣтеръ удачи». Эти люди ѣхали туда, гдѣ имъ хорошо платили за ихъ талантъ, и тамъ устраивали они свое отечество. Но этотъ торгашескій индивидуализмъ давно исчезъ, и даже современные капитаны индустріи, помимо капиталистической «гордости», имѣютъ въ своемъ человѣческомъ балансѣ немного и «любви къ отечеству».
И, если мы склонны утверждать анархизмъ, какъ реалистическое міросозерцаніе, какъ любовь къ живой личности, а не къ мистическому мѣсиву по трафаретной рецептурѣ, мы должны будемъ согласиться съ старымъ мыслителемъ Гердеромъ, предпочитавшимъ энергичнаго, полнаго жизни и любви къ своему племени дикаря — «цивилизованной тѣни», увлекаемой восторгомъ передъ «призракомъ рода человѣческаго».
Да, анархизмъ есть философія жизни, культъ всего реальнаго, индивидуальнаго, своеобразнаго въ ней и потому «націонализмъ», какъ живое, здоровое чувство любви къ своей родинѣ, не можетъ не быть однимъ изъ элементовъ его всеобъемлющаго міросозерцанія.
«Пожалѣй меня, братъ мой! — говоритъ одинъ изъ героевъ Барбье. Мое горе — смертельно, ибо отечество перестало быть для меня прекраснымъ!»
ГЛАВА IX.
Анархизмъ, какъ общественный идеалъ.
(Анархо-гуманизмъ).
Анархизмъ — міросозерцаніе динамическое. Анархизмъ вѣритъ въ непрерывность мірового развитія, въ неостанавливающійся ростъ человѣческой природы и ея возможностей.
И вѣра эта — плодъ не отвлеченныхъ разсужденій, не романтической горячности, а результатъ непосредственныхъ наблюденій надъ всѣмъ, что насъ окружаетъ. Развѣ мы — люди ХХ-го столѣтія — не чувствуемъ въ себѣ пробужденія новыхъ чувствъ, не роемъ пропастей между нами и нашимъ прошлымъ, не сознаемъ, что каждымъ шагомъ нашимъ мы дѣлаемъ все болѣе необъятными богатства міра, открываемъ въ себѣ неизсякаемую готовность къ новымъ опытамъ и тѣмъ отодвигаемъ грани конечнаго.
Наши потребности чудесно растутъ, человѣкъ становится полемъ для всевозможныхъ открытій, онъ по истинѣ — неисчерпаемъ. Физіологическіе предѣлы жизни становятся тѣсны. Правъ былъ Гёте, что земной жизни — не довольно, чтобы достигнуть совершенства.
И анархическій идеалъ вытекаетъ изъ этого убѣжденія неисчерпаемости человѣческихъ способностей. Потому анархическій идеалъ не знаетъ конечныхъ формъ, не можетъ дать точнаго описанія и опредѣленія типа общественности, который бы являлся точнымъ его выраженіемъ.
Анархизмъ — неограниченное движеніе къ общественнымъ формамъ, не знающимъ насилія, въ которыхъ нѣтъ иныхъ препонъ къ послѣдовательнымъ, расширяющимся творческимъ исканіямъ, какъ въ ясномъ сознаніи ненарушимости правъ другого на творческое самоутвержденіе.
И никакая опредѣленная общественная форма не можетъ дать послѣдняго удовлетворенія, за которымъ нечего желать. Мыслить такъ — значило бы подчинить человѣческій духъ безусловному, т.-е. смерти.
Полная гармонической прелести библейская картина насъ не смущаетъ: «Тогда волкъ будетъ жить вмѣстѣ съ ягненкомъ, и барсъ будетъ лежать вмѣстѣ съ козленкомъ, и молодой левъ и волъ будутъ вмѣстѣ, и малое дитя будетъ водить ихъ. И корова будетъ пастись съ медвѣдицею, и дѣтеныши ихъ будутъ лежать вмѣстѣ, и левъ, какъ волъ, будетъ ѣсть сѣно. И младенецъ будетъ играть надъ норою аспида, и дитя протянетъ руку свою на гнѣздо змѣи. Не будутъ дѣлать зла и вреда на всей святой горѣ моей, ибо земля будетъ наполнена познаніемъ Ягве, какъ воды наполняютъ море» (Пророкъ Исаиія» II., 1—9).
Но эта идиллія поддерживается могущественнымъ стражемъ — Ягве. И для Исаиіи, Ягве — и стражъ и неограниченный владыка. И міръ, полный гармоническихъ чудесъ, живетъ, пока угоденъ Ягве.
Это — не идеалъ анархизма!
Развѣ — не высшее счастье, доступное намъ, жажда вѣчности, жажда новаго, неизвѣстнаго, все высшаго, все совершеннѣйшаго. Развѣ не источникъ счастья — трепетъ безпокойства, который говоритъ въ насъ въ наши лучшія минуты, минуты творческаго экстаза, далеко уносящія насъ за грани относительнаго! Какимъ-бы малоцѣннымъ былъ міръ въ нашихъ глазахъ, если бы мы знали напередъ, что онъ имѣетъ опредѣленный конецъ, а что наша жизнь есть только подготовка къ этому концу съ его окаменѣвшими совершенствами. Что могло бы воспитать въ насъ подобное знаніе — кромѣ презрѣнія къ собственнымъ судьбамъ или сытаго фатализма?
Нѣтъ! Вѣчная борьба, призывъ къ будущимъ творцамъ, безкрайность будущаго, вотъ — маяки анархиста! И пусть всегда будутъ и новая земля, и новое небо и новая тварь!
Обратимся къ непосредственному изслѣдованію содержанія анархическаго идеала.
Анархизмъ строится на принципѣ личности. Эта личность — не раціоналистическій призракъ, но одѣтый въ плоть и кровь, живой, конкретный дѣятель во всемъ своеобразіи качествъ его и устремленій.
Среди разнородныхъ соціальныхъ образованій, загромождающихъ нашъ міръ, только онъ является подлинной реальностью; всѣ образованія обязаны ему своимъ происхожденіемъ. Онъ — творецъ. Вce, что мы называемъ соціальнымъ творчествомъ, только черезъ него возникаетъ и реализуется въ мірѣ. Какъ хорошо сказалъ одинъ изъ величайшихъ артистовъ современности — Эдуард Мане, самыя «вещи прекрасны, потому-что онѣ живыя, потому — что онѣ человѣчны..»
И потому первое положительное требованіе анархическаго идеала заключается въ созданіи условій, обезпечивающихъ возможность сохраненія и непрерывнаго, безграничнаго развитія индивидуальности.
Эти условія должны прежде всего заключаться въ ея свободѣ. Свобода — основной инстинктъ личности; только въ свободѣ можетъ быть выявлено ея своеобразіе, только въ свободѣ она находитъ самое себя.
Но рядомъ съ этимъ инстинктомъ въ человѣкѣ говоритъ другой основной инстинктъ — инстинктъ общительности, инстинктъ человѣчности. Не къ уединенію и отобщенію отъ всѣхъ другихъ влечетъ человѣка живущій въ немъ духъ свободы, но къ сближенію и сліянію въ цѣляхъ совмѣстныхъ творческихъ достиженій.
Свободное самосознаніе утверждаетъ свободу и для другихъ. И анархическое общеніе есть союзъ равноправныхъ, равно свободныхъ личностей. Ограниченіе правъ одного есть ограниченіе права личности вообще и, слѣдовательно, ограниченіе правъ всѣхъ. Моя свобода становится немыслимой внѣ свободы всякаго другого.
Такъ анархизмъ утверждаетъ себя въ свободѣ, равенствѣ и солидарности.
И чѣмъ шире тотъ общественный кругъ, которому принадлежитъ личность своими интересами и связями — тѣмъ болѣе выигрываетъ ея независимость, тѣмъ большій размахъ и глубину пріобрѣтаютъ ея творческія устремленія.
Анархизмъ есть, такимъ-образомъ, глубоко-жизненный, а, слѣдовательно, и культурный идеалъ.
Анархизмъ долженъ объявить себя наслѣдникомъ многовѣковой міровой культуры. Вѣдь, ему — анархическому духу, жившему во всѣ времена и у всѣхъ народовъ, обязаны своимъ существованіемъ величайшія культурныя цѣнности. Все то, что въ прошлой культурѣ — носитъ на себѣ печать подлинной свободы и подлинной человѣчности, не можетъ не быть дорогимъ анархизму, ибо безпокойный, ищущій человѣческій духъ, пробившійся сквозь внѣшнія историческія формы насилія и рабства, и бросившій намъ слово, которое говоритъ еще сейчасъ, есть духъ анархическій, близкій и дружественный намъ.
Его отрицанія — чужды раціоналистическому нигилизму. Его отрицанія — творческія. Онъ отметаетъ все, что враждебно его духу; внѣ человѣка для него нѣтъ фетишей и безусловныхъ цѣнностей, но впередъ онъ идетъ, вооруженный всей предшествующей культурой, черезъ преодолѣніе, а не черезъ механическое отсѣченіе ея. Анархизмъ есть революція, анархизмъ есть созиданіе, но не пляска дикарей надъ поверженнымъ кумиромъ.
Въ чемъ сущность революціи, ея значеніе, ея радость?
Прежде-всего въ томъ, что она несетъ намъ — новое, небывалое, что она — разрывъ съ прошлымъ, «прыжокъ» въ царство свободы.
Въ природѣ все, какъ будто, подчинено естественнымъ, неизмѣннымъ законамъ развитія, все рождается, растетъ и умираетъ, переливаясь въ новыя формы.
Отъ зерна бѣгутъ ростки, оно пробьетъ землю и выброситъ растеніе. Растеніе покроется цвѣтами, дастъ плоды... И развѣ не ту же постепенность наблюдаемъ мы въ жизни человѣка и человѣческихъ обществъ? Непрерывная цѣпь формъ, переходящихъ одна въ другую. Non facit saltus natura!
Но приходитъ день... взрывъ, толчекъ, революція уносятъ все, что было наканунѣ, и міру неожиданно открывается новое.
«Да» — писалъ когда-то Реклю — «природа не дѣлаетъ скачковъ, но каждая изъ ея эволюцій осуществляется посредствомъ перемѣщенія силъ въ новомъ направленіи. Общее движеніе жизни въ каждомъ отдѣльномъ существѣ и каждомъ рядѣ существъ никогда не имѣетъ вида безпрерывной цѣпи, а всегда представляетъ прерывающуюся, такъ сказать, революціонную смѣну явленій. Одна вѣтвь не увеличиваетъ длины другой. Цвѣтокъ не есть продолженіе листа, а пестикъ — тычинка, завязь по существу отличается отъ органовъ, которые породили ее. Сынъ не есть продолженіе отца или матери, но вполнѣ самостоятельное существо. Прогрессъ совершается посредствомъ постоянной перемѣны точекъ отправленія для каждаго отдѣльнаго индивидуума... Тотъ-же законъ существуетъ и для великихъ историческихъ эволюцій. Когда старыя рамки, формы организма, слишкомъ опредѣленныя, становятся недостаточными, жизнь дѣлаетъ скачекъ, чтобы осуществиться въ новомъ видѣ. Совершается революція».
Нѣтъ большей радости, какъ это явленіе міру новаго. Изъ хаоса противорѣчивыхъ и враждебныхъ устремленій человѣчеству открывается хотя на время ихъ гармоническое сліяніе въ одномъ общемъ порывѣ, въ общемъ согласномъ переживаніи. И если любовь матери къ своему младенцу называютъ святой и чистой, какая радость достанется народу, выносившему и выстрадавшему свою революцію.
И эта радость не изживается мгновенно, ибо моменты революціи — моменты высшаго творческаго напряженія. И творчество это выливается прежде всего въ упоительномъ чувствѣ разрушенія.
Творецъ — разрушитель — въ самыхъ нѣдрахъ нашей природы, творецъ — жадный, ненасытный, готовый оторваться отъ того, что приняло уже законченныя формы. Мы любимъ только то, что ищемъ, что еще волнуетъ насъ загадкой, ожидаемыми нами возможностями... Готовое перестаетъ насъ волновать. Оно — ступень къ дальнѣйшимъ отрицаніямъ — во имя высшаго и совершеннѣйшаго. Не потому-ли мы любимъ такъ — молодость, весну, начало всякаго дѣла съ ихъ, быть-можетъ, смутными, но такими радостными и смѣлыми предчувствіями неограниченныхъ возможностей?
Творчество — разрушеніе — отказъ отъ стараго, ломка старыхъ вѣрованій, старыхъ утвержденій. Строить, не разрушая, изъ элементовъ даннаго — безплодно. Это значило бы укрѣплять старые корни, открыть старому всѣ выгоды изъ перемирія и охладить энтузіазмъ всѣхъ рвущихся впередъ.
И первоначально, въ творческомъ порывѣ намѣчаются лишь основныя линіи будущаго. Глубина и паѳосъ содержанія почерпаются изъ самаго процесса работы. Чѣмъ шире, чѣмъ рѣшительнѣе идетъ эта работа, чѣмъ болѣе вносится въ нее страстности — тѣмъ болѣе сама работа исторгнетъ новыхъ идей, дастъ новыхъ плановъ для дальнѣйшихъ построеній.
Страсти — нужны! Не дикій разгулъ страстей, когда въ слѣпомъ увлеченіи фанатикъ, безумецъ столько-же бьетъ по врагу, сколько по любимому дѣлу, но способность къ самозабвенію, готовность отдать себя всего революціи, творческому экстазу. И одновременно — совершенное обладаніе средствами, чтобы осуществить свой творческій замыселъ.
Такъ порядокъ родится изъ хаоса.
Но творческое разрушеніе — безконечно трудно. Гигантскія силы инерціи — равно въ природѣ и общественномъ строительствѣ — не терпятъ остановокъ и проваловъ. На мѣстѣ разрушеннаго бѣгутъ сейчасъ-же новые ростки, иногда ядовитыми стеблями восходя изъ отравленной почвы.
«...Великій трудъ и единственно трудный — разрушеніе прошлаго — прекрасно сказалъ Метерлинкъ. — Нечего заботиться о томъ, что поставить на мѣстѣ развалинъ. Сила вещей и жизни возьмутъ на себя заботу возрожденія... Она даже слишкомъ поспѣшно это дѣлаетъ, и не слѣдовало бы помогать ей въ этой задачѣ...».
Легко-ли подойти къ прошлому? Бросить только вызовъ, бросить осужденіе — не значитъ еще разрушить. Чтобы разрушить — надо быть здоровымъ, вѣрующимъ, энтузіастическимъ и безпощаднымъ. Развѣ часта такая сліянность? Здоровье, вѣра, энтузіазмъ, когда молодость нашей эпохи такъ скоро тускнѣетъ разсудочностью, скептицизмомъ...
А тормозящее чудовище — наслѣдіе прошлаго, его традиціи, его «милыя привычки». Мы такъ легко, такъ просто не хотимъ знать его варварства изъ-за прекраснаго далека его декорацій...
A гдѣ молчитъ историческій сентиментализмъ, гдѣ неподатливыя сердца не бьются отъ романтическихъ развалинъ, тамъ родится ужасъ передъ нависающимъ надъ нами неизвѣстнымъ, встаютъ суевѣрія будущаго. И вотъ — каменная гряда рутины, трусливой и вмѣстѣ страшной, готовой въ своемъ страхѣ на всякую отместку... И сколько разобьется о гряду валовъ, прежде чѣмъ покроютъ ее своею разъяренной пѣной.
Такъ творчество должно открыться разрушеніемъ, смертью. «Не оживетъ, аще не умретъ».
И за разрушеніе всегда — все молодое, все то, что надѣется и вѣритъ, что не желаетъ еще знать цѣлесообразности, причинности и относительности — всего, что позже леденитъ нашъ мозгъ, сковываетъ руки и подмѣняетъ солнце, безпощадное, благодѣтельное солнце тусклымъ фонаремъ компромисснаго благополучія. Инстинктъ самосохраненія, интересы рода, фамильная честь, соображенія карьеры — весь нечистый арсеналъ мѣщанскихъ понятій безсиленъ передъ радостью разрушительнаго творчества, готовностью его къ подвигу.
А упившемуся въ революціи разрушеніемъ, революція готовитъ уже новую могучую радость — радость созиданія.
Творческій актъ есть преодолѣніе, побѣда. Побѣда творящаго надъ первоначальной косностью, проникающей мірозданіе, выходъ его изъ пассивнаго состоянія въ положеніе борющагося «я». И творецъ, побѣдившій первоначальную косную природу, всегда остается побѣдителемъ, хотя бы въ жизни и падалъ побѣжденнымъ.
Творческій актъ есть воля къ жизни и воля къ власти — власти надъ окружающимъ. Зодчій самъ беретъ все нужное ему, чтобы осуществить свой планъ, чтобы выполнить для себя естественное и неизбѣжное. И океаны жестокости заключены въ рѣшимости творца, его революціонныхъ открытіяхъ. Творецъ опрокидываетъ привычное сознаніе, онъ такъ же можетъ вознести на вершины радости, какъ погрузить въ пучины страданій. Онъ опьянитъ васъ, заразитъ своимъ экстазомъ, сдѣлаетъ васъ — свободнаго и гордаго — радостно-послушнымъ, не разсуждающимъ, фанатикомъ. Но онъ-же броситъ васъ въ тягчайшіе внутренніе кризисы, сдѣлаетъ васъ больнымъ, безпомощнымъ, убьетъ васъ.
И творчество, ограничивая волю и индивидуальность другого, убивая его міръ, подмѣняя его «я» своимъ, жестоко, неизбѣжно жестоко. Такъ должно быть. Что сталъ-бы міръ безъ дерзновенья. Безстрашіе въ борьбѣ сообщаетъ безсмертіе творцу. Плоды его «жестокости» освятятъ милліоны человѣческихъ существованій, имъ же послужатъ оправданіемъ.
Но творчество не только насиліе и жестокость, творчество — любовь, творчество — радость.
Въ творчествѣ замкнутая ранѣе въ себя индивидуальность разрываетъ оболочку своей отъединенности, раскрываетъ себя и сближается съ другими, приближая ихъ къ себѣ.
Творчество есть преодолѣніе первоначальной косности для послѣдующей сліянности, любви, вселенскаго единенія. Насиліе и любовь лишь разныя стороны одного духовнаго взлета.
Такъ борьба на высшихъ ступеняхъ есть предвареніе великой любви къ міру. Активность и любовь — неотдѣлимы.
И еще болѣе любовность и радостность творческаго акта подчеркиваются тѣмъ, что творчество всегда есть борьба за будущее, борьба для «дальнихъ».
На долю тѣхъ, кто борется активно въ настоящемъ, рѣдко выпадаетъ счастье пожать плоды борьбы. Они достанутся потомкамъ, далекимъ братьямъ.
Творецъ одушевляется лишь призраками будущаго счастья. Подлиннымъ, «реальнымъ» счастьемъ, живутъ его наслѣдники. Можетъ-ли быть дано человѣкомъ доказательство большей любовности? И какой подвигъ заключаетъ въ себѣ болѣе радостный смыслъ?
Но, какъ будто для того, чтобы сдѣлать эту радость еще полнѣй, еще чудеснѣй, въ моменты высшей творческой напряженности, какъ въ моменты революціи, мы отбрасываемъ все компромиссное, все срединное, что удовлетворяетъ насъ въ обычное время. Освященные, согрѣтые лучами правды, мы ищемъ абсолютныхъ формулъ счастья безъ уступокъ времени и исторической обстановкѣ и въ экстазѣ требуемъ реальныхъ осуществленій нашихъ мечтаній...
И въ анархическомъ идеалѣ творчество разлито кругомъ насъ, весь міръ — непрерывный творческій процессъ.
И если каждый изъ насъ, какъ творецъ, безконеченъ, безконеченъ и міръ, открывающійся намъ все полнѣе, богаче. Воспринявъ все то, что создано раньше, мы дальше творимъ и безпрестанно, любовно отдаемъ сотворенное нами будущимъ далекимъ отъ насъ поколѣніямъ.
Въ творчествѣ связуемъ мы всѣ времена и въ творческомъ мгновеніи постигаемъ вѣчность, безсмертіе.
Пусть каждый изъ насъ въ звенящемъ жизнью и страстной борьбой мірозданіи — точка, но эта точка — безсмертна, а потому не «бунтъ», не «дерзаніе», но радостное, живое, неукротимое, какъ лавина, устремленіе въ духѣ основной стихіи анархизма: освобожденія себя и всѣхъ — освобожденіе не отъ государства и полиціи, но также отъ робости, смиренія, зависти, стыда, покоя — вотъ идеалъ анархизма.
Быть-можетъ, построяемый такъ, анархическій идеалъ упрекнутъ въ недостаточной послѣдовательности, въ противорѣчіяхъ. Романтическое ученіе и реалистическая тактика.
Но тамъ, гдѣ жизнь, нечего бояться противорѣчій. Противорѣчія — не страшны всему живому, всему развивающемуся. Ихъ боится только дискурсивное мышленіе, собирающее свою добычу въ отточенныя логическія формулы. Но формулы убиваютъ жизнь, формулы — смерть жизни.
Все, что носитъ на себѣ печать человѣческаго творчества, все, что способно, съ одной стороны, погрузиться въ «бытіе», съ другой, заковать свои «опыты» въ отвлеченныя формулы, рано или поздно становится жертвой «ироніи всемірной исторіи». Послѣдняя разсѣетъ всѣ иллюзіи интеллекта, обнаружитъ тщету «вѣчныхъ» завоеваній разума. Все «научное», «объективное», раціоналистически доказуемое бываетъ безжалостно попрано, наоборотъ, остается нетлѣннымъ все недоказанное и недоказуемое, но субъективно достовѣрное. Въ «знаніи» противорѣчія — недопустимы, вѣра знаетъ — любыя противорѣчія. Всякое знаніе можетъ быть опровергнуто, a вѣру опровергнуть нельзя. И анархизмъ есть вѣра. Его нельзя показать ни научными закономѣрностями, ни раціоналистическими выкладками, ни біологическими аналогіями. Его родитъ жизнь, и для того, въ комъ онъ заговоритъ — онъ достовѣренъ. Тотъ, кто сталъ анархистомъ, не боится противорѣчій; онъ сумѣетъ ихъ творчески изжить въ самомъ себѣ.
И анархизмъ не чуждается «науки», и анархизмъ не презираетъ формулъ, но для него онѣ — средство, а не цѣль.
ГЛАВА X.
Анархизмъ и современность.
Предсказанія о близкой гибели капиталистическаго режима и водвореніи новаго — соціалистическаго порядка начались уже съ середины XIX столѣтія. Въ 1847 году Марксъ и Энгельсъ ждали соціальной революціи, въ 1885 г. Энгельсъ вновь пророчествовалъ о грядущемъ переворотѣ. Позже марксисты подыскали объясненія для неудавшихся пророчествъ (недостаточная революціонность «буржуазіи» или полная утрата ею революціонности), и пророчества были сданы въ архивъ.
Однако, въ 1909 г. Каутскій въ небольшой книгѣ — «Путь къ власти» вновь заговорилъ о близости соціалистическаго переворота. И въ этомъ же году другой, гораздо болѣе глубокій писатель, чѣмъ Каутскій, Гильфердингъ — заговорилъ также о возможности соціальной революціи, не дожидаясь окончательнаго захвата парламента политической партіей пролетаріата.
И русская революція сейчасъ (съ октября 1917 г.) въ неожиданныхъ размѣрахъ рѣшаетъ эту проблему.
Если «научный соціализмъ», измѣняя своей «научности», обращался къ пророчествамъ, то анархизмъ, «научностью» никогда не кичившійся, былъ всегда еще болѣе нетерпѣливымъ.
Подавляющее большинство анархистовъ всегда полагало, что анархизмъ, какъ міросозерцаніе, доступенъ на всѣхъ ступеняхъ интеллектуально-моральнаго развитія, что нѣтъ особыхъ препятствій къ водворенію анархистскаго строя — «сейчасъ», «немедленно» даже въ такой отсталой во всѣхъ отношеніяхъ странѣ, какъ Россія. Ни безпросвѣтное невѣжество нашего народа, ни техническая его неподготовленность, ни «алкоголизмъ», ставшій уже давно «національной» нашей особенностью, ни равнодушіе и даже пренебрежительное отношеніе къ культурнымъ цѣнностям — не могутъ, въ ихъ глазахъ, служить тормазомъ къ торжеству анархическихъ идеаловъ.
Но подобныя мечты и даже утвержденія — являются глубокимъ трагическимъ недоразумѣніемъ. Уже соціализмъ — согласно заявленіямъ наиболѣе авторитетныхъ представителей его — требуетъ для осуществленія своей программы наличности реальной техно-экономической подготовки и политической зрѣлости массъ.
Но соціализмъ есть рѣшеніе хозяйственной проблемы. Его интересуетъ лишь планомѣрная организація производства и распредѣленія продуктовъ въ цѣляхъ достиженія соціальнаго равенства. Человѣка, какъ такового, вопреки его завѣреніямъ, онъ оставляетъ въ покоѣ. И каждый голодный можетъ быть соціалистомъ. Въ широкомъ масштабѣ это иллюстрируется опытомъ настоящей русской революціи[33].
Тотъ-же опытъ подтвердилъ правильность и другихъ заключеній, дѣлавшихся задолго до современныхъ событій. Именно: соціализмъ, ставя себѣ совершенно новыя цѣли, методы дѣйствія охотно заимствуетъ изъ практики «буржуазнаго общества». Та-же централизація, тѣ-же диктаторскія замашки у правительства — декреты сверху, «классовое» презрѣніе къ «правамъ личности», революціонная цензура, революціонные жандармы, революціонная тюрьма. Все — старыя, испытанныя буржуазіей средства.
И всѣ эти соображенія, разумѣется, нельзя отвести указаніемъ на «остроту» момента. Ибо, даже оставляя въ сторонѣ отдѣльныя неизбѣжныя противорѣчія настоящаго момента, все-же необходимо признать, что и современный соціализмъ — насквозь пропитанъ централистическими тенденціями, по прежнему строится онъ сверху внизъ, демагоги благодѣтельствуютъ массу, а мѣстные органы классоваго представительства могутъ цензуровать и привлекать къ отвѣту кого угодно, но только не правительственную власть. Это — то соціалистическое самодержавіе, которое при извѣстной настойчивости можетъ заставить умолкнуть буржуазію, но оно не задавитъ личность. Послѣдняя встанетъ рано или поздно противъ новой формы гнета.
Анархизмъ никакъ не можетъ быть сведенъ къ хозяйственному благополучію людей. И анархизмъ не можетъ быть введенъ никакимъ «декретомъ» и не можетъ быть плодомъ болѣе или менѣе удачнаго «бунта».
Анархизмъ требуетъ — свободнаго человѣка, требуетъ самодѣятельности, воспитанія, культуры.
Даже тѣ страны, которыя оборудованы по послѣднему слову капиталистической техники, которыя переболѣли уже парламентаризмомъ, которыя выростили мощныя классовыя организаціи — и тѣ еще далеки подлинному анархизму.
Сознательный массовой анархизмъ — организованный революціонаризмъ — только начинаетъ еще говорить (анархо-синдикализмъ), а подавляющее большинство революціонно настроенныхъ людей все еще мечтаетъ о «разумности» и блаженствахъ соціалистическаго государства и ждетъ просвѣщенныхъ указаній «сверху», отъ «вождей». Даже величайшее катастрофическое событіе современности — міровая война — дала поразительно мало въ смыслѣ уясненія соціальнаго самосознанія. Въ Россіи же она обнаружила нашу исключительную неподготовленность и неумѣлость въ созиданіи новой общественности.
И мечтанія о водвореніи у насъ, въ Россіи теперь-же анархистическаго строя — не только безплодная, но и вредная утопія. Чрезмѣрныя иллюзіи губятъ самый анархизмъ.
Вчерашній paбъ не можетъ стать сегодня анархистомъ.
Вспомнимъ, какія словословія «народу-земледѣльцу», не желающему «государствовать», раздавались въ рядахъ славянофиловъ. Но уже и въ мессіанистическихъ кликахъ Хомякова прорывались тревожныя ноты о привычкѣ къ рабству «народа-богоносца». Онъ ясно отдавалъ себѣ отчетъ въ томъ, что «народъ порабощенный (а гдѣ нѣтъ еще сейчасъ въ анархистскомъ смыслѣ не порабощеннаго народа? А. Б.) впитываетъ въ себя много злыхъ началъ, душа падаетъ подъ тяжестью оковъ, связывающихъ тѣло, и не можетъ уже развивать мысли истинно человѣческія».
Изукрашенная русская община имѣла весьма мало въ себѣ «анapхическаго». Въ ней не было личности, слѣдовательно, не было и сознанія человѣческаго достоинства. Не всѣ «изгои» могли быть и были анархистами, но возможные «анархисты» были среди «изгоевъ», а не оставались въ общинѣ.
«Всего менѣе эгоизма у рабовъ» — говорилъ Герценъ, разумѣя подъ «эгоизмомъ» — личное самосознаніе, сознаніе личнаго достоинства.
И нужно, чтобы «рабъ», «порабощенный» — возвысился до личнаго самосознанія, воспиталъ въ себѣ сознаніе личнаго достоинства. А это не дѣлается ex improviso, по желанію.
Что-бы ни дали возставшему рабу, или лучше, что-бы ни завоевалъ онъ (мы разумѣемъ рабство не только политическое, но и психическое), завоеваніе не дѣлаетъ еще раба свободнымъ. Это перемѣщеніе господъ, перемѣщеніе власти — быть, можетъ, справедливое, но не заключающее въ себѣ еще ни атома «анархизма». Развѣ Бурбоны, Романовы, Гогенцоллерны не были рабами? Развѣ не были набиты рабами — демократическіе парламенты, соціалистическіе совѣты и комиссіи, революціонные трибуналы и пр.[34] И какъ старая русская община не была анархической, такъ новая русская коммуна изъ «сегодняшнихъ» анархистовъ могла бы воспитать участокъ и урядниковъ. Кто далъ болѣе убѣжденные историческіе примѣры постыднаго крушенія коммуны, чѣмъ Кропоткинъ? Были, значитъ, внутреннія силы, которыя ломали ее. И силы эти были въ самыхъ людяхъ, еще не созрѣвшихъ для коммуны.
Для анархистскаго строя мало пустыхъ, нигилистическихъ отрицаній, необходимо творчество. A послѣднее требуетъ любви къ свободѣ, любви къ труду и знаній.
И въ высшей степени ошибочно думать, что проповѣдь немедленнаго утвержденія анархизма, независимо отъ среды и мѣста, несетъ въ себѣ облагораживающій смыслъ для усвоившихъ подобный принципъ! Наоборотъ! Нѣтъ ничего страшнѣе уродливаго истолкованія свободы. Какъ будто — «моему ндраву не препятствуй» или гильотины не выросли изъ своеобразной любви къ свободѣ.
Такая проповѣдь можетъ воспитать — маленькихъ «сверхчеловѣковъ», самодуровъ, апашей, хулигановъ, мародеровъ всякаго рода. Но все это насъ не только не приближаетъ къ анархизму, но, наоборотъ, безконечно удаляетъ отъ него. Это — не «опрощеніе» анархизма, но безстыдное извращеніе его. Что общаго между неограниченнымъ уваженіемъ къ правамъ личности и требованіемъ равенства анархизма и той полной беззаботностью насчетъ «ближняго» и общественности, которая характеризуетъ всѣхъ первобытныхъ индивидуалистовъ.
Поэтому, однихъ упованій на творческія возможности анархизма — мало. Его принципы, легче, чѣмъ всякіе иные, могутъ быть дурно поняты, ложно истолкованы, неправильно примѣнены. Анархизмъ долженъ не только обѣщать права, но и указывать на анархическій долгъ, на обязанности, вытекающія изъ анархизма.
И потому звучитъ почти обманомъ довольно обычный лозунгъ — «возьмите, берите анархизмъ»!
Брать только для того, чтобы завтра-же — изъ за неумѣлости или безсилія отдать и оставить все по-старому, значитъ не только понести безполезныя жертвы, но и надолго погубить самую идею въ глазахъ «дерзнувшихъ».
Творческое завоеваніе должно исключать возможность возвращенія къ старому; надо не только умѣть взять, но и умѣть удержать, укрѣпить за собой разъ отобранное. Поэтому, лозунгъ — только «взять» безъ всякихъ дальнѣйшихъ помышленій вовсе даже и не анархическій лозунгъ.
Для анархизма требуется двойная подготовка.
1) Для утвержденія анархизма необходимо осуществленіе нѣкоторыхъ реальныхъ предпосылокъ. Необходимо предварительно устранить тѣ техническія препятствія, которыя мѣшаютъ соединенію людей и ихъ свободному коллективному творчеству.
Анархизмъ — невозможенъ въ такомъ обществѣ, которое неспособно обезпечить всѣмъ своимъ членамъ полное удовлетвореніе ихъ потребностей. Анархизмъ предполагаетъ многогранную личность съ многочисленными и разнообразными запросами. И техническая культура должна быть достаточно высокой, чтобы покрыть эти запросы.
При этомъ ничто такъ не враждебно духу подлиннаго анархизма, какъ «опрощеніе». Послѣднее предполагаетъ искусственный отборъ потребностей, съ весьма произвольнымъ дѣленіемъ ихъ на болѣе, менѣе важныя, безполезныя и т. д. Анархизмъ стремится обезпечить каждой личности maximum культурнаго развитія, а потому онъ долженъ идти не черезъ отказъ отъ культуры, а черезъ преодолѣніе культуры. Первое искусственно суживаетъ творческіе горизонты личности, второе сообщаетъ ей предѣльную полноту бытія въ двойномъ процессѣ разрушенія и созиданія.
Такимъ-образомъ, анархизмъ для осуществленія своего прежде всего требуетъ нѣкоторой реальной обстановки.
«Этическая система не создается философской мыслью изъ себя самой» — пишетъ Б. А. Кистяковскій въ своемъ изслѣдованіи: «Соціальныя науки и право» — и слова его могутъ быть всецѣло отнесены и къ анархизму, какъ извѣстной совокупности соціально-моральныхъ утвержденій. «Какъ бы ни былъ геніаленъ тотъ философъ, который поставилъ бы себѣ такую задачу, онъ не смогъ бы ее выполнить. Ибо этическая система, подобно наукѣ, творится всѣмъ человѣчествомъ въ его историческомъ развитіи..., она творится не только индивидуальными этическими дѣйствіями, но и путемъ созданія культурной общественности. Въ качествѣ предпосылки этической системы необходима сложная экономическая жизнь съ вполнѣ развитой промышленной техникой, правильная соціальная организація съ соотвѣтственной соціальной техникой» и т. д. и т. д.
2) Во-вторыхъ, утвержденіе анархизма необходимо предполагаетъ соотвѣтствующую подготовку и самого человѣка.
Человѣкъ, какъ мы его знаемъ въ исторіи и знаемъ сейчасъ, реальный, живой человѣкъ, со всѣми взлетами его и паденіями, соединяющій въ своемъ характере — цѣломудріе и жажду наслажденій, гордость и самоотреченіе, страсть къ господству и похоть пресмыкательства — далекъ подлинной анархической свободѣ.
Напомнимъ, не утратившую еще и сейчасъ значенія, характеристику «человѣка», принадлежащую Бакунину: «Созерцаемое съ точки зрѣнія земного, т.-е. реальнаго, а не фиктивнаго существованія, огромное большинство людей представляетъ зрѣлище такого униженія, такой бѣдности подвиговъ воли и ума, что надо обладать дѣйствительно большой способностью къ самообману, чтобы отыскать въ нихъ безсмертную душу и проблескъ свободной воли. Они являютъ себя намъ существами, всецѣло и фатально обусловленными: обусловленными прежде всего внѣшней природой, характеромъ почвы и всѣми матеріальными условіями своего существованія, обусловленными безчисленными отношеніями политическими, религіозными и соціальными, обусловленными обычаями, привычками, законами, цѣлымъ міромъ предразсудковъ и мыслей, медленно скопленныхъ предыдущими вѣками, и которые они получаютъ, рождаясь среди общества, коего они никогда не являются творцами, но, напротивъ того, сперва произведеніями, а потомъ инструментами. На тысячу людей можно найти развѣ одного, о которомъ можно бы сказать, съ точки зрѣнія относительной, а не абсолютной, что онъ желаетъ и думаетъ самъ отъ себя. Огромное существо человѣческихъ индивидуумовъ, не только среди невѣжественныхъ массъ, но и среди цивилизованныхъ и привиллегированныхъ классовъ, желаютъ и думаютъ только то, что свѣтъ вокругъ нихъ желаетъ и думаетъ; они полагаютъ, конечно, что желаютъ и мыслятъ сами по себѣ, но дѣйствительно они лишь рабски, рутинерски, съ совершенно незначущими и ничтожными измѣненіями, повторяютъ мысли и желанія другихъ. Это рабство, эта рутина, неисчерпаемые источники общихъ мѣстъ, это отсутствіе бунта въ волѣ и это отсутствіе иниціативы въ мысли индивидуумовъ являются главными причинами приводящей въ отчаяніе медленности историческаго развитія человѣчества». («Богъ и государство»).
Не будемъ говорить о тѣхъ, кто не понимаетъ вообще, что свобода и связанныя съ нею творческія потенціи и чувство моральнаго долга — имманентны человѣческой природѣ.
Оставимъ въ сторонѣ всѣхъ, отстаивающихъ «дурную» свободу, т.-е. свободу только для себя съ беззастѣнчивымъ попираніемъ правъ другихъ.
Но въ самой совершенной человѣческой природѣ современности бьютъ еще глубокіе родники пресмыкательства.
Да! Современный человѣкъ — эгоистъ, скептикъ, бунтарь. Онъ громитъ авторитеты, низвергаетъ кумиры, опрокидываетъ власть. Всѣ эти разнородные и разнокачественные элементы свободолюбія живутъ въ немъ, какъ жили и раньше. Свидѣтельство — его сложная и пестрая исторія.
Но, разрушая и ломая, развѣ современный человѣкъ не творитъ себѣ сейчасъ же на мѣстѣ поверженныхъ кумировъ новыхъ и служитъ имъ, то съ повадкой лукаваго раба, то съ усердіемъ влюбленнаго фанатика?
Цѣпи и человѣкъ — неразлучны доселѣ. Подъ разными ликами — высокой разрѣшающей церкви, желѣзной устрояющей власти, благодѣтельной ферулы товарищей, государства, коммуны, союза — деспотизмъ овладѣваетъ человѣческой душой, обращая для нея въ абсо- лютъ относительное и временное и заставляя забывать о безусловномъ.
И идолопоклонство это носитъ тѣмъ болѣе «дурной» характеръ, что оно соединяется съ искаженіями и передѣлками своихъ кумировъ — Христа, Маркса и пр. — примѣнительно обстоятельствамъ.
Такъ было и такъ будетъ еще долго, ибо свобода родится въ трудѣ и творческомъ подвигѣ, а не изъ благочестивыхъ пожеланій и не изъ партійнаго кликушества.
Поэтому, для анархизма нуженъ прежде всего человѣкъ.
Тотъ, кто не чувствуетъ въ себѣ неумолчнаго голоса совѣсти, кто, требуя права для себя, безразличенъ къ свободѣ и правамъ другихъ, тотъ — не анархистъ. Тотъ, кто не имѣетъ сильной воспитанной воли, яснаго сознанія своей цѣли, кто способенъ перестраивать свои идеалы, въ зависимости отъ случайнаго наушничества, тотъ — не анархистъ.
Анархистъ не можетъ терпѣть умаленія своей свободы, отъ кого бы оно ни исходило — отъ власти абсолютнаго монарха, или отъ диктатуры пролетаріата. Онъ отрицаетъ самодержавіе во всѣхъ его формахъ. Для него нѣтъ фетишей, какъ бы они ни назывались — «классъ», «партія», «народъ».
Анархистъ — безстрашенъ. Ничей авторитетъ не можетъ отклонить его отъ исполненія велѣній его личной совѣсти. Но онъ долженъ смѣло противостоять попыткамъ безсмысленныхъ насилій и долженъ быть готовъ всегда отдать себя и все свое одушевляющей его вѣрѣ.
Анархистъ — великодушенъ. Онъ — разрушитель-творецъ, но не мучитель, не погромщикъ, безсмысленно сметающій чужіе труды.
И если нѣтъ анархиста, не можетъ быть — анархизма, какъ строя. Но анархизмъ возможенъ и нуженъ, какъ трудъ, какъ борьба.
Нѣтъ соціально-политической вѣры, болѣе далекой отъ квіетизма, отъ холоднаго созерцанія, чѣмъ анархизмъ. Въ свѣтѣ своей совѣсти онъ сметаетъ все окружающее, чтобы на обломкахъ рабства и соціальной несправедливости создать свободнаго человѣка.
Пусть каждый отброситъ схоластическій балластъ и пожертвуетъ доктринерскимъ хламомъ ради вольнаго простора жизни. Пусть каждый почувствуетъ въ себѣ бьющій въ немъ океанъ устремленій!
Многіе ли слышатъ сейчасъ его волны? Одни — рабы пресмыкаются въ прахѣ, другіе — варвары не научились слушать ихъ.
И когда каждый — и самый малый изъ всѣхъ — почувствуетъ себя творцомъ, родится анархизмъ.
Только творецъ встрѣтится съ міромъ — необходимостью, какъ равный съ равнымъ, какъ неодолимая творческая воля къ борьбѣ — сліянію. И изъ пролитаго имъ творческаго сѣмени на лоно матери-необходимости родятся дѣти его воли — молніи мысли, цвѣты фантазіи. И въ творческомъ вызовѣ вѣкамъ, въ сліяніи мгновенія съ вѣчностью родится чувство безсмертія — величайшая изъ радостей, доступныхъ намъ.
ГЛАВА XI.
Анархистскій манифестъ[35].
Революція и свобода всегда рождались въ крови и страданіяхъ.
На зарѣ ихъ падаютъ жертвы — герои, борцы, творящіе новое и наслѣдники стараго съ отчаяніемъ его защищающіе.
Но... не надо, чтобы жертвы падали даромъ. Передъ нами — гигантская работа, такая, какой еще не знало человѣчество.
Надо переустроить цѣлую страну, расшатанную развратомъ стараго порядка, войной и опытами «сверху» разныхъ партій. И въ переустройство это — нести не старую рутину, не затхлое и догматическое профессіональныхъ изобрѣтателей человѣческаго счастья, но новое, творческое, взятое непосредственно изъ жизни, отвѣчающее устремленіямъ и интересамъ тѣхъ людей, которыми и для которыхъ совершался переворотъ.
Пора покончить съ любой опекой, хотя и самой благожелательной! Пора покончить съ представительствомъ, кто-бы ни былъ представителемъ! Каждый долженъ взять «свое» дѣло въ «свои» руки!
Къ этому зоветъ насъ анархизмъ!
Анархизмъ — ученіе жизни! Анархизмъ родится съ каждымъ человѣкомъ и живетъ въ каждомъ изъ насъ, но задавленъ — нищетой, робостью, лакействомъ предъ людьми и предъ теоріями, привычками къ насилію и развратной жизни. И нужны — смѣлость, просвѣтленіе, жажда подвига, чтобы въ каждомъ — и большомъ и маломъ проснулся анархизмъ.
Анархизмъ — ученіе свободы! Не отвлеченной, призрачной свободы, но жизненной, реальной... Въ основѣ всѣхъ построеній анархизма — свободный человѣкъ, свободный отъ гнета учрежденій, отъ власти законовъ, которые для него придумали другіе. Но свобода -анархиста есть свобода всѣхъ. Разъ есть рабъ, онъ — несвободенъ. Анархистъ долженъ бороться до тѣхъ поръ, пока не будутъ свободны всѣ. Нѣтъ идоловъ для анархизма, ничего абсолютнаго, кромѣ самого человѣка, его свободы, его правъ на безграничное развитіе. Каковъ бы ни былъ общественный порядокъ, анархистъ всегда будетъ стремиться дальше, къ новому, болѣе совершенному, полнѣе и чище говорящему его анархической совѣсти.
Анархизмъ — ученіе равныхъ! Всѣ — равны въ свободѣ. Каждый — творецъ своего дѣла. И сфера личной его свободы — неприкосновенна.
Анархизмъ — ученіе культуры! Ибо анархизмъ зоветъ не къ разрушенію, но преодолѣнію культуры. Не къ безсмысленному разгрому и расхищенію достоянія народнаго, но бережному храненію цѣнностей, въ которыя заключены творческія достиженія человѣка, которыя — необходимы, какъ средство къ послѣдовательному, непрерывному нашему освобожденію. Анархизмъ — наслѣдникъ всѣхъ прошлыхъ освободительныхъ стремленій человѣка и несетъ отвѣтственность за ихъ сохранность.
Анархизмъ — ученіе любви! Ибо онъ учитъ любить не себя только и свою свободу, но каждаго и всѣхъ. Онъ зоветъ къ подвигу, зоветъ къ великому дѣлу, чтобы плоды его собрали не только наши современные, но и будущіе, далекіе отъ насъ братья. Онъ зоветъ къ борьбѣ, разрушенію насильнической системы, но не къ мести и безстыднымъ самосудамъ противъ отдѣльныхъ лицъ.
Анархизмъ — ученіе радости! Ибо онъ вѣритъ въ человѣка, вѣритъ въ его неограниченныя возможности, вѣритъ, что своимъ подвигомъ для всѣхъ, онъ связуетъ всѣ времена и всѣхъ людей. Такъ родится радость творца — величайшая изъ возможныхъ для человѣка радостей!
[1] Однако, Штирнеріанству неопасны обычныя «разъясненія» его изъ лагеря марксистовъ. Попытки характеризовать его, какъ «буржуазную отрыжку», бьютъ мимо цѣли. Въ Штирнеріанствѣ есть элементы, совершенно чуждые «капиталистической культурѣ». А чисто анархическіе моменты отрицания, разумѣется, не могутъ быть восприняты Бернштейномъ, Плехановымъ и пр.
[2] О Ницше и особенно «системѣ» Ницше надлежитъ, впрочемъ, говорить съ чрезвычайной осторожностью, дабы «упрощеніями» и «стилизаціей» не исказить подлиннаго Ницше. Въ замыслахъ его — исключительно глубокихъ, сложныхъ и художественно значительныхъ — легко открыть любое «міросозерцаніе» и найти любое «противорѣчіе». Внѣшне, въ планѣ общихъ проблемъ индивидуализма, Ницше доступенъ любому «приспособленію». И моя задача здѣсь — заключается не въ общей характеристикѣ ученій Ницше, не въ выявленіи ихъ essentialia, но лишь въ указаніи на неизбѣжность моральнаго тупика для неограниченнаго индивидуализма, поскольку онъ имѣетъ мѣсто у Ницше.
[3] Индивидуалистическiе приципы лежатъ въ основанiи и либеральнаго мiровоззрѣнiя. Но либеральный индивидуализмъ не имѣетъ ничего общаго с анархическимъ, ибо въ основу его легли разнообразныя формы ограниченiя личной свободы — право эксплоатацiи однихъ другими при добровольномъ признанiи власти, какъ начала, обезпечивающаго «общее благо».
[4] Курсив вездѣ — П.Л. Лаврова.
[5] Необходимо отдать справедливость Дюркгейму — весьма далекому отъ анархистскаго міровоззрѣнія — въ томъ, что, утверждая статистическую закономѣрность, онъ, тѣмъ не менѣе, не склоненъ утверждать детерминизма для отдѣльной личности, полагая ее, такимъ образомъ, свободной. Ходъ его разсужденія таковъ: Постоянство демографическихъ явленій порождается силой, лежащей внѣ индивидовъ. Сила эта требуетъ опредѣленнаго количества актовъ, но ей безразлично, исходятъ ли эти акты отъ этого или отъ другого индивида. Число покоряющихся ей компенсируется числомъ успѣшно сопротивляющихся ей. Выборъ, такимъ образомъ, принадлежитъ самой личности. При этомъ личностей, предрасположенныхъ къ акту самоубійства, въ любой общественной организаціи въ каждый данный моментъ болѣе, чѣмъ дѣйствительно совершенныхъ актовъ. Смыслъ общей концепціи Дюркгейма заключается въ томъ, что помимо физическихъ, химическихъ, біологическихъ и психологическихъ силъ, существуютъ еще силы соціальныя, которыя оказываютъ свое вліяніе на индивидовъ извнѣ, такъ-же, какъ и силы выше упомянутыя. Поэтому, если первыя не исключаютъ человѣческой свободы, то нѣтъ основанія думать, что дѣло обстоитъ иначе со вторыми.
[6] Contra, напр., Б. Сидисъ: «Сила личности обратно пропорціональна числу соединенныхъ людей. Этотъ законъ вѣренъ не только для толпы, но и для высоко организованныхъ массъ. Въ большихъ соціальныхъ организаціяхъ появляются обыкновенно только очень мелкія личности. Не въ древнемъ Египтѣ, Вавилонѣ, Ассиріи, Персіи слѣдуетъ искать великихъ людей, но въ маленькихъ общинахъ древней Греціи и Іудеи». («Психологія внушенія».).
[7] Въ философствованiи Гердера вообще не мало анархическихъ мотивовъ, несмотря на то, что подъ его эмпирическимъ нарядомъ жилъ подлинный рацiонализмъ.
[8] Нѣкоторые изслѣдователи, впрочемъ, протестуютъ противъ чрезмѣрнаго подчеркиванiя антиисторизма въ естественно-правовыхъ ученiяхъ.
[9] Ни одно умственное теченіе не было жертвой такой легкой и жестокой критики, какъ романтизмъ. Его чрезвычайная и быстрая возбудимость, его иногда чрезмѣрная чувствительность, его гипертрофическое представленіе о своихъ способностяхъ, его апологія смутныхъ настроеній, его податливость химерамъ давали богатую пищу пародіямъ и злымъ каррикатурамъ. Интересныя и въ своемъ родѣ талантливыя работы Леметра, Ляссерра, традиціоналистовъ, неомонархистовъ и особенно Мегрона пытались уничтожить романтизмъ. Имъ удалось осмѣять частности, но они были безсильны противъ общечеловѣческаго значенія всего теченія.
[10] И, быть-можетъ, менѣе остро, но еще болѣе полно, болѣе примиренно со всѣмъ, болѣе радостно — въ «человѣкобожествѣ» Достоевскаго (Кирилловъ въ «Бѣсахъ».).
[11] Бергсонъ, съ присущей ему тонкостью, различаетъ въ интеллектуализмѣ — «мысль, черпающую изъ ея глубокихъ источниковъ», и мысль, закоченѣвшую въ формулѣ. «Есть два рода интеллектуализма: интеллектуализмъ истинный, который переживаетъ свои идеи, и ложный, который подвижныя идеи превращаетъ въ неподвижныя, затвердѣвшія понятія, чтобы пользоваться ими, какъ жетонами». (Психофизическій параллелизмъ и позитивная метафизика»».)
[12] См. объ этомъ мою брошюру — «Революціонное творчество и парламентъ. Революціонный синдикализмъ)». Москва, 1917.
[13] Необходимо, однако, различать «утопію» и «соціальный мифъ» Сореля. Утопія — разсудочное построеніе, плодъ выдумки, вдохновенія кабинетнаго мудреца. И тѣмъ безжизненнѣе и отвлеченнѣе становится утопія, чѣмъ болѣе доказательствъ приводитъ въ ея защиту авторъ. Самыя остроумныя и проницательныя схемы не могутъ охватить жизни въ ея многообразіи. И жизнь всегда смѣется надъ безсильными фантазіями человѣческаго мозга. Соціальный мифъ не есть разсудочное построеніе, онъ — цѣлый, живой, недѣлимый образъ, созданный интуитивно, субъективно — достовѣрный, но не доказуемый логической аргументаціей. Соціальный мифъ не можетъ быть изложенъ въ терминахъ науки. Таковъ, напримѣръ, мифъ о наступленіи царствія божія на землѣ, таковъ наиболѣе популярный и властный у Сореля мифъ о «Всеобщей стачкѣ» — соціальной революціи. Мифъ трепещетъ полнотой подлинной и цѣлостной жизни; онъ — неразложимъ на раціоналистическія клѣточки, но самъ является источникомъ творчества. Мифъ, одушевляющій революціонера — идентиченъ религіозному огню, владѣвшему первымъ христіаниномъ. Онъ — внѣ контроля интеллекта, ибо, по словамъ Сореля, онъ не «описаніе вещей, но выраженіе воли».
[14] Это противоположеніе — существенно для современной хозяйственной формы. Торговый капитализмъ, нѣкогда открывавшій дорогу промышленному, когда то безспорный и могучій хозяинъ рынка, пріучается нынѣ къ скромной роли агента промышленнаго капитала, олицетворяющаго современное производство.
[15] Болѣе полную мою рецензію этого труда Кропоткина см. въ журн. «Голосъ Минувшаго» за 1912 г.
[16] См. объ интересномъ спорѣ Р. Михельса и Лагарделля о роли «вождей» въ синдикализмѣ въ моей брошюрѣ: «Революціонное творчество и парламентъ». гл. V-я.
[17] Обычное возраженіе противъ классовой теоріи государства, заключающееся въ томъ, что государство способно въ отдѣльныхъ случаяхъ подняться надъ интересами господствующей группы и дѣйствовать даже вопреки имъ, нисколько не колеблетъ доказательности общихъ защищаемыхъ здѣсь положеній. Господствующая классовая группа никогда не дѣйствуетъ съ фанатической слѣпой силой. Она ведетъ «политику». Поэтому, и у нея бываютъ дни уступокъ, компромиссовъ и подачекъ. Ея политика столько-же опредѣляется «эгоизмомъ» и жестокостью, сколько коммерческой расчетливостью и сентиментами.
[18] См. подробнѣе «Революціонное творчество и парламентъ». гл. III-ю.
[19] Разумѣется, политическія партіи могутъ существовать и существовали внѣ парламентскаго представительства. Тѣмъ не менѣе въ условіяхъ современной государственности участіе въ парламентской жизни является для партіи не только существеннымъ, но иногда неустранимымъ признакомъ.
[20] Совершенно правы, однако, тѣ изслѣдователи, которые собственно парламентскую борьбу пролетаріата связываютъ, по преимуществу, съ именемъ Лассаля.
[21] Здѣсь умѣстно вспомнить о совершенной безпринципности Бебеля и Либкнехта въ вопросѣ объ «огосударствленіи предпріятій» (Берлинскій конгрессъ 1892 г. и Бреславльскій 1895г.), о первоначальныхъ громахъ и послѣдующемъ отступленіи Бебеля въ вопросѣ о завоеваніи прусскаго ландтага (1893 г;), о рѣчи Бебеля на Гамбургскомъ конгрессѣ, о политикѣ партіи въ аграрномъ вопросѣ и пр. и пр.
[22] Справедливость требуетъ отмѣтить, что не одни русскіе партійные шовинисты повинны въ подобномъ искаженіи матеріалистической концепціи исторіи, лежащей въ основѣ марксистскаго міросозерцанія. Виднѣйшій изъ лидеровъ англійской соціалъ-демократіи, Гайндманъ также не вѣритъ въ творческую силу класса, который должна представлять соціалистическая партія. «Соціализмъ — говоритъ онъ — создавался вездѣ не самими ремесленниками и рабочими, а всегда образованными людьми изъ класса, стоящаго выше ихъ... Слова Маркса, что эмансипація рабочихъ можетъ быть совершена лишь самими рабочими, вѣрны въ томъ смыслѣ, что соціализмъ невозможенъ безъ соціалистовъ, какъ республика безъ республиканцевъ. Но рабы не могутъ освобождать самихъ себя. Руководительство, иниціатива, указанія и организованность должны прійти отъ тѣхъ, которые родились въ другой обстановке и привыкли къ умственной работѣ съ малыхъ лѣтъ». Какъ мало соотвѣтствуетъ подобная концепція новому факту пролетарской дѣйствительности — рабочему синдикализму.
[23] Марксъ въ 1869 г. въ письмѣ къ кассиру нѣмецкаго союза металлургистовъ слѣдующимъ образомъ характеризовалъ соотношеніе между политической партіей и профессіональными союзами: «...Профессіональные союзы — школа соціализма. Въ профессіональныхъ союзахъ рабочіе дѣлаются соціалистами, такъ какъ они изо дня въ день борются съ капиталомъ. Всѣ политическія партіи какого бы то ни было направленія воодушевляютъ массу рабочихъ только на короткое время; профессіональные же союзы, наоборотъ,связываютъ эту массу прочно и надолго. Только союзы въ состояніи представлять дѣйствительно рабочую партію и противопоставлять силу рабочихъ могуществу капитала».
[24] Авторъ этихъ строкъ когда-то въ небольшой работѣ далъ всестороннее и панегирическое описаніе революціоннаго метода. Въ ней революціонаризмъ разсматривался, какъ абсолютная самоцѣль. См. «Революціонное міросозерцаніе». Москва. 1917. Изд. «Логосъ».
[25] Къ тому-же отдѣльные акты, какъ актъ Равашоля, по недоразумѣнію, называемого анархистомъ, своевременно вызывали одушевленные протесты идейныхъ вождей анархизма (Кропоткинъ, Реклю и др.).
[26] Разумѣется, въ ученіи Толстого, какъ во всякомъ большомъ и оригинальномъ ученіи, есть мѣста, какъ будто опровергающія смыслъ вышеуказанныхъ сужденій и противорѣчащія имъ, но въ цѣломъ ученіе Толстого (именно ученіе, а не его практическая дѣятельность) необыкновенно послѣдовательно и однородно.
[27] Рѣчь не идетъ, конечно, объ экспропріаціи общаго характера — «соціальной революціи».
[28] Подробнѣе см. въ подготовляющейся къ печати моей брошюрѣ — «Классъ, партія и интеллектуальный пролетаріатъ».
[29] Но именно потому, что въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ о «коллизіи» системъ, коллизіи, подготовляемой развитіемъ классового самосознанія — не можетъ быть и рѣчи о возможности «сорвать» подобную коллизію, провести ее смѣлымъ натискомъ. Если революціонный классъ недостаточно технически воспитанъ, онъ не сумѣетъ создать «своей» системы и послѣ краткаго тріумфа понесетъ всю тяжесть пораженія.
[30] Перломъ такой «дурной» для анархизма критики можетъ почитаться извѣстная книжечка Плеханова — «Анархизмъ и соціализмъ», знакомившая съ анархизмомъ поколѣнія соціалъ-демократовъ, книжечка написанная съ специфически Плехановскими — стремительностью, полемической «ясностью» и побѣдоносностью. Передержки и остроуміе — не всегда хорошаго тона — сходятъ здѣсь за аргументацію.
[31] См. объ этомъ подробнѣе въ изданной подъ моей редакціей книгѣ Амона — «Соціализмъ и анархизмъ». М. 1903.
[32] Индивидуалистическіе анархисты, особенно Тэкеръ и Маккэй, вслѣдъ за Прудономъ и Уорреномъ, не признаютъ формулы — «все принадлежитъ всѣмъ» и доказываютъ ея непримиримость съ основнымъ постулатомъ анархизма — «свободой личности». Коммунистъ — С. Форъ также видитъ источникъ «міровой скорби» не въ собственности, а въ организаціи власті.
[33] Оставленіе за флагомъ «соціализаціи» извѣстной части интеллектуальнаго пролетаріата, не повѣрившаго въ «соціалистическую» революцію, не мѣняетъ общей картины.
[34] Русская революція 1917—18 гг. — въ большевистскомъ ея уклонѣ — дала краснорѣчивѣйшія иллюстраціи подобнаго положенія вещей. Опыты «соціализаціи» сверху, со всей «удалью отсебятины» (больше всего марксисты игнорировали Маркса и марксизмъ), опирающіеся на вооруженныхъ солдать, наемную гвардію, государственный терроръ, въ разнообразныхъ формахъ его примѣненія, съ истинно рабскимъ потаканіемъ разнузданнымъ инстинктамъ массъ, съ преміями за невѣжество и пр. и пр., разумѣется, никакъ не могутъ служить переходомъ къ анархическому строю и уже тѣмъ болѣе быть имъ самимъ. Это — перемѣщеніе власти. И анархизму нечего дѣлать въ большевизмѣ. Послѣднему онъ могъ бы сказать словами Герцена: «я вижу на твоемъ челѣ нѣчто такое, что меня заставляетъ называть тебя рабомъ..» Здѣсь не мѣсто, конечно, касаться положительныхъ заслугъ «большевизма»: ликвидаціи бездарной и безсильной политики «временнаго правительства», выявленія политической и нравственной дряблости нашихъ соціалистическихъ партій и непрочности нашей «буржуазіи».
[35] Нѣкоторыя положенія этого манифеста были приняты иниціативной группой «Московскаго Союза идейной пропаганды анархизма» и легли въ основаніе eго «Деклараціи». (Москва, 1918 г.).
