Джеймс Скотт
Благими намерениями государства
Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни

Джеймс Скотт и социология смысла
Часть 1. Государственные проекты: прояснения и упрощения
Государственное и научное лесоводство: притча
Социальные факты — сырые и обработанные
Фальсификация измерений: народные и государственные единицы
Искусство управления государством и измерения
Упрощение и стандартизация измерений
Землевладение: местная практика и финансовые упрощения
Почти состоявшийся сельский свод законов
Запутанность форм общинного землевладения
Кадастровая карта как объективная информация для посторонних
Что отсутствует на этой картине?
Преобразование и сопротивление
Централизация дорожного движения
Часть 2. Преобразование взгляда
3. Авторитарный высокий модернизм
Радикальная власть высокого модернизма
4. Высокомодернистский город: эксперимент и критический анализ
Тотальное городское планирование
Правила для плана, планировщика и государства
Учебник высокомодернистской архитектуры
Бразилиа: высокомодернистский город построен — почти
Бразилиа как отрицание (или выход за пределы) Бразилии
Выступление против высокомодернистского урбанизма:
Джейн Джекобс
Визуальный порядок против опытного
Функциональное превосходство разнообразия и сложности
Авторитарное планирование как превращение города в чучело
Планирование незапланированного
5. Революционная партия: ее план и оценка деятельности
Ленин — архитектор и инженер революции
Ленинская работа «Что делать?»
Теория и практика: революции 1917 г.
Ленинская работа «Государство и революция»
Люксембург: врач и акушерка революции
Александра Коллонтай и «Рабочая оппозиция» Ленину
Часть 3. Реализация проектов заселения сельской местности и сельскохозяйственного производства
6. Советская коллективизация, капиталистические мечты
Советско-американский фетиш: индустриальное сельское хозяйство
Коллективизация в советской России
Первый раунд: большевистское государство и крестьянство
Второй раунд: высокий модернизм и поставки
Авторитарная теория высокого модернизма и практика крепостничества
Государственные образцы контроля и присвоения
Пределы авторитарного высокого модернизма
7. Принудительное переселение в деревни в Танзании: эстетика и миниатюризация
Колониальное высокомодернистское сельское хозяйство в Восточной Африке
Деревни и «усовершенствованное» сельское хозяйство в Танзании перед 1973 г.
«Устремленные вперед» люди и их посевные культуры
Кюллективное сельское хозяйство и интенсивное производство
Бюрократическое удобство, бюрократические интересы
«Идеальная» государственная деревня: эфиопская разновидность
Высокий модернизм и оптика власти
Минитюаризация совершенствования и управления
8. Приручение природы: четкое и упрощенное сельское хозяйство
Разновидности сельскохозяйственного упрощения
Сельское хозяйство на ранних стадиях
Непредвиденные последствия упрощений
Катехизис высокомодернистского сельского хозяйства
Модернистская вера и местная практика
Постоянные поля и переложное земледелие
История «несанкционированного» новаторства
Ведомственные отношения в высокомодернистском сельском хозяйстве
Упрощающие предположения сельскохозяйственной науки
Выделение экспериментальных переменных
Упрощенные методы научного сельского хозяйства
Некоторые урожаи более равны, чем другие
Опытные участки в сравнении с реальными полями
Воображаемые и реальные фермеры
Сравнение двух сельскохозяйственных логик
9. Неадекватные упрощения и практическое знание: метис
Метис: контуры практического знания
Связь метиса с эпистеме и техне
Практический опыт и научное знание
Динамизм и пластичность метиса
Социальный контекст метиса и его разрушение
Доводы против имперского знания
«Все дело в невежестве, дурачок!»
Планирование для абстрактных граждан
Разложение действительности на составляющие
Неудачи схематизации и роль метиса
Луизе, снова, всегда
* * * * *
Оуэн: Что происходит?
Йолланд: Точно не знаю. Но я не хочу участвовать в этом. Это что-то вроде высылки.
Оуэн: Мы делаем шестидюймовую карту этой страны. В этом есть что-то зловещее?
Иолланд: Да не в этом...
Оуэн: Некоторые названия там совершенно загадочны и смущают...
Иолланд: Кого смущают? Эти люди смущены?
Оуэн: И мы очень тщательно приводим в порядок эти названия со всей возможной для нас точностью.
Йолланд: Кое-что при этом разрушается.
Брайан Фрайал, Переводы 2.1
Джеймс Скотт и социология смысла
Дж. Скотт определенно принадлежит к академической элите англосаксонских обществоведов, но в то же время часто выглядит на их фоне «белой вороной». Дело здесь не в наигранной академической эксцентричности, любезной многим людям этого круга. Он стал таким, каким стал, просто будучи самим собой. Из офиса профессора политических наук в Йельском университете — поставщике президентов США — он отбывал прямо на свою ферму в отдаленном селе, где соседи знают и уважают его в основном как искусного овцевода и отличного парня. В тот период жизни, когда преуспевающие ученые оседают в комфорте кабинетов и комитетов, он чередует свою академическую деятельность с продолжительными периодами «работы в поле», которым для него стала Юго-Восточная Азия. Там он осваивал новые языки и непривычные условия природы и быта, а главное, вживался в повседневные условия существования местных жителей и сообществ. Результаты его полевых исследований, которые в «западной» дисциплинарной традиции могли считаться антропологическими(а в российском случае — этнографическими), всякий раз становились чем-то гораздо большим, нежели доскональным описанием небольшого сообщества. Содержащиеся в них оригинальная концептуализация и анализ проливали новый свет на широкие аспекты человеческих и общественных отношений, часто открывая новое в их основах. Более того, для этих работ характерными стали их все возрастающие охват и значимость.
Для англосаксонских гуманитарных наук каждая из книг Скотта была событием,с влиянием, идеями и новыми понятиями, распространяющимися далеко за рамки академического сообщества. Эти книги отличают по меньшей мере пять общих черт. Во-первых, исчерпывающие данные, полученные прямым или косвенным путем, связаны в них с внушительными концептуальными и аналитическими изысканиями. Во-вторых, даже сложные аналитические построения изложены просто, выражены и закреплены посредством мощных и ярких образов и понятий. В-третьих (и в продолжение предыдущего), в этих работах присутствует особое эстетическое измерение, соединяющее аналитическое и художественное в них. Это нашло свое выражение в том, что Зигмунт Бауман назвал особой живостью (vibrance) стиля Скотта[1]. Далее, эти работы демонстрируют преемственность в развитии общей центральной темы — сложной взаимозависимости динамики социальной жизни и разнообразных смыслов, выраженных в ней. Наконец, каждая из книг выходила в свет только тогда, когда автору было что сказать действительно нового.
Что до их общего содержания, то работы Скотта олицетворяют высочайший уровень современного расцвета того феномена, который часто называют «качественной» методологией. Главная граница между социальными исследователями, их дисциплинами, методами и традициями пролегает между теми, кто стремится к познанию путем квантификации, математизации и связанных с ними процедур, и теми, кто старается продвинуть вперед понимание человеческих обществ путем их систематической типизации, основанной преимущественно на «шире-чем-количественном» сравнении — «качественной» или «интерпретативной» методологии. В этом случае процесс познания фокусируется на осознании смыслов и на развитии понятий, которые становятся новыми базовыми инструментами и исходными эталонами общественного анализа, как, например, «моральная экономика», «сила слабых», «искусство сопротивления», «ме́тис» (mētis)[2]. Само собой разумеется, что два этих подхода не исключают, а могут дополнять друг друга. Не являются они и простыми «этапами» в деле добывания знаний (где «качественное» исследование — это не что иное, как «пока что» недоразвитое «количественное»). По крайней мере отчасти они обращаются к разным вопросам, отбирают данные разных типов и базируются на них, задают разные параметры вывода. В случае Скотта все это окрашено фундаментальным гуманизмом содержания и методов, равно как и критическим видением общества и способов его самовосприятия.
Книгой, которая впервые сделала Скотта широко известным и дает хорошее представление о его персональном стиле, стала «Моральная экономика крестьянина»[3]. В ней непосредственные знания о крестьянских семьях и сообществах Юго-Восточной Азии были соединены с анализом социальных экономик выживания в целом и особой для них системы этики, отражающих, определяющих и структурирующих их повседневную жизнь. В этой книге автор не придерживается границ какой-либо одной дисциплины и ее частного языка, но использует социологию, антропологию, социальную психологию, политическую науку, экономику и историю. Соответственно, в ней введены в оборот понятия и термины, взятые у различных ученых и дисциплин, часто примененные по-новому. Так, само название книги было заимствовано из исследования «моральной экономики» нарождающегося рабочего класса Великобритании XVIII-XIX вв., осуществленного И.П. Томпсоном; анализ рыночных отношений, дисциплинирующих и реструктурирующих посредством голода и страха перед безработицей, отсылает к работе К. Поляни, и т. д.[4] Путем анализа «того, что вызывает их гнев» из-за нарушения общинных норм взаимообмена и осознаваемого ими универсального права на пропитание, выявлены предпосылки крестьянских бунтов и восстаний. Что до видения сельских жителей, книга бросала вызов как романтизированным пасторальным описаниям сельских сообществ, так и вульгарному марксизму, рассматривающему крестьян как мелкобуржуазных конформистов (и как антитезис абстрактно-утопического пролетариата, безусловно революционного «по своей сути»). Место мелкобуржуазных, отсталых или просто тупых крестьян занимает эмпирически обоснованный и куда более правдоподобный образ «стоящего по шею в воде», но стратегически мыслящего о себе и о своей жизни человеческого существа, которого и природный катаклизм, и государственная политика, и местные начальники могут потопить в любой момент. Книга рассматривала ценностную ‹ систему взаимопомощи и приличий, которая возникает в подобных обществах и поддерживает их, — социальную экономику и этику повседневного выживания их членов. В заключение делался вывод о том, когда и по поводу чего крестьяне восстают.
Следующая книга Скотта «Оружие слабых» конкретизировала и развивала идеи «моральной экономики»[5]. Поговорка крестьян Центральной Америки «Подчиняюсь, но не повинуюсь» является ключевой для моделей поведения в предельно реалистическом мышлении «слабых» перед лицом «власти». Это классические ситуации «столкновения непреодолимой силы с неподвижным объектом», рассмотренные с позиций более слабой стороны этого уравнения. Непрерывное сопротивление крестьян эксплуатации принимает различные формы в зависимости от ситуации. Только в крайнем случае оно выливается в открытый бунт, за который приходится платить необыкновенно высокую человеческую цену. Гораздо чаще это ежедневные попытки ограничить и «повернуть вспять» репрессивную власть посредством избегания, саботажа, мелких краж, притворной забывчивости или «тупости», высмеивания чужаков и т. д., формирующие фактуру крестьянского ежедневного сопротивления. Каждый крестьянин учится этому с детства и как форме сопротивления, и как способу сохранить самоуважение перед лицом сокрушительных, эксплуататорских и, как правило, безжалостных сил. Чтобы увидеть такие обычно скрытые поведенческие модели, Скотт скрупулезно проанализировал язык и содержание крестьянской речи, а также реальное поведение, часто спрятанное за фасадом демонстративных ритуалов подчинения власть имущим «силам порядка».
В своей очередной книге «Господство и искусство сопротивления»[6] Скотт развил представление об изучаемых обществах через более полное описание противоположной по отношению к «слабым» стороны и ее орудий социального контроля. В вопросах реального существования «подчиненных групп» их зависимость играет не менее важную роль, чем бедность. Однако это не игра в одни ворота. Слабые не просто бессильны, а находятся в непрерывной конфронтации, те, кто правят, одерживают победу, но редко когда — полную. В книге исследованы реальные формы господства, проведены их детальная категоризация и анализ. Здесь особо важны обычно невидимые для посторонних глаз сообщения, курсирующие между вовлеченными в них социальными группами. Показано, как действуют социальные структуры реальной власти, выходящие за рамки законодательных норм (и «официальной истории»). Понимание и анализ этого необходимы, чтобы обнаружить реальные контуры и процессы социального господства.
Скотт рассматривает общество так же, как греческий театр, где социальные страты и индивиды взаимодействуют и противодействуют, часто прячась за «масками», присущими ритуалам и культуре и играющими главенствующую роль в функционировании обществ.
При этом непрерывная конфронтация, как правило, не подразумевает попыток «уничтожить» противоположную «сторону». Скорее, это признание всеми «актерами» переплетения и множественности политических конфигураций — реальный плюрализм существования. Тонкий анализ отношений и дискурсов «актеров» помогает также обнаружить области их возможной автономии и способности к сопротивлению — культурные и социальные «базы вне» области контроля существующих властей. Восстание, когда и если оно происходит, — это взрыв открытого неповиновения, в ходе которого тайные смыслы послания, уже существующие в обществе, проступают на поверхности. Их содержание, укорененное в символах, смыслах и системах ценностей, а не просто бедность, определяют формы и результаты схватки. Восстание «говорит в полный голос о том, о чем на протяжении многих лет шептались». Вот что объясняет восторг и эмоциональный подъем части участников этих событий, как и неспособность это предвидеть, услышать и признать другими, теми, кто существует вне интерсубъективности такого происшествия — «киевского майдана» и схожих происшествий современности городов и сел.
«Благими намерениями государства» — последняя книга, опубликованная Скоттом. В ней автор исследует современное государство и присущие ему так называемые стратегии развития[7], сходные во всем мире. Их ядром являются идеологии «высокого модернизма» при склонности к менеджериальному упрощению решений и деперсонализации его «объектов». Усиливающаяся бюрократизация, гасящая на корню спонтанные проявления социальной жизни и то, что осталось от так называемого гражданского общества, заменяет прямое познание статистическими и компьютеризованными образами чаще всего с предопределенными выводами. Проходит зачистка тех аспектов социального реализма, которые не укладываются в модели «прогресса» и академической экономики. Немногие подвергают сомнению тот факт, что социальные условия изменяются или что экономическая жизнь важна людям, но два последующих вопроса очень часто выпадают из поля зрения. Во-первых, что упускается из виду, когда используются упрощенные модели, и насколько этим искажается наше понимание реальности? Во-вторых и в прямое продолжение предыдущего, каковы корни повторяющихся ошибок и провалов современных «реформ» и «программ развития»?
В книге «Благими намерениями государства» анализируются конкретные случаи вытекающих из идеологии высокого модернизма бедствий, которые формируют мировоззрение современных государственных бюрократий. Объясняется также воздействие такого видения общества — тех шор, которые оно систематически создает. В заключении рассматриваются некоторые способы защиты от этих ошибок путем осмысления и анализа непосредственного опыта и практического человеческого знания. Понятие ме́тиса, заимствованное Скоттом у древних греков, определило правила минимизации вреда, который наносят идеологии и программы «высокого модернизма». Эти правила включают такие простейшие, но действенные элементы, как движение маленькими шагами (так как невозможно предвидеть все последствия «программы»), скидки на неожиданное, на человеческую изобретательность (которую нельзя «спланировать» для будущего) и т. д. Само понятие трехтысячелетней давности дает интересное представление о возможностях реконструкции прошлого опыта и мысли без мультипликации неологизмов. Об остальном же книга скажет сама за себя.
Значение для России работ Скотта в целом и его последней книги, в частности, велико. Это верно в отношении социальных, экономических, педагогических и этических детерминант выживания людей и дистанции между «официальной историей» и действительностью; между «приказами сверху» и их результатами; между масками, которые носят люди-«актеры», и реальностью. В жизни России особо важны «скрытые послания», изучаемые автором в его книге о господстве и искусстве сопротивления. Самому Скотту были всегда глубоко интересны российские история и культура, и их влияние на него просматривается отчетливо. Хотя Россия никогда не была для Скотта предметом специального исследования, он определенно принимал во внимание ее опыт, и многое из того, что он писал, звучит так, как если бы он описывал развитие российского общества: его конфликты и проблемы, его политические маски и рычаги контроля, его сельские структуры власти, сверхгосударство и повседневную жизнь. Рассказ переломного периода «Рычаги», символизировавший и выражавший устремления, надежды и неудачи хрущевской эры, как будто бы написан самим Скоттом[8].
Не менее значимыми в долгосрочной перспективе для российских социальных наук могут оказаться некоторые более общие эпистемологические вопросы, поставленные Скоттом. Пока советский академический истеблишмент официально оставался строго «марксистским», такие вопросы обсуждались только в предельно узких рамках очень выборочной интерпретации Маркса. Реально это выражалось в специфическом дуализме. С одной стороны, была абстрактная теория в гегельянском стиле и дедуктивная логика с ее собственным языком и абстрактными выводами, обязательными для всех. С другой стороны, допускались и развивались позитивистские узкоэмпирические интерпретации, в которых статистические выкладки и их упрощенные описания занимали место полноценно развитых социальных наук и, в частности, «теорий среднего уровня», способных обоюдосторонне связать теоретическую работу с эмпирическим исследованием[9]. Когда период принудительного «марксизма» закончился, российские исследователи устремились во вновь дозволенные области и формы анализа. Но эпистемологический и методологический багаж привычек мышления, создававшийся поколениями, невозможно просто оставить за бортом. Легко увидеть, что и теперь, когда марксистской терминологии часто избегают, многие базовые модели советских социальных наук в России остаются в ходу. Это особенно справедливо в отношении комбинации абстрактного теоретизирования и позитивистского собирания данных при отсутствии аналитической увязки обоих.
Работа Скотта может научить определенным альтернативам критических исследований общества. В частности, она (также) преподает урок значимости аналитической и концептуальной работы на уровне, связывающем полевые данные и сравнительный анализ с теоретизированием «среднего уровня». Что касается самой темы последней книги Скотта, она высвечивает и объясняет органическую слабость государственной политики и реформ, смещенных в сторону высокого модернизма и часто ослепленных тем, что автор назвал «государственным видением». Его рассуждения по поводу возможных способов их «лечения», которые заложены в древнегреческой идее ме́тиса, могут также оказаться весьма полезными. Это особенно справедливо, как только мы переходим от расплывчатости жаргона политиков и журналистов к повседневной жизни простых людей и к осмыслению тех результатов, которые были так точно схвачены оговоркой, ставшей поговоркой в жизни современной России,о том, что «хотели как лучше, но получилось как всегда».
Теодор Шанин,
ректор Московской высшей школы
социальных и экономических наук,
профессор
Благодарности
Работа над этой книгой продолжалась очень долго, просто недопустимо долго. Можно было бы сказать, что ее пришлось долго обдумывать. Сказать, конечно, можно, но это неправда. Отчасти задержка объясняется почти роковым сочетанием нездоровья и административной загруженности. В остальном же она связана с разрастанием материала и тем, что в соответствии с академической версией закона Паркинсона он все более захватывал пространство моей жизни. В конце концов надо было либо решительно прекратить эту работу, либо отнестись к ней как к делу жизни.
Широта замысла книги и время, которое потребовалось на его воплощение, объясняют длинный список интеллектуальных обязательств, накопившихся на этом пути. Их полный перечень оказался бы бесконечным и едва ли возможным, если бы не то обстоятельство, что некоторым моим консультантам едва ли хотелось, чтобы их имена упоминались в связи с тем, что у меня в итоге получилось. И хотя здесь нет их имен, я тем не менее обязан этим людям. Им не удалось изменить направление моих размышлений, но я принял их замечания и постарался усилить свою аргументацию, чтобы ответить на их возражения. Других моих интеллектуальных кредиторов, которым не удалось заведомо и заранее дезавуировать результат моей работы, я здесь назову и, хотелось бы надеяться, тем самым воздам им должное.
Теперь о некоторых моих обязательствах не перед отдельными людьми, а перед организациями. Я провел 1990/91 академический год в Берлинской Виссеншафтсколлег, испытав на себе все гостеприимство и щедрость этого научного учреждения. Искушение пожить какое-то время в Берлине всего год спустя после падения Стены оказалось непреодолимым. После шести недель физического труда в бывшем коллективном хозяйстве на Мекленбургской равнине в Восточной Германии (альтернатива, которую я сам придумал, дабы избежать сидения в течение шести недель в классах Института Гете вместе с прыщавыми подростками) я набросился на немецкий язык, Берлин, моих немецких коллег.
Формально мое исследование продвинулось тогда незначительно, но я понимаю, что именно там обнаружились многие его плодотворные направления. Хочу особенно поблагодарить Вольфа Лепениса, Райнхарда Прассера, Иоахима Неттлбека, Барбару Сандерс, Барбару Голф, Кристину Клон и Герхарда Риделя за их необыкновенную доброжелательность. Интеллектуальные и добрые товарищеские отношения связывали меня с Георгом Элвертом, моим местным покровителем, а также с Шалини Рандериа, Габором Кланицеем, Кристофом Харбсмайером, Барбарой Лан, Митчеллом Ашем, Хуаном Линцем, Йохеном Бляшке, Артуром фон Мерен, Акимом фон Оппен, Хансом Лютером, Каролой Ленц, Гердом Шпитлером, Хансом Медиком и Альфом Лудке, которые указали мне на некоторые линии исследования, оказавшиеся наиважнейшими. И, конечно, только огромные усилия и неизменное дружелюбие Хайнца Лехлейтера и Урсулы Хесс могли привести мой немецкий к сколько-нибудь терпимому уровню.
На разных этапах подготовки этой книги мне приходилось подолгу взаимодействовать с научными учреждениями, где трудится немало людей мощного и скептически направленного ума. Они не раз заставляли меня прояснять свои аргументы, и это моя большая удача. Может быть, им и не понравится то, что получилось, но я уверен, они увидят плоды своего влияния. В Высшей школе социальных наук в Марселе я особенно хочу поблагодарить моего куратора Жан-Ньера Оливье де Сардана, Тома Бьершенка и их коллег из научного семинара. Жизнь в Вье Панье и ежедневная работа в великолепной атмосфере Ла Вьелль Шарит оказались незабываемым опытом. В Центре гуманитарных исследований при Австралийском Национальном университете в Канберре я смог показать свою рукопись большой группе гуманитариев и специалистов по Азии.
Моя особая благодарность директору Центра Грэму Кларку и его заместителю Йену МакКалману, который и пригласил меня в Австралию, а также Тони Рейдуи Дэвиду Келли, организаторам конференции «Идеи свободы в Азии», ставшей поводом для моего визита. Тони и Клэр Милнер, Ранаит (мой гуру) и Метчил Гуха, Боб Гудин и Диана Гибсон, Бен Трай Керквлит и Меринда Трай, Билл Дженнер, Йен Вильсон и Джон Уокер каждый по-своему сделали мое пребывание и праздничным, и полезным.
Эта книга, безусловно, потребовала бы еще больше времени, если бы Дик Охманн и Бетси Трауб не пригласили меня провести 1994/95 академический год в качестве стипендиата Гуманитарного центра университета Уэсли. Мои тамошние коллеги и наши совместные еженедельные семинары интеллектуально очень взбадривали меня, в значительной степени благодаря способности Бетси Трауб блестяще представлять каждое сообщение. Там идеально сочетались возможности уединения и взаимодействия с коллегами, что было для меня очень полезным и позволило мне закончить первый вариант рукописи. Я чрезвычайно благодарен Пату Кэмдену и Джекки Рич за их бесконечную доброту. Проницательность Бетси Трауб и Хачика Тололяна заметно сказались на этой работе. Я благодарен также Биллу Коэну, Питеру Рутланду и Джудит Голдстейн.
В 1994—1995 гг. у меня не нашлось бы времени для продолжения этой работы, если быне удалось получить гранты Фонда Гарри Франка Гуггенхейма (Программа «Исследования, направленные на выявление причин и путей предотвращения насилия, агрессии и доминирования»), а также стипендию Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртур по программе «Мир и безопасность». Не будь их доверия к моей работе и их поддержки, которые позволили мне на время отложить всякую административную и преподавательскую работу, я и теперь еще не закончил бы это исследование.
Наконец, я хочу поблагодарить моих коллег в Нидерландах, в Амстердамской школе социальных исследований, за предоставленную мне возможность прочесть шестую ежегодную Вертхеймовскую лекцию: Яна Бремана, Брэма де Сваана, Ханса Зонефельда, Отто ван ден Мюзенберга, Антона Блока, Рода Айя, Розеанн Руттен, Йоханна Гудсблома, Яна Виллема Дуйвендака, Идо Хана, Йоханна Хелиброна, Хосе Комена, Карин Пеперкамп, Нильса Мулдера, Франца Хускена, Бена Вита, Яна Недервеена Питерса, Франца фон Бенда-Бекмана и Кебет фон Бенда-Бекман. Мне посчастливилось встретиться там с Вимом Вертхеймом, которого я всегда высоко ценил за его вклад в теорию социальной науки и изучение Юго-Восточной Азии, и воспользоваться его советами и замечаниями. От аспирантов, участников моего тамошнего семинара, я узнал не меньше, чем они от меня; Талья Поттерс и Пир Сметс любезно прочли и критически проанализировали мою главу по городскому планированию.
Есть немало исследователей, чьи работы открыли для меня новые перспективы или всесторонний анализ проблем, за изучение которых я сам не мог бы взяться. Некоторые из них не видели эту работу, с кем-то я никогда не встречался, а кое-кому, вероятно, не понравилось быто, что я написал. Рискну, однако, заявить, что я глубоко им всем обязан: Эдварду Фридману, Бену Андерсону, Майклу Адасу, Теодору Шанину, Джеймсу Фергюсону и Зигмунту Бауману.
Я не написал бы главу про высокомодернистский город, не заимствуя бессовестно понимание этих процессов из прекрасной книги Джеймса Холстона о Бразилиа. Глава про советскую коллективизацию и ее связь с индустриальным сельским хозяйством в Соединенных Штатах многим обязана работе Шейлы Фицпатрик и Деборы Фицджералд. Я благодарю Шейлу Фицпатрик за ее взыскательные замечания, лишь немногие из которых нашли должное отражение в окончательном варианте этой главы.
Разработкой концепции метиса я обязан Марселю Детьенну и Жану-Пьеру Фернану. При всех различиях в терминологии Стивен Марглин и я неведомо друг для друга шли разными путями к одной и той же цели. Благодаря Фонду Рокфеллера Марглин организовал конференцию «Экономика зеленеет» в Белладжо, в Италии, где я впервые имел возможность представить некоторые свои главные идеи, а также испытать влияние работ Марглина об «episteme» и «techne», а также о сельском хозяйстве, Проницательные замечания Стивена Гудмана, работа Фредерика Аипффела Марглинао «вариолации», работа Аруна Агравала и комментарии к ней помогли сформулировать мое понимание практического знания. Глава 8, посвященная сельскому хозяйству, носит отпечаток всего, что я узнал из работы Пола Ричардса и Яна Дауве ван дер Плюга. Как африканист я, не более, чем любитель, и глава о деревнях уджамаа в Танзании многим обязана Джоэлу Гао Хизе, который написал блестящую диссертацию по этому предмету в Йельском университете и великодушно поделился пространными материалами своего исследования. (Он сейчас заканчивает диссертацию по антропологии в Университете Калифорнии в Беркли.) Брюс Макким, Рон Аминзаде, Горан Хайден, Дэвид Сперлинг и Аллан Айзекман, прочитавшие главу о Танзании, спасли меня от некоторых грубых ошибок, хотя кое-что, конечно, осталось, несмотря на все их усилия. Прекрасный анализ Биргит Миллер роли «ремесленников и торговцев» в восточногерманской фабричной экономике перед объединением помог мне понять символические отношения между запланированным порядком и неформальной жизнью.
Лэрри Лохманн и Джеймс Фергюсон прочли черновую рукопись и сделали замечания, которые чрезвычайно прояснили мое понимание и предотвратили некоторые серьезные оплошности. Несколько других хороших друзей предложили прочесть всю рукопись или ее часть, несмотря на недопустимый объем. Я постарался не обременять тех, кто делал подобные предложения с «круглыми от страха глазами»или, как мне казалось, не вполне искренне. Те немногие, кто действительно захотел с ней познакомиться, или чей притворный интерес выглядел достаточно убедительно, сделали замечания, которые оказались важны для окончательного облика книги. Я очень многим обязан и благодарен Рону Херрингу, Рамачандра Гуха, Зигмунту Бауману, К. Шиварамакришнану, Марку Лендлеру, Аллану Айзекману и Питеру Вандергисту.
Многие коллеги делали полезные замечания или обращали мое внимание на работы, которые помогли мне в совершенствовании собственных аргументов и доказательств. Я благодарю за это Арджуна Аппадурая, Кена Алдера, Грегори Касзу, Дэниела Голдхагена, Эриха Голдхагена, Питера Пердю, Эстер Кингстон-Манн, Питера Салинса, Анну Селения, Дуга Галлона и Джейн Мансбридж. Я также благодарю Сугата Бозе, Эла Маккоя, Ричарда Ландеса, Глорию Рахеджу, Кирен Азиз Ходри, Джес Гильберт, Тончая Винихакуля, Дэна Келлихера, Дэн Литтла, Джека Клоппенберга, Тони Гулиелми, Роберта Ивенсон и Питера Салинса. Большую помощь оказали мне Адам Эшфорт, Джон Техранян, Майкл Квасс, Джесси Рибот, Эзра Сулейман, Джим Бойс, Джеф Бурде, Фред Купер, Энн Столер, Атул Коли, Орландо Фигес, Анна Цинг, Вернон Руттан, Генри Бернстейн, Майкл Ватц, Аллан Пред, Витун Пермпонгсахароен, Ген Аммарелл и Дэвид Фини.
В последние пять лет Программа аграрных исследований в Йеле была для меня полем широкого междисциплинарного образования в сельской жизни и главным источником интеллектуального сотрудничества. Я получил от этой Программы гораздо больше, чем смогу когда-либо вернуть. Фактически каждая страница этой книги так или иначе связана с программой. Я воздержусь от перечисления почти пятидесяти стипендиатов-докторантов, пробывших с нами по году, но все они в большей или меньшей степени способствовали этому предприятию. Мы пригласили их присоединиться к нам, потому что были восхищены их работами, и никто из них нас не разочаровал. Руководитель Программы аграрных исследований Марвел Кей Мансфилд был душой и сердцем этого и всех остальных начинаний, с которыми я был связан в Йеле. Это не первый случай, когда я с удовольствием говорю о своей благодарности ей; со временем эта благодарность только растет. Следует также отметить, что Программа аграрных исследований не была бы столь услешной без активности К. Шиварамакришнана, Рика Рейнганса, Донна Перри, Брюса Макким, Нины Бат и Линды Ли.
Мои интеллектуальные долги коллегам по Йелю не перечислить. Те, кого я учил — Билл Келли, Элен Сиу, Боб Хармс, Анжелик Хаугеруд, Нэнси Пелусо, Джон Варго, Кэти Кохен и Ли Ванделу, на самом деле учили меня. Среди других коллег из Йеля, оставивших свой след на полях этой рукописи, Йен Шапиро, Джон Мерриман, Хэл Конклин, Пол Ландау, Энрике Мейер, Димитри Гутас, Кэрол Роуз, Бен Кирнан, Джо Эррингтон, Чарльз Брайант и Арвид Нельсон (зарубежный стипендиат, заканчивающий диссертацию по лесоводству в Восточной Германии, послужившую исключительным источником информации об истории научного лесоводства в Германии). Аспиранты моего семинара по анархизму и совместного семинара по сравнительному исследованию аграрных обществ прочли несколько черновых глав рукописи и вынудили меня заново продумать ряд вопросов.
Настоящим благословением для меня оказались мои ассистенты, которым удалось превратить поначалу беспорядочные поиски в серьезное исследование. Без их воображения и труда я немного узнал бы о появлении постоянных фамилий, о размещении новых деревень и языковом планировании.
Здесь я имею возможность поблагодарить Кейт Стэнтон, Кассандру Мозли, Мередита Уайса, Джона Техраняна и Аллана Карлсона за их превосходную работу. Кассандру Мозли я должен не только поблагодарить, но и извиниться перед ней, потому что вся ее прекрасная работа по проекту «Управление ресурсами долины Теннесси» закончилась главой, которую я с большой неохотой, но убрал, чтобы удержать книгу в разумных границах. Я уверен, что эта глава еще найдет себе место.
Издательство Йельского университета не раз было благосклонно ко мне. Я хочу особо поблагодарить Джона Ридена, Джуди Метро, моего редактора Чарльза Гренча и лучшего редактора рукописей, с которым я когда-либо работал, Бренду Колб.
Несколько вариантов главы 1, каждый с какими-то материалами из более поздних глав, уже опубликованы: «State Simplifications: Nature, Space, and People», Occasional Paper №l, Department of History, University of Saskatchewan, Canada, November 1994; «State Simplifications», Journal of Political Philosophy 4, №2 (1995): 1-42; «State Simplifications: Nature, Space, and People», in Ian Shapiro and Russell Hardin, eds., Political Order, vol. 38 of Nomos (New York: New York University Press, 1996): 42-85; «Freedom Contra Freehold: State Simplification, Space, and People in Southeast Asia», in David Kelly and Anthony Reid, eds., Freedom in Asia (в печати); «State Simplifications: Some Applications to Southeast Asia», Sixth Annual W.F. Wertheim Lecture, Centre for Asian Studies, Amsterdam, June 1995; «State Simplifications and Practical Knowledge», in Stephen Marglin and Stephen Gudeman, eds. People’s Economy, People’s Ecology (в печати).
Мне бы хотелось оставить привычку писать книги, по крайней мере на некоторое время. Если бы это можно было лечить, как злоупотребление алкоголем или никотином, думаю, я записался бы на лечение. Эта привычка уже стоила мне гораздо больше драгоценного времени, чем хотелось бы. Однако с писанием книг, как и с другими вредными привычками, дело обстоит так, что решимость бросить это занятие сначала велика, а когда признаки болезни отступают, все возвращается на круги своя. Я знаю, что Луиза и наши дети, Миа, Аарон и Ной, были бы только счастливы связать меня словом, пока я «чист». Я стараюсь. Господь ведает, что я стараюсь.
Введение
Эта книга выросла из интеллектуального отступления, которое стало таким захватывающим, что я решил вообще отказаться от моего первоначального маршрута. Совершив, казалось, необдуманный поворот, я увидел удивительный новый пейзаж и почувствовал, что направляюсь именно туда, куда надо, — это убедило меня изменить планы. Новый маршрут, я полагаю, имеет свою собственную логику. Он мог бы оказаться еще более изящным, если бы я додумался до этого с самого начала. Совершенно ясно, однако, что обходной путь, пусть и по более ухабистым и окольным дорогам, чем я рассчитывал, привел к более существенному результату. Читатель, разумеется, мог бы найти более опытного проводника, но маршрут этот так далек от протоптанных троп, что, если вы отправляетесь именно туда, вам придется согласиться на того следопыта, которого удалось найти.
Несколько слов относительно пути, по которому я не пошел. Сначала я собирался выяснить, почему государство всегда оказывалось врагом, грубо говоря, «бродяг». В контексте Юго-Восточной Азии это обещало плодотворные возможности объяснения извечно напряженных отношений между кочевыми народами гор, использующими подсечно-огневую систему земледелия, с одной стороны, и производителями риса-сырца, жителями долин, с другой. Вопрос, однако, вышел за рамки региональной географии. Кочевники и скотоводы (вроде берберов и бедуинов), охотники-собиратели, цыгане, бродяги, бездомные, странники, беглые рабы и крепостные всегда были занозой в теле государств. Государственные проекты по переходу этих кочевых народов к устойчивой оседлости, превращались в постоянно действующие, в частности, потому, что их редко удавалось реализовать.
Чем больше проектов по закреплению оседлости я исследовал, тем больше видел в них попытку государства сделать общество более понятным, организовать население так, чтобы упростить государству исполнение его классических функций — сбора налогов, обеспечение воинской повинности и предотвращение волнений. Начав двигаться’в этих понятиях, я увидел в «прозрачности» общества для взгляда государства центральную проблему государственного управления. В эпоху премодерна государство было во многих важных отношениях слепым: оно совсем мало знало о своих подданных — об их благосостоянии, землях и урожаях, местонахождении, да даже и о том, кто они вообще такие. Государство нуждалось в чем-нибудь вроде детальной «карты» своих земель и людей. А главное, недоставало меры — метрики, которая позволила бы ему «переводить» то, что оно знало, в некий общий стандарт, необходимый для обозрения. Поэтому вмешательства государства в жизнь подданных были часто непродуманными и губительными.
Тут-то и началось отступление от первоначально выбранного пути. Каким образом государство постепенно приобрело власть над своими подданными и средой их обитания? Внезапно такие разные процессы, как создание постоянных фамилий; стандартизация мер и весов, учреждение земельного кадастра и перепись населения, изобретение права собственности на землю, стандартизация языка и правовых норм, проектирование городов и организация транспорта, становились понятными как стремление к простоте и ясности. В каждом случае чиновники имели дело с исключительно сложными и невнятными местными социальными практиками — с обычаями землевладения или способами наименования — и создавали стандартную схему, посредством которой можно было бы централизованно регистрировать и прослеживать их действие.
Организация природного мира не составила исключения.В конце концов, сельское хозяйство есть радикальная реорганизация и упрощение флоры ради достижения целей человека. Каковы бы ни были другие цели проектов научного лесоводства и сельского хозяйства, проектов размещения и устройства плантаций, колхозов, деревень уджамаа и стратегических поселений, все они казались направленными на то, чтобы сделать территорию, производство и рабочую силу более доступной обзору, а следовательно, и управлению сверху и из центра.
Здесь может оказаться полезной аналогия с пчеловодством. Во времена премодерна сбор меда был трудным делом. Собирание меда обычно было связано с выселением пчел, и даже если их размещали в соломенных ульях, часто пчелиная семья при этом гибла. Устройство помещений для расплода и ячеек меда было сложным, менялось от улья к улью, что не учитывалось во время извлечения меда. Современный улей решает эти проблемы пчеловода. С помощью так называемой «маточной разделительной решетки» помещения для расплода отделяются от запасов меда, не позволяя матке откладывать больше определенного количества яиц. Кроме того, восковые ячейки аккуратно расположены в вертикальных рамках, по девять-десять в коробке, что позволяет легко извлекать мед, воск и прополис. Выемка стала возможной благодаря соблюдению «пчелиного пространства» — точно рассчитанного зазора между рамками, который пчелы оставляют свободным для прохода, не соединяя рамки между собой сотами. С точки зрения пчеловода, современный улей, упорядоченный и «доступный наблюдению», позволяет следить за состоянием семьи и матки, судить о ее продуктивности (по весу), изменять размер улья на стандартные единицы, перемещать его на новое место, а, главное, не извлекать чрезмерное количество меда (в умеренном климате), чтобы обеспечить успешную зимовку пчелиной семьи.
Не хотелось бы распространять эту аналогию дальше, чем следует, но многое из эпохи раннего модерна в европейском искусстве управления государством кажется мне очень похожим: рационализация и стандартизация, перевод сложного и причудливого социального иероглифа в наглядный и административно более удобный формат. Введенные таким образом социальные упрощения не только позволяли более точно наладить сбор налогов и исполнение воинской повинности, но и вообще значительно расширили возможности государства. Они сделали возможными вмешательства государства в жизнь граждан с самыми разными целями, такими, как санитарные мероприятия, политический надзор или помощь бедным.
Эти государственные упрощения, основная данность в управлении государством с начала Нового времени, были, как я начал понимать, довольно похожи на упрощенные планы местности. Они представляли не истинную деятельность общества, которое изображали (не для этого были предназначены), а только тот срез ее, который интересовал официального наблюдателя. И это были не просто карты: соединенные с государственной властью, они позволяли многое переделать в той действительности, которую изображали. Так, государственный земельный кадастр, созданный для определения подлежащих налогообложению земельных собственников, не просто описывает систему землевладения, а создает такую систему благодаря способности придавать своим категориям силу закона. В гл. 1 я пытаюсь показать, насколько всеобъемлюще общество и окружающая среда были переделаны наглядными государственными картами.
Этот взгляд на управление государством эпохи раннего модерна не особенно оригинален, но, соответственно измененный, он позволяет рассмотреть множество примеров колоссальных неудач в развитии беднейших стран третьего мира и Восточной Европы.
Неудача — слишком легковесное слово для бедствий, которые я имею в виду. «Большой скачок» в Китае, коллективизация в России и принудительное собирание людей в деревни в Танзании, Мозамбике и Эфиопии занимают свое место среди великих человеческих трагедий XX в. по числу утраченных и непоправимо разрушенных жизней. На менее драматичном, но гораздо более привычном уровне история развития третьего мира погребена под завалами грандиозных сельскохозяйственных и градостроительных проектов (таких, как Бразилиа или Чандигарх), в которых пострадавшей стороной оказались их жители.
Не так уж трудно,увы, понять, почему так много человеческих жизней было разрушено столкновениями между этническими группами, религиозными сектами или языковыми общинами. Труднее уяснить, почему так много хорошо задуманных систем улучшения условий человеческого существования развивалось столь трагически неудачно. На последующих страницах я намерен дать убедительный логический анализ причин, лежащих в основе краха некоторых великих утопических социальных проектов XX в.
Я собираюсь доказать, что наиболее трагические примеры социальных проектов государства осуществляются в губительном сочетании четырех элементов, необходимых для полноты развертывания бедствия. Первый из них — административное рвение, стремящееся привести в порядок природу и общество, — описанные государственные упрощения. Сами по себе они лишь ничем не примечательные инструменты современного управления государством, столь же необходимые для обслуживания нашего благосостояния и свободы, как и для проектов потенциального современного диктатора. Они поддерживают концепцию гражданства и условия социального благосостояния, но могли бы поддерживать и политику заключения нежелательных меньшинств в концлагеря.
Второй элемент — это то, что я называю идеологией высокого модернизма. Это наиболее мощная, можно даже сказать, чрезмерно мускулистая версия веры в научно-технический прогресс, расширение производства, возрастающее удовлетворение человеческих потребностей, господство над природой (включая и человеческую) и, главное, в рациональность проекта социального порядка, выведенного из научного понимания естественных законов. Конечно, она сложилась на Западе как побочный продукт беспрецедентного прогресса науки и промышленности.
Высокий модернизм не нужно путать с научной практикой. Это существенно, поскольку термин «идеология» подразумевает веру, которая занимает место учета закономерностей науки и техники, как это и было в действительности. В результате вера была некритической, нескептической и, соответственно, ненаучно оптимистической относительно возможностей всеохватного планирования человеческого расселения и производства. Носители идеологии высокого модернизма были склонны видеть рациональный порядок в наглядных визуальных эстетических терминах. Для них эффективный, рационально организованный город, деревня или ферма был поселением, которое выглядело упорядоченным в геометрическом смысле. Носители идеологии высокого модернизма, планы которых терпели неудачу или им мешали, отступали в направлении того, что я называю миниатюризацией: к созданию легче управляемого микропорядка в образцовых городах, образцовых деревнях и образцовых фермах.
Высокий модернизм относился к «интересам» так же, как к вере. Его носители (даже если они — капиталистические предприниматели) совершали требуемые государством действия, чтобы реализовать его планы. В большинстве случаев это были крупные должностные лица и главы государств. Они отдавали предпочтение некоторым формам планирования и социальной организации (огромные дамбы, централизованная связь и транспорт, большие фабрики и фермы, города, выстроенные по упорядоченной схеме), потому что эти формы были удобны для них как носителей идеологии высокого модернизма, а также отвечали их политическим интересам как государственных чиновников. Имелось, мягко говоря, избирательное сродство между высоким модернизмом и интересами многих официальных лиц.
Подобно любой идеологии, высокий модернизм имел специфический временной и социальный контексты. Подвиги национальной экономической мобилизации воюющих сторон (особенно Германии) в мировой войне, мне кажется, иллюстрируют его высочайшие достижения. Это и неудивительно: наиболее плодородная социальная почва высокого модернизма и должна состоять из проектировщиков, инженеров, архитекторов, ученых и техников, чьи навыки и положение используются для проектирования нового порядка. Вера в высокий модернизм не требовала никакого пересмотра традиционных политических границ; его представителей можно было найти в политическом секторе от левого крыла до правого, но особенно часто они попадались среди тех, кто хотел использовать государственную власть, чтобы вызвать огромные утопические изменения в народных привычках — привычках работы, образе жизни, моральном поведении и взгляде на мир. Само по себе это утопическое видение не было опасным — там, где оно одушевляло планы дальнейшей жизни в либеральных парламентских обществах, где планировщики должны были договариваться с организованными гражданами, оно могло подталкивать реформы.
Только когда к этим первым двум элементам присоединяется третий, сочетание становится смертельно опасным. Третий элемент — это авторитарное государство, которое желает и способно использовать всю свою власть, чтобы воплотить в жизнь упомянутые высокомодернистские проекты. Наиболее подходяшее время для этого — войны, революции, депрессии и борьба за национальное освобождение. В таких ситуациях чрезвычайные обстоятельства способствуют узурпации чрезвычайных полномочий и часто делегитимизируют предыдущий режим. Для этих периодов характерно, что к власти приходят такие элиты, которые отрекаются от прошлого и предлагают людям революционные проекты.
Четвертый элемент, тесно связанный с третьим, — обессиленное гражданское общество, неспособное сопротивляться этим планам. Война, революция и экономический крах резко ослабляют гражданское общество и повышают восприимчивость народных масс к идее передела собственности. Позднее колониальное правление с его социально-техническими стремлениями и способностью управлять популярной оппозицией с помощью грубой силы иногда оказывалось способным выполнить это последнее условие.
Подытоживая, скажем: просматриваемость общественной конструкции создает условия для крупномасштабной социальной перестройки, идеология высокого модернизма заставляет желать ее, авторитарное государство обеспечивает готовность действовать в соответствии с этим желанием, а выведенное из строя гражданское общество позволяет выровнять социальный ландшафт, чтобы на нем строить все заново.
Я еще не объяснил, почему высокомодернистский план, поддержанный авторитарной властью, на практике терпел неудачу. Объяснение неудачи — моя вторая цель.
Разработанный и спланированный социальный порядок схематичен — он всегда игнорирует существенные черты любой реальности, любого функционирующего социального порядка. Этот факт легче всего проиллюстрировать забастовкой того типа, которая называется «соблюдать правила»: она основана на том, что любой процесс производства зависит от неформальных методов и импровизаций, которые никогда не смогут быть кодифицированы. Просто скрупулезно придерживаясь правил, рабочие могут фактически остановить производство. Точно так же упрощенные правила воплощения планов, скажем, города, деревни или колхоза не годились в качестве набора инструкций для создания функционирующего социального порядка. Формальная схема паразитировала на неформальных процессах, создавать или поддерживать которые она сама не могла. Подавление этих неформальных процессов означало провал: терпели неудачу те, для счастья которых был задуман этот проект, а в конечном счете и сами проектировщики тоже.
Многое в этой книге можно счесть направленным против империализма того высокого модерниста, который запланировал определенный социальный порядок. Я подчеркиваю здесь слово «империализм», потому что не выступаю против всякого бюрократического планирования или вообще против идеологии высокого модернизма. Я выступаю против имперского или гегемонического менталитета планирования, который исключает необходимую роль местного знания и умения.
Везде в книге я подчеркиваю роль практического знания, неформальных процессов и импровизаций в живом непредсказуемом развитии. В главах 4 и 5 я противопоставляю высокомодернистские взгляды и методы, с одной стороны, городских проектировщиков и революционеров, а с другой — их критиков, подчеркивая сложность и неоконченность любых процессов. Типичными представителями высокого модернизма выбраны Ле Корбюзье и Ленин, а Джейн Джекобс и Роза Люксембург представляют их убедительных критиков. Главы 6 и 7, содержащие анализ советской коллективизации и танзанийской принудительной виллажизации, показывают, что схематичное авторитарное решение о производстве и социальном порядке неизбежно терпит неудачу, когда оно игнорирует ценное знание, воплощенное в местных методах. (В ранней версии анализировался еще проект «Управление ресурсами долины Теннесси» — высокомодернистский эксперимент Соединенных Штатов, дедушка всех региональных проектов развития. Я вынужден был изъять этот материал, чтобы сократить эту все еще слишком длинную книгу.)
Наконец, в главе 9 я пытаюсь осмыслить природу практического знания и противопоставить его более формальному дедуктивному, эпистемическому знанию. Слово метис, восходящее к классической Греции и обозначающее знание, которое можно получить только из практического опыта, служит для пояснения того, что я имею в виду.
Здесь я должен также подтвердить свой долг авторам-анархистам (Кропоткин, Бакунин, Малатеста, Прудон), которые последовательно подчеркивали роль взаимности социального действия в создании социального порядка в противоположность обязательной иерархической координации. Их понимание термина «взаимность» покрывает некоторые, но не все смысловые оттенки, которые я хочу охватить понятием «метис».
Похоже, что радикально упрощенные проекты социальной организации подвержены риску неудачи не меньше, чем проекты радикального упрощения окружающей среды. Неэффективность и уязвимость монокультурных коммерческих лесов и генетически программируемой, механической монокультурности аналогичны неудачам коллективных хозяйств и спланированных городов. В связи с этим я здесь отстаиваю жизнеспособность социального и природного разнообразия и подробно показываю принципиальную ограниченность нашего знания о функционировании сложных систем. Эту аргументацию, вероятно, вполне можно было бы обратить и против упрощения социальной науки. Но я уже и так ухватил больше, чем смогу одолеть, так что этот путь вместе с моим благословением оставлю другим.
Я понимаю, что, пытаясь создать иную парадигму рассмотрения подобных вопросов, рискую проявить гордыню, в которой — и справедливо — обвиняют высоких модернистов. Изготовив линзы, изменяющие глубину твоего видения проблемы, испытываешь большое искушение посмотреть через те же самые очки и на все остальное. Однако два возможных обвинения хочу все же решительно отвести и полагаю, что внимательное чтение книги мне в этом поможет. Первое — обвинение в том, что я некритически восхищаюсь всем местным, традиционным и общепринятым. Я понимаю, что описываемое здесь практическое знание часто трудно отделить от практик доминирования, монополизации и отчуждения, задевающих чувства современных либералов. Я вовсе не утверждаю,что практическое знание есть продукт некоего мифического эгалитарного состояния природы. Я лишь полагаю, что формальные схемы порядка не работают без некоторых элементов практического знания, от которых они как раз и пытаются избавиться. Второе обвинение состоит в том, что вся моя аргументация — это анархистский протест против государства как такового. Как будет далее показано, государство — институт неоднозначный, лежащий в основе как наших свобод, так и наших несвобод. Я утверждаю, что некоторые типы государства, руководствующиеся утопическими планами и авторитарно игнорирующие ценности, желания и протесты своих граждан, представляют смертельную угрозу человеческому благосостоянию. За пределами таких страшных, но уже ставших вполне обычными ситуаций нам остается лишь каждый раз тщательно взвешивать, насколько полезно в данном случае вмешательство государства и чего оно будет стоить.
Уже закончив книгу, я понял, что изложенная в ней критика определенных форм государственного правления с позиций восторжествовавшего после 1989 г. капитализма может показаться некой причудливой археологией. Государства с претензиями и властью, которые я критикую, либо вовсе исчезли, либо резко сократили свои амбиции. И все же, как будет показано на материале научно обоснованного фермерства, индустриального земледелия и капиталистических рынков вообще, крупномасштабный капитализм — точно такое же средство гомогенизации, усреднения, схематизации и решительного упрощения, как и государство, с той разницей, однако, что для капиталиста упрощения обязаны окупаться. Рынок с необходимостью сводит качество к количеству через механизм ценообразования и способствует стандартизации; на рынке говорят деньги, а не люди. Сегодня глобальный капитализм — возможно, наиболее мощная сила гомогенизации, даже если государство в некоторых случаях выступает в защиту местных особенностей и разнообразия. (В книге «В кильватере Просвещения» Джон Грей выдвигает аналогичные обвинения в адрес либерализма, ограниченность которого он видит в том, что либерализм основывается на культурном и институциональном капитале, который сам же стремится подорвать.) Вызванная широкомасштабными забастовками задержка структурных изменений во Франции, необходимых для принятия единой европейской валюты, — лишь соломинка в стоге сена. Проще говоря, мои претензии к государству определенного вида вовсе не означают, что я ратую за политически неангажированное рыночное регулирование, как это делают Фридрих Хайек и Милтон Фридман. Мы увидим, что выводы, которые можно сделать из неудач модернистских проектов социальной инженерии, применимы к стандартизации, диктуемой рынком, в той же мере, что и к бюрократической гомогенизации.
Часть 1. Государственные проекты: прояснения и упрощения
1. Природа и пространство
Разве не великое удовлетворение для короля — знать в любой момент каждого года число его подданных, общее и по областям, со всем достатком, богатством и бедностью каждого места; [число] его дворян и священнослужителей всех видов, монахов, католиков и тех, кто придерживается другой религии, размещенных по месту их жительства?... [Разве это не] полезное и необходимое удовольствие для него — быть способным в собственной канцелярии рассматривать во всякое время настоящее и прошлое состояние огромного царства, которое он возглавляет, и быть способным самому знать достоверно, в чем состоит его великолепие, его богатство и сила?
Маркиз Вобан при предложении Людовику XIV ежегодной переписи в 1686 году
Некоторые формы знания и способы управления требуют сужения поля зрения. Преимущество такого прицельного взгляда состоит в том, что в фокусе рассмотрения оказываются немногие конкретные аспекты действительности, которая при ином подходе выглядит гораздо более сложной и неуправляемой. В результате такого упрощения рассматриваемое явление видится более ясно и, следовательно, поддается измерениями расчетам. Объединив данные многих подобных операций, можно достичь более целостного и общего представления о выбранном явлении действительности, тем самым обеспечив более высокий уровень упорядоченности знания, контроля и управления.
Изобретение научного лесоводства в конце XVIII в. в Пруссии и Саксонии может служить своего рода эталоном этого процесса[10]. Хотя история научного лесоводства интересна и сама по себе, здесь она используется как метафора форм знания и манипулятивной деятельности, характерных для властных структур с четко выраженными интересами, наиболее яркими примерами которых являются государственная бюрократия и большие коммерческие фирмы. Рассмотрев как упрощение стремление к понятности и манипуляция действуют в управлении лесами, мы сможем увидеть, как современное государство применяет аналогичный подход к городскому планированию, расселению крестьян, управлению землями и организации сельского хозяйства.
Государственное и научное лесоводство: притча
Я [Гильгамеш] победил бы в кедровом лесу....я подниму руку и буду рубить Кедр.
Эпос о Гильгамеше
Еще до развития научного лесоводства европейское государство раннего модерна видело в своих лесах прежде всего источник доходов. Разумеется, не были лишены государственного внимания и другие аспекты лесопользования, такие как заготовка древесины для судостроения, строительства, топлива и др. Эти заботы имели самое серьезное значение и для государственной казны, и для безопасности[11]. Однако можно без преувеличения сказать, что в целом интерес короны к лесам сводился к одному — ежегодному извлечению доходов из производства древесины.
Чтобы оценить серьезность такого ограничения подхода, посмотрим, что при этом упускается. За суммами полученных доходов скрываются не только леса, превращенные в коммерческую древесину, т. е. погонные футы строительной древесины и корды дров, проданных по определенной цене. Эти суммы, конечно, не учитывают деревьев, кустарников и других растений, малоперспективных для государственного дохода. Не учитываются и те потенциально доходные части деревьев, ценность которых не имела прямого денежного выражения, но была несомненной для населения, т. е. листва и ее использование в качестве фуража; плоды как пища для людей и домашних животных; ветви и прутья, используемые в качестве подстилок, ограждений, кольев и хвороста; кора и корни для изготовления лекарств и дубления; сок для изготовления смолы и т. д. Не только каждый вид деревьев, но и каждая часть дерева или стадия его роста имели свои уникальные свойства и возможности применения. Отрывок из статьи «Вяз» в популярной энциклопедии местной флоры и фауны XVII в. показывает, какой обширный диапазон практического использования имело это дерево.
Древесина вяза обладает уникальными свойствами, позволяющими использовать ее как в очень сухом, так и в очень влажном климате; она прекрасно подходит для строительства водопроводов, водяных мельниц, изготовления черпаков и колесных осей, насосов, акведуков, корабельных досок, лежащих ниже ватерлинии... а также для ремонта колес; изготовления ножовочных рукояток, оград и ворот. Вяз устойчив на раскол... из него делают колоды для рубки мяса, болванки для шляп, сундуки и короба с последующей обтяжкой кожей, гробы, комоды, длинные столы для игры в шаффлборд; резчики по дереву используют его для изготовления декоративных плодов, листьев, щитов, статуй и других элементов орнаментов, украшающих архитектурные сооружения... И, наконец,... не следует пренебрегать и листьями этого дерева, особенно женской его особи... зимой, да и засушливым летом, когда сено и солома дороги, они сослужат великую службу скоту... Измельченный зеленый лист вязов залечивает свежие раны и порезы, а заваренный вместе с корой сращивает сломанные кости[12].
Однако в государственном «финансовом лесоводстве» реальное дерево с обширным числом возможных применений подменяется абстрактным, представляющим лишь объем полученной древесины или дров. Если королевская концепция леса и была утилитарной, то ее утилитаризм ограничивался прямыми нуждами государства.
На взгляд натуралиста, при таком подходе из истинной картины леса выпадало почти все, т. е. значительная часть не только флоры — травы, цветы, лишайники, папоротники, мхи, кусты и вьющиеся растения, но и фауны — пресмыкающиеся, земноводные, птицы и неисчислимые виды насекомых. Оставались лишь те виды животных, которые интересовали егерей короны.
С точки зрения антрополога, такая ограниченность государственного взгляда почти полностью исключала взаимодействие человека с лесом. Государство, конечно, не спускало браконьерства, наносившего ущерб доходам от производства древесины и мешавшего королевской охоте, но в остальном игнорировало как обширное, сложное и согласованное общественное использование леса для охоты и сбора плодов, выпаса скота и заготовки кормов, рыболовства, производства древесного угля, изготовления конской упряжи,заготовки продовольствия и ценных минералов, так и его важнейшую роль в традициях, мифах, ритуалах и обычаях народа[13].
Надо признать, что в своем утилитарном — абстрактном и парциальном — взгляде на лес, при котором за (коммерческими) деревьями реального, существующего леса уже не видно, государство отнюдь не было одиноко. Действительно, некоторый уровень абстракции необходим при любом методе анализа, поэтому неудивительно, что абстракции государственных чиновников отражают первоочередные финансовые интересы их нанимателя. Статья «лес» в энциклопедии Дидро почти полностью посвящена общественной пользе лесоматериалов, налогам, доходам и прибыли, которую они могут принести. Лес как среда обитания исчезает, его заменяет лес как экономический ресурс, которым нужно управлять эффективно и с пользой[14]. Здесь финансовая и коммерческая логики совпадают; и та, и другая решительно устанавливаются на минимальной отметке.
Терминология, применяемая в попытках упорядочения природы, неизменно выдает истинные намерения авторов этих попыток. Действительно, заменив слово «природа» термином «природные ресурсы», утилитарист фокусирует внимание лишь на тех аспектах окружающего мира, которые можно приспособить и использовать для нужд человека. Следуя этой логике, из целостного мира природы выделяют определенные виды флоры и фауны, имеющие утилитарную ценность (т. е. пользующиеся спросом на рынке), что служит основанием для пересмотра классификации других видов, конкурирующих с первыми, питающихся ими или иным образом уменьшающих «сборы» утилитарно ценных видов. Так используемые человеком растения становятся «урожайными культурами», сопутствующие им и конкурирующие с ними растения — «сорняками», а питающиеся ими насекомые — «вредителями». Так ценимые человеком деревья становятся «древесиной», а конкурирующие с ними виды — «бросовым» лесом или «подлеском». То же и с фауной: высокоценимые человеком животные становятся «дичью» или «домашним скотом», а конкурирующие с ними или питающиеся ими — «хищниками» и «вредителями».
Как видим, сам тип абстрактной, утилитарной логики, применяемой государством в лице его чиновников к лесу, не уникален, однако примечателен не только особой узостью взглядов и возможностями последовательной и тщательной разработки, но и в особенности тем, что позволял государству навязать эту логику самой действительности[15].
Научное лесоводство, примененное впервые примерно в 1765—1800 гг. главным образом в Пруссии и Саксонии, постепенно стало основой управления лесами во Франции, Англии, Соединенных Штатах и странах третьего мира. Его появление невозможно понять вне контекста централизованных инициатив того времени, направленных на укрепление государства. Возникшая лесная наука фактически была разделом так называемой камералистики, пытавшейся построить управление финансовыми делами короны на научных принципах, допускающих систематическое планирование[16]. При традиционном поместном лесоводстве лес просто делили на примерно одинаковые участки, число которых совпадало с числом лет в цикле созревания древесины[17]. Ежегодно вырубали по одному участку — считалось, что одинаковые по площади участки дают одинаковые объемы древесины (и доходов). Из-за плохих карт, неравномерного распределения наиболее ценных для заготовки крупных деревьев (Hochwald) и очень приблизительного значения корда (Bruststaerke) результаты не удовлетворяли нуждам финансового планирования.
К концу XVIII в., когда финансовые чиновники обнаружили все возрастающую нехватку древесины, встал вопрос о необходимости более осторожной эксплуатации поместных лесов. Многие старые леса — дубовые, буковые, грабовые, липовые — были истощены плановыми и браконьерскими вырубками, а восстановление лесов шло гораздо медленнее, чем хотелось бы. Неизбежное в ближайшем будущем сокращение заготовок древесины вызывало тревогу не только потому, что угрожало доходам, но и потому, что могло вызвать массовое браконьерство со стороны крестьян, вынужденных таким способом добывать себе дрова. Беспокойство государства проявилось, в частности, в многочисленных конкурсах на лучший проект устройства более эффективных лесных питомников.
Первую попытку точного обмера леса предпринял Йоханн Готлиб Бекман. По тщательно отобранному типовому участку шли в ряд несколько его ассистентов, у каждого была специальная коробка с разноцветными гвоздями, разложенными по пяти отделениям. Ассистенты были обучены различать деревья пяти типовых размеров, каждый из которых кодировался своим цветом. Следовало отметить соответствующими гвоздями все деревья на участке. К, началу обмера у каждого ассистента было определенное число гвоздей каждого цвета, поэтому для завершения инвентаризации деревьев по типам для всего участка достаточно было вычесть число оставшихся гвоздей из их начального общего количества. Участок для обмера отбирали очень тщательно, его представительность для данного леса должна была позволить лесникам рассчитать не только запас древесины, но и потенциальный доход с учетом некоторых ценовых предположений от ее заготовок по всему лесу. Задача ученых-лесоводов (Forstwissenschaftler) состояла в обеспечении «регулярных поставок максимально возможного и постоянного объема древесины»[18].
Точность расчетов значительно возросла, когда для определения объема продажной древесины в стандартном дереве (Normalbaum) данного вида и размера математики стали пользоваться формулой объема конуса. Их вычисления проверялись опытным путем по фактическому объему древесины в эталонных деревьях[19]. Результатом этих усилий стали сложные таблицы с данными о размерах и возрасте деревьев при определенных условиях нормального роста и созревания. Как ни парадоксально, но резко сузив свое видение леса до представления о коммерческой древесине, государственный лесничий с помощью этих таблиц достигал целостного представления о лесе[20]. Отраженное в этих таблицах ограничение поля зрения фактически оказывалось единственным способом охватить лес одним взглядом. Использование этих таблиц в сочетании с наблюдениями на месте позволяло леснику довольно точно оценивать состав, рост и объемы заготовок в данном лесу. В упорядоченном, абстрактном лесу ученого-лесовода правили расчет, измерение и, говоря современным языком, три руководящих принципа: минимум разнообразия, строгий баланс и стабильность заготовок. Логика управляемой государством лесной науки оказывалась практически идентичной логике коммерческой эксплуатации[21].
Достижения немецкого лесоводства в стандартизации методов расчета стабильных заготовок коммерческой древесины, а следовательно, и доходов были довольно внушительны. Для нас, однако, более важным является их следующий и вполне логичный шаг в управлении лесами — попытка путем продуманных посевов, посадок и вырубок создать лес, обеспечивавший государственным лесничим удобство и простоту подсчета, обмера, оценки и управления. При поддержке государственной власти лесоводство и геометрия оказались способны преобразовать реальный, разнообразный, хаотически растущий, старый лес в новый, более однородный и лучше соответствующий административным схемам управления лесами. С этой целью расчищали подлесок, уменьшали число видов деревьев (часто до одной культуры) и производили посадки — одновременно на больших участках и прямыми рядами. Такие методы лесоводства, как отмечает Генри Лоувуд, «дали монокультурный, одновозрастный лес, в конечном счете превративший Normalbaum из абстракции в реальность. Немецкий лес стал эталоном навязывания беспорядочной природе тщательно выстроенной научной конструкции. Практические цели поощряли математический утилитаризм, для которого внешним признаком хорошо управляемого леса было его геометрическое совершенство; в свою очередь рациональное и упорядоченное размещение деревьев открывало новые возможности управления природой»[22].
Налицо было стремление к армейскому порядку — в полном смысле этих слов. В лесу деревья должны были стоять параллельными, однородными рядами, удобными для обмера, подсчета, вырубки и заменены на новые ряды, составленные из таких же «призывников». Как и армия, лес управлялся иерархически — сверху, он предназначался для выполнения одной-единственной задачи и находился в распоряжении единственного командующего. В пределе даже не нужно было смотреть на этот лес; он должен был точно «вычитываться» из таблиц и карт в конторе лесничего.
Управлять этим новым, «построенным по ранжиру» лесом стало гораздо удобнее. Растущие строгими рядами деревья одного возраста позволяли легче убирать подлесок, валить и вывозить лес, новый способ посадки повышал технологичность всех этих процессов. Установленный в лесу порядок позволял широко использовать письменные инструкции для работников. В новой лесной среде поставленные производственные задачи могла вполне успешно выполнять необученная и неопытная бригада неквалифицированных рабочих, добросовестно следующих небольшому числу стандартных правил. Заготовка бревен одинаковой толщины и длины не только позволяла успешно предсказывать воспроизводство леса, но и продавать однородный продукт заготовителям и торговцам древесиной[23]. В такой ситуации коммерческая логика и бюрократическая оказались синонимами; эта система обещала максимизировать производство и доставку на большие расстояния единственного товара и в то же время предоставляла возможность централизованного управления.

отчасти естественной регенерации

С новым лесом было также легче экспериментировать. Теперь, когда сложный естественный лес сменил тот, в котором многие переменные стали постоянными, было гораздо проще исследовать влияние таких переменных, как внесение удобрения, поливки и прореживание посадок одного возраста с единственной разновидностью. Появилась самая лучшая лесная лаборатория, какую только можно было себе представить в то время[24]. Сама простота леса сделала это возможным — впервые можно было оценивать новые режимы управления лесом в прямо-таки экспериментальных условиях.
Хотя геометрически правильный однородный лес был предназначен для облегчения управления и вывоза, он быстро стал также и эстетически значимым. Визуальным признаком хорошо управляемого леса в Германии и в других местах, где возобладало немецкое научное лесоводство, служила регулярность и аккуратность его внешнего вида. Лес можно было инспектировать почти как войска на параде, и горе лесникам, участки которых не были прибраны как положено. Порядок требовал, чтобы подлеска не было и чтобы упавшие деревья и ветви были собраны и вывезены. Беспорядок, вызванный пожаром или вторжением местного населения, считался угрозой управленческой рутине. Чем более однородным был лес, тем большие возможности он предоставлял для централизованного управления; можно было положиться на рутинные процедуры, а потребность в наблюдении, необходимая для управлении разнообразными старорастущими лесами, была сведена к минимуму.
Контролируемая среда заново спроектированного научного леса обещала многие важные преимущества[25]. Она могла обзорно просматриваться главным лесничим; она могла легче контролироваться и была более доступна для лесозаготовок согласно централизованным планам дальнего действия; она обеспечивала устойчивый, однородный товар, устранив таким образом один из главных источников колебания дохода; она создавала наглядный естественный ландшафт, который облегчал управление и экспериментирование.
Эта утопическая мечта научного лесоводства была, конечно, только имманентной логикой его методов. Она не была и не могла быть когда-либо реализована на практике. Вмешивались и природа, и человеческий фактор. Существующая топография пейзажа, капризы природы — пожары, штормы, прекращения роста, климатические изменения, популяции насекомых и болезни — будто нарочно расстраивали планы лесников и формировали реальный лес. Кроме того, пользуясь невозможностью должной охраны больших лесных массивов, люди, живущие поблизости, продолжали использовать лес для того, чтобы пасти своих домашних животных, воровским образом заготавливать дрова и хворост, делать древесный уголь и извлекать пользу из леса другими способами, мешающими реализации управленческих планов лесников![26]. Хотя, как и любая утопия, эта схема была всем хороша, разве что не достигала цели, но все-таки существенно было то, что она частично преуспела в штамповке реального леса по своему образцу.
На протяжении XIX в. принципы научного лесоводства применялись на практике во всех немецких лесах, где это было возможно. Норвежская ель, известная своей выносливостью, быстрым ростом и ценной древесиной, стала для коммерческого лесоводства хлебом насущным. Первоначально на нее обратили внимание как на средство восстановления смешанных лесов, сверх естественного воспроизводства, но коммерческая прибыль от первой ротации оказалась настолько ошеломляющей, что вернуться к смешанным лесам было уже трудно. Монокультурный лес стал бедствием для крестьян, которые лишились пастбищ, продовольствия, сырья и лекарств — все это давал прежде существовавший естественный лес. Разнообразные естественные леса, около трех четвертей которых составляли лиственные (роняющие листву) разновидности, заменили хвойными, в которых норвежская ель или шотландская сосна доминировали, а часто были и единственными видами.
В краткосрочной перспективе этот эксперимент по радикальному упрощению леса, превращению его в машину для производства единственного товара имел полный успех. Краткосрочность эта была довольно длительной, в том смысле, что на воспроизводство деревьев требовалось до 80 лет. Производительность новых лесов полностью изменяла тенденцию во внутренней поставке древесины: посадки делались более однородными и давали больше годной к употреблению древесины, увеличивались поступления от земли, занятой лесопосадками, и заметно сокращалось время ротации (время, по прошествии которого можно было заготавливать древесину с посадок и сажать другие)[27]. Подобно рядам зерновых культур в поле, новые леса мягкой древесины были потрясающими производителями единственного товара. И ничего удивительного не было в том, что немецкая модель интенсивного коммерческого лесоводства стала стандартом для всего мира[28]. Джиффорд Пинчот, второй главный лесник Соединенных Штатов, обучался во французской школе лесоводства в Нанси, которая следовала немецкому стилю, как и большинство школ лесоводства США и Европы[29]. Первым лесником, которого британцы пригласили управлять большими лесными ресурсами Индии и Бирмы,стал немец Дитрих Брандес[30]. К концу XIX в. немецкое лесоводство играло руководящую роль.
Резкое упрощение леса, превращение его в машину для производства единственного товара было тем самым шагом, позволившим немецкому лесоводству стать строгой технической и коммерческой дисциплиной, которую можно было кодифицировать и преподавать. Условие ее строгости состояло в том, что она выносила за скобки или предполагала постоянными все переменные, кроме тех, которые имели непосредственное отношение к воспроизводству отобранной разновидности и к стоимости ее роста и вывоза. Как мы увидим на примере городского планирования, теории революции, коллективизации и сельского расселения, мир, «вынесенный за скобки», часто возвращался, как призрак, навестить эту техническую мечту.
В немецком случае отрицательные биологические, а в конечном счете, и коммерческие последствия «построенного рядами» леса стали глубоко очевидными только после того, как произошла вторая ротация хвойных. «Для них [отрицательных последствий] требуется приблизительно сто лет, чтобы обнаружиться вполне. Многие чистые посадки, в первом поколении показавшие превосходные результаты, во втором поколении сильно регрессировали. Причина этого очень сложна, можно дать только упрощенное объяснение... Затем нарушался и в конечном счете почти прекратился весь цикл питания... Так или иначе утрата одного-двух образцовых участков [используемых для аттестации качества древесины] на протяжении двух-трех поколений жизни чисто еловых посадок — известный и часто наблюдаемый факт. Это составляет от 20 до 30% производственных потерь»[31].
Для описания наихудших случаев в немецком словаре появился новый термин — смерть леса (Waldsterben). Был нарушен исключительно сложный процесс, включающий строение почвы, питание и симбиоз грибов, насекомых, млекопитающих и флоры (некоторые из них и сейчас еще не полностью поняты), что имело весьма серьезные последствия. И все эти последствия имеют, по большому счету, одну причину — радикальную простоту научного леса.
Только тщательное экологическое исследование сможет установить, что именно пошло не так, но упоминание некоторых главных результатов упрощения проиллюстрирует, как влияли многие важные факторы, проигнорированные научным лесоводством. Пристрастие немецкого лесоводства к формальному порядку и легкости доступа к управлению и вывозу леса влекло за собой уничтожение подлеска, бурелома и сухостоя (вертикально стоящих мертвых деревьев), чрезвычайно сокращая разнообразие насекомых, млекопитающих и птиц, чья жизнедеятельность столь необходима для процессов формирования почвы[32]. Отсутствие лесной подстилки и древесной биомассы на новом уровне леса выявлено теперь как главный фактор, ведущий к истонченной и менее питательной почве[33]. Леса одного возраста и разновидности не только уменьшают разнообразие среды обитания, но и более уязвимы для массивного штормового лесоповала. Сама однородность вида и его возраста среди, скажем, норвежской ели способна обеспечить благоприятную среду обитания для соответствующих вредителей, популяции которых могут вырасти до эпидемических размеров, приводя к большой затрате удобрений, инсектицидов, фунгицидов и родентицидов[34]. Очевидно, первая ротация норвежской ели выросла так хорошо в значительной степени благодаря питательным веществам, долго накапливавшимся в почве прежнего естественного леса. Как только это плодородие было исчерпано, началось резкое снижение роста.
Пионеры в научном лесоводстве, немцы стали и пионерами в признании и попытке устранить многие его нежелательные последствия. С этой целью они изобрели науку, которую назвали «гигиена леса». Вместо дуплистых деревьев, которые служили домом дятлам, совам и другим гнездящимся в дуплах птицам, лесники предоставили им специально разработанные коробки. Были искусственно выращены и внедрены в лес муравейники, за которыми ухаживали местные школьники. Были вновь выведены несколько разновидностей пауков, которые исчезли в результате внедрения монокультурного леса?[35]. Что поразительно в этих усилиях — то, что они являются попытками обогатить обедневшую среду обитания, все еще обуславливаемой единственной разновидностью хвойных для производственных целей[36]. В этом случае «восстановительное лесоводство» пыталось, с переменным успехом, создавать некую виртуальную экологию, по-прежнему отрицая ее главное условие — разнообразие.
Метафорическая ценность этого краткого очерка о научно-производственном лесоводстве состоит в том, что он иллюстрирует опасность расчленения действительности на отдельно взятый комплекс и плохо понятый набор отношений и процессов, чтобы выделить тот элемент, который нас сейчас интересует. Инструментом — ножом, который вырезал новый, элементарный лес, — был острый, как бритва, интерес к производству единственного товара. Все, что препятствовало эффективному производству ключевого товара, неумолимо устранялось. Все, что казалось не связанным с эффективным производством, игнорировалось. Видя лес как товар, научное лесоводство снова начинает творить из него машину для производства этого товара[37]. Утилитаристское упрощение леса было эффективным путем максимизации производства древесины на короткий и недолгий срок. Однако в конечном счете его сосредоточенность на прибыли от продажи древесины и производства бумаги, его узкий временной горизонт и прежде всего широкий спектр последствий, которые он решительно проигнорировал, обернулись постоянно преследующими его проблемами?[38].
Даже в области, к которой проявлялся самый большой интерес, — в производстве древесного волокна — рано или поздно обнаруживались последствия недостаточного наблюдения за лесом. Многое можно проследить вплоть до самого основного упрощения, сделанного в интересах легкости управления и экономической целесообразности, — упрощения монокультурности. Монокультурные леса, как правило, более хрупки, более подвержены болезням и чувствительны к колебаниям погоды, чем поликультурные леса. Вот как выражает это Ричард Плочманн: «Недостаток, присущий всем чистым плантациям, состоит в том, что экология естественных ассоциаций растения становится неуравновешенной. Вне естественной среды обитания физическое состояние отдельного дерева, выращиваемого в чистых посадках, ухудшается, ослабляется его сопротивляемость»[39]. Любые леса, которыми никто не управляет, страдают от штормов, болезней, засухи, плохой почвы или мороза. Однако разнообразный, полный птиц, насекомых и млекопитающих, сложный лес, в котором растут многие разновидности деревьев, более пластичен, более способен противостоять повреждениям и поправляться после них, чем чистые посадки. Его разнообразие и сложность помогают устоять против опустошения: буря обрушит старые деревья одной разновидности, но другая устоит; прекращение роста или нападение насекомых, которое угрожает, скажем, дубам, могут оставить липы и вязы невредимыми. Можно провести такую аналогию. Купец, который, не зная, с чем встретятся его суда в море, отправляет в путь множество судов разной конструкции, разного веса, парусности и навигационного оснащения, имеет хорошие шансы, что какая-то часть его флота все же доберется до порта назначения, в то время как торговец, сделавший ставку на единственный тип и размер судна, рискует потерять все. Биологическое разнообразие леса действует подобно страховому полису, подобно предприятию, руководимому вторым торговцем, а упрощенный лес — более уязвимая система, особенно на долгом пути, поскольку тогда становится явным его влияние на почву, воду и популяции «вредителей». Такие опасности только частично можно устранить с помощью искусственных удобрений, инсектицидов и фунгицидов. При уязвимости упрощенного производственного леса и массивном внешнем вмешательстве, которое потребовалось, чтобы его создать (такой лес можно назвать административным), необходимы все большие усилия, чтобы поддерживать его в должном состоянии[40].
Социальные факты — сырые и обработанные
Чтобы общество могло стать объектом количественных измерений, прежде его нужно переделать. Нужно определить категории людей и вещей, сделать взаимозаменяемыми меры; земля и товары должны быть представлены денежным эквивалентом. Есть в этом многое из того, что Вебер называл рационализацией, а также много централизации.
Теодор М. Портер. Объективность как стандартизация
Лес администраторов — это не лес натуралистов. Экологические взаимодействия, складывающиеся в лесу, столь сложны и разнообразны, что не поддаются короткому описанию. Государство, заинтересованное в коммерческой древесине и получении дохода, стремится уменьшить сложность объекта, свести ее к малому числу измерений.
Как природный мир (хотя он и приведен человеком в некоторый порядок) в своем «сыром», первозданном виде не годится для административной манипуляции, так и существующие социальные образцы человеческого взаимодействия с природой в сыром виде трудно перевариваются бюрократией. Административная система способна представлять существующее социальное сообщество лишь чрезвычайно схематично и упрощенно, а потому вряд ли адекватно. Дело не только в возможности, хотя, как и лес, человеческое сообщество слишком сложно и разнообразно, чтобы его тайны легко было превратить в бюрократические формулы. Это связано с целью. Представители государства никак не заинтересованы, да и не должны быть заинтересованы в целостном описании социальной действительности, так же, как и ученый-лесовод не заинтересован в подробном описании экологии леса. Их абстракции и упрощения направлены на небольшое число целей, из которых в XIX в. наиболее заметными были налогообложение, политический контроль и воинская повинность. Представители государства нуждались только в таких методах упрощения действительности, которые соответствовали бы этим целям. Как мы увидим, имеются некоторые поучительные параллели в развитии современного «финансового лесоводства» и современных форм собственности на землю, облагаемых налогом. Государства премодерна были не менее заинтересованы в налоговых поступлениях, чем современные. Но, как и в случае с лесоводством, методы налогообложения и сбора налогов оставляли желать лучшего.
Хорошим примером является абсолютистская Франция XVII в.[41] Косвенные налоги — акцизы на соль и табак, пошлины, продажа лицензий, торговля чинами и титулами — были излюбленными формами налогообложения; ими было легко управлять, они требовали немного (или вовсе не требовали) информации о владении землей и доходе от нее. Освобождение от налогов дворянства и духовенства подразумевало, что большая часть земельной собственности вообще не облагалась налогами, бремя которых перекладывалось на состоятельных горожан, фермеров и крестьян. Общинная земля, хотя и была жизненно важным ресурсом для сельской бедноты, тоже не приносила никаких доходов. В XVII в. физиократы осудили бы всю общинную собственность по двум основаниям: она неэффективно эксплуатировалась и в финансовом отношении была бесполезна[42].
Любому исследователю абсолютистского налогообложения бросается в глаза, сколь безумно изменчиво и несистематично оно было. Джеймс Коллинс обнаружил, что главный прямой земельный налог, taille, часто нe платился вообще, никакое сообщество не отдавало больше трети того, что с него причиталось[43]. В результате государство обычно полагалось на исключительные меры, чтобы восполнить нехватки дохода или оплатить новые расходы, особенно на военные кампании. Корона взыскивала «принудительные ссуды» в виде ренты и платы за отчуждение прав (rentes, droits alienes) в обмен на обязательства, которые она могла выполнить, а могла и не выполнять; она продавала должности и титулы (venalites d’offices); она облагала налогами печи (fouages extraordinaires); и, что самое скверное, определяла войска на постой непосредственно в населенных пунктах, тем самым часто разрушая целые города[44].
Постой войск как обычный способ финансового наказания соотносится с современными формами систематического налогообложения, как арест и четвертование потенциальных врагов короля (так поразительно описанные Мишелем Фуко в начале книги «Надзирать и карать») — с современными формами систематической изоляции преступников. В общем-то, не из чего было выбирать. Государство испытывало недостаток в информации и в административных схемах, которые позволили бы ему получать от своих подданных надежный доход, близкий к их фактической способности платить. Как с доходом, получаемым от леса, здесь не было никакой альтернативы грубым прикидкам и, соответственно, колебаниям в воспроизводстве. В финансовом отношении государство премодерна было, если воспользоваться удачной фразой Чарльза Линдблома, «рукой, у которой все пальцы — большие», оно было неспособно к тонкой настройке.
Грубая аналогия между управлением лесом и налогообложением в конце концов перестает работать. В отсутствии надежной информации о восстановимом уровне воспроизводства древесины государство могло неосторожно перейти предел естественного восстановления и поставить под угрозу будущие поставки, или, иначе, могло оказаться не в состоянии реализовать уровень дохода, который лес мог бы выдержать[45]. Деревья, конечно, не были способны к политическому действию, а налогооблагаемые подданные короны очень даже были. Они сообщали о своей неудовлетворенности налогообложением различными формами тихого сопротивления и уклонения, а в чрезвычайном случае — прямым восстанием. Иначе говоря, надежный способ налогообложения подданных зависел не только от выяснения их экономических условий, но и от решения вопроса о том, каким требованиям они будут энергично противодействовать.
Каким же образом представители государства начали измерять и кодифицировать население каждой области королевства, их земли, урожаи, их имущество, объем торговли и так далее? Препятствия на пути даже самого элементарного выяснения этих вопросов были огромны. Борьба за установление единых мер и весов и за составление кадастров может служить показательным примером. Каждое такое действие требовало большой, дорогостоящей, долгосрочной кампании ввиду явного сопротивления. Сопротивлялось не только население, но и местные власти; они часто пользовались преимуществами административной неразберихи из-за различия интересов и миссий отдельных звеньев бюрократического аппарата. Но несмотря на приливы и отливы различных кампаний, несмотря на их различные национальные особенности, в конечном счете единые меры были приняты и кадастры созданы.
Каждая такая ситуация иллюстрировала отношения между местным знанием и методами, с одной стороны, и государственными административными приемами — с другой, к этому мы еще будем возвращаться. В каждом случае местные методы измерения и землевладения в их сыром виде были непонятны государству. Они отличались разнообразием и запутанностью, отражавшими множество чисто местных, не государственных интересов. А это означало, что их нельзя было вписать в административную схему, не сведя к удобному, пусть даже при этом частично вымышленному описанию. Как и в научном лесоводстве, логика такого описания задавалась неотложными материальными интересами правителей: финансовыми поступлениями, численностью армии и государственной безопасностью. Это описание, как и нормальное дерево Бекманна, было чем-то большим, чем просто описание, хотя и было неадекватно. Поддержанные всей полнотой государственной власти: отчетностью, судами и, наконец, принуждением, эти псевдоописания начинали подменять якобы отображаемую ими действительность, которая никогда полностью не соответствовала навязанным ей схемам.
Фальсификация измерений: народные и государственные единицы
Негосударственные способы измерения вырастали из местной практики. Они имели некоторые родовые черты сходства несмотря на их изумительное разнообразие — черты, благодаря которым они препятствовали административному единообразию. Обобщающая работа медиевиста Витольда Кула позволяет довольно кратко описать местные методы измерения[46].
Наиболее ранние единицы измерения были связаны с человеческой деятельностью. Соответствующая логика легко просматривается в таких выражениях, как «бросок камня» или «в пределах слышимости» для расстояний и «воз», «корзинка» или «горстка» для объема. Учитывая, что размер телеги или корзины мог изменяться от места к месту, что бросок камня не мог быть одинаков у разных людей, эти единицы измерения различаются в зависимости от места и времени. Даже зафиксированные единицы могли вводить в заблуждение. Например, в XVIII в. в Париже пинта была равна 0,93 л., в Сен-ан-Монтань — 1,99 л., а в Преси-су-Тил, что совершенно поразительно, — 3,33 л. Он (aune) — мера длины, используемая для ткани, — различалась в зависимости от материала (для шелка, например, она была меньше, чем для полотна), и в разных местах Франции насчитывалось по меньшей мере 17 различных онов[47].
Местные меры были также относительны или «соразмерны»[48]. Фактически любой вопрос об измерительном суждении допускает множество ответов в зависимости от контекста. В наиболее знакомой мне части Малайзии вероятным ответом на вопрос «Как далеко до следующей деревни?» будет: «Три раза сварить рис». Ответ предполагает, что спрашивающий интересуется тем, сколько времени потребуется, чтобы добраться туда, а не расстоянием, на котором расположена деревня. И, конечно, когда характер местности различен, расстояние в милях — крайне ненадежный указатель для оценки необходимого времени, особенно когда путешественник идет пешком или едет на велосипеде. Ответ, кроме того, выражает время не в минутах (до недавнего времени наручные часы были редки), а в единицах, принятых в данной местности. Каждый знает, сколько времени требуется, чтобы приготовить местный рис. Таким образом, эфиопский ответ на вопрос о том, сколько соли требуется для определенного блюда, мог бы быть: «Половина того, что нужно для приготовления цыпленка». Ответ адресуется к стандарту, который, как ожидается, известен каждому. Такие методы измерения сугубо местные, поскольку региональные различия, скажем, в типе риса или способе приготовления цыпленка дадут другие результаты.
Многие местные единицы измерения связаны со специфическими действиями. Крестьяне марати, как отмечает Арджун Аппадурай, выражают нужное расстояние между посадками лука шириной ладони: именно ее удобно использовать в качестве шаблона, перемещаясь по полевому ряду. Подобным же образом, обычная мера для бечевки или веревки — расстояние между большим пальцем и локтем, потому что это соответствует процессу накручивания веревки на руку. Как и с посадкой лука, процедура измерения вложена непосредственно в деятельность и не требует отдельного действия. Кроме того, такие измерения весьма приблизительны; они точны настолько, насколько точна сама задача спрашивающего[49]. Дождь может быть, скажем, проливным или недостаточно долгим, если контекст вопроса подразумевает заинтересованность в получении урожая. И ответ о количестве осадков в сантиметрах хотя и точный, не в состоянии передать желательную информацию, так как не учитывает длительности дождя. Для многих целей, очевидно, неопределенность измерения может сообщать более ценную информацию, чем статистически точное число. Земледелец, который отвечает, что он снял с участка где-то между четырьмя и семью корзинами риса передает более точную информацию об изменчивости урожая, чем если бы он сообщил о десятилетнем статистическом среднем числе корзин, равном 5,6.
Таким образом, нет единственного, универсального правильного ответа на вопрос о результатах измерения, если мы не учитываем соответствующих местных обстоятельств, которые его вызвали. Таким образом, определенный способ измерения ситуативен, связан с моментом времени и местом.
Нигде так не очевидны особенности общепринятого способа измерения, как в случае с возделанной землей. Современные абстрактные меры, позволяющие измерить землю в единицах площади, гектарах или акрах, особенно неинформативны, если речь идет о жизни семьи, которая должна обеспечить себя урожаем с этих гектаров или акров. Сообщение фермера, что он арендует 20 акров земли, столь же информативно, как и сообщение ученого, что он купил 6 кг книг. Поэтому используемые единицы измерения земли соответствуют тем аспектам работы на ней, которые имеют самый большой практический интерес. Там, где земля была в избытке, а рабочих рук или тягловой силы не хватало, наиболее разумным способом измерения земли было число дней, требуемых для ее вспашки и прополки. Например, участок земли во Франции XIX в. описывался числом morgen или journals (дней работы), причем вид работы конкретизировался (homee, bechee, fauchee). Число morgen, представленное полем, скажем, в 10 акров, могло сильно различаться: обработка каменистой неровной почвы могла потребовать вдвое больше времени, чем богатой поймы. Morgen также зависел от местной рабочей силы и посеянных культур; на работу, которую человек мог бы выполнить за день, влияла и технология (наконечники плуга, хомуты, упряжь).
Землю можно еще оценивать по количеству требуемых для ее засева семян. В богатую почву семена сажали плотнее, чем в бедную. Количество семян, посеянных на данном поле, довольно точно определяло ожидаемый средний урожай, поскольку сев производился в расчете на средние условия роста, фактически же урожай в данном сезоне как-то отличался от среднего. При данных условиях количество посеянных семян служило грубым указателем на производительность поля и мало что могло сказать о трудности обработки земли или изменчивости урожая.
Но средний урожай с участка земли — довольно абстрактное число. Большинство фермеров, живущих на самом краю прожиточного минимума, прежде всего хочет знать, надежно ли обеспечит ферма их основные потребности. Так, маленькие фермы в Ирландии описываются как «ферма одной коровы» или «ферма двух коров», чтобы указать на их способность прокормить тех, кто жил в значительной степени молочными продуктами и картофелем. Физическое пространство, которое занимала данная ферма, было второстепенным вопросом в сравнении с тем, сможет ли она прокормить данное семейство[50].
Чтобы охватить потрясающее разнообразие принятых способов измерения земли, нужно вообразить — буквально — множество «карт», построенных в различных координатах, которые сильно отличаются от площади. Я имею в виду, в частности, карты с забавным эффектом, в которых, скажем, масштаб страны выбран пропорциональным ее населению,а не площади. На этих картах Китай и Индия выглядят устрашающе огромными, больше России, Бразилии и Соединенных Штатов, а Ливия, Австралия и Гренландия практически исчезают. Карты таких типов (их можно придумать очень много) будут описывать землю соответственно в единицах работы и урожая, типа почвы, доступности и способности обеспечить пропитание, и ни одна из них не будет соответствовать площади. Решительно все измерения — местные, заинтересованные, контекстные и исторически определенные. Бывает, потребности пропитания одной семьи не соответствуют потребностям пропитания другой. Из-за таких факторов, как виды на урожай, рабочая сила, сельскохозяйственная технология и погода, стандарты оценки изменяются от места к месту и через какое-то время. Такое множество карт создаст безнадежно запутанную картину местных стандартов, которые невозможно выстроить в единый статистический ряд, позволяющий государственным чиновникам делать сколько-нибудь значащие сравнения.
Политика измерений
Впечатление, что местные способы измерения расстояния, площади, объема и т. п., хотя и различались между собой и отличались от унитарных абстрактных стандартов больше, чем государство могло бы одобрить, стремились к объективной точности, было бы ложным. Каждое измерение было актом, отмеченным игрой властных отношений. Как показывает Кула, чтобы понять методы измерения в Европе раннего модерна, нужно связать их с борьбой интересов главных сословий: аристократов, духовенства, торговцев, ремесленников и крестьян.
Политика измерения в основном отталкивалась от того, что современный экономист мог бы назвать «негибкостью» феодальных рент. Аристократы и духовенство часто считали трудным делом увеличивать феодальные подати непосредственно; установление размеров различных податей был результатом длительной борьбы, и даже небольшое увеличение какой-нибудь подати сверх общепринятого уровня рассматривалось как угроза традиции[51]. Изменение же единицы измерения предоставляло окольный путь достижения той же самой цели. Местный помещик мог бы, например, давать зерно крестьянам в меньших корзинах, а настаивать на выплате в больших. Он мог бы тайно или даже явно увеличивать размер мешков зерна, принятых для обмолота (монополия помещика) и уменьшать размер мешков, используемых для отмера муки; он мог бы собирать феодальную подать в больших корзинах, а платить заработную плату в меньших. Таким образом, формально традиция, регламентирующая феодальную подать и заработную плату, осталась бы нетронутой (например, требование одного и того же числа мешков пшеницы от данного урожая), а фактически увеличился бы доход помещика[52]. Результаты такой манипуляции были далеки от тривиальных. Кула установил, что между 1674 и 1716 гг. размер бушеля (boisseau), используемого для сбора главной феодальной ренты (taille), увеличился на треть — так начиналось то, что позднее было названо феодальной реакцией (reaction feodale)[53].
Даже когда единица измерения — тот же бушель — была, очевидно, согласована со всеми, игра только начиналась. Фактически всюду в Европе раннего модерна применялись микрополитические приемы, направленные на то, как с выгодой для себя применять корзины разной степени износа, разной наполненности, различных способов плетения, различающихся влажностью и толщиной, и т. д. В некоторых областях местные стандарты бушеля и других единиц измерения сохранялись в металлической форме и были вверены попечению доверенного должностного лица или в буквальном смысле были вырезаны в камне в церкви или в зале ратуши[54]. И этим дело еще не кончалось. Как следовало засыпать зерно (с высоты плеча, что его несколько утрамбовывало, или от пояса), какой влажности оно может быть, можно ли встряхивать емкость с зерном и, наконец, можно ли и как выравнивать поверхность зерна, когда емкость наполнена, — все это было предметом долгих и ожесточенных споров. Одни договоренности требовали, чтобы зерно насыпалось с «горкой», другие — с «полугоркой», третьи — чтобы поверхность зерна выравнивалась гребком (ras). Все это были нетривиальные вопросы: настаивая на получении пшеницы и ржи в бушелях с горкой, феодал мог увеличить арендную плату на 25%[55]. Если, по обычаю, бушель зерна должен быть выровнен гребком, то дальнейшая микрополитика вращалась вокруг гребка. Должен ли он быть круглым и трамбовать зерно, поскольку его катят против гребня, или заостренным? Кто должен ровнять зерно? Кому можно доверить хранение гребка?
Как можно было ожидать, в центре такой микрополитики была единица измерения земли. Обычная мера длины, элл (ell), использовалась, чтобы отметить область, которую нужно было пахать или пропалывать в качестве исполнения трудовой повинности. Скажем еще раз, длину и ширину, измеренные в эллах, было трудно изменить, поскольку они были установлены в результате долгой борьбы. Это соблазняло помещика или надсмотрщика попробовать поднять подати косвенно, увеличив длину элла. Если попытка оказывалась успешной, формальные правила исполнения работниками трудовой повинности не были нарушены, но объем выполненной работы увеличивался. Возможно, самой трудной из всех единиц измерения, бывших в употреблении до XIX в., была стоимость хлеба. Поскольку хлеб был важным товаром эпохи премодерна, его цена служила своего рода индексом «стоимости жизни», она была предметом глубоко укоренившегося сравнения с типичной городской заработной платой. Кула рассказывает, что пекари, боясь спровоцировать бунт непосредственным нарушением «самой цены», ухитрялись, однако, манипулировать размером и весом хлеба, чтобы до некоторой степени компенсировать изменения в цене ржаной и пшеничной муки[56].
Искусство управления государством и измерения
Местные стандарты измерения, привязанные к практическим потребностям, отражающие специфические образцы культур и сельскохозяйственную технологию, меняющуюся с климатом и экологией, служащие «признаком власти и инструментом утверждения привилегии класса» и находящиеся «в центре ожесточенной классовой борьбы», представляли проблему для управления государством[57]. Усилия по упрощению или стандартизации единиц измерения проходят как лейтмотив через всю французскую историю — их новое появление есть безусловный признак предыдущей неудачи. Более скромные попытки просто кодифицировать местные методы и создать таблицы преобразования давали быстро устаревавшие результаты, которые, в свою очередь, должны были заменяться. Министры короля столкнулись с клубком местных измерительных кодов, каждый из которых требовал расшифровки. Каждый район как будто говорил на собственном диалекте, непостижимом для посторонних и при этом меняющемся без предупреждения. И государство либо рисковало большими и потенциально разрушительными просчетами из-за плохого знания местных условий, либо было вынуждено полагаться на советы местных проводников — знать и духовенство, которым доверяла корона и которые, в свою очередь, пользовались преимуществами своего положения.
Непонятность местных методов измерения была для монархии больше чем административной головной болью. Она ставила под угрозу наиболее важные и чувствительные аспекты государственной безопасности. Снабжение продовольствием было ахиллесовой пятой государства раннего модерна; за исключением религиозной войны, ничто так не угрожало целостности государства, как нехватка продовольствия, заканчивающаяся социальными переворотами. Без сопоставимых единиц измерения было трудно и даже невозможно контролировать рынки, сравнивать региональные цены на основные предметы потребления и эффективно регулировать поставки продовольствия[58]. Поскольку государственные структуры было вынуждены искать свой путь на основе отрывочной информации, слухов и своекорыстных сообщений с мест, их решения часто были запоздалыми и несоответственными. Справедливость налогообложения, другая чувствительная политическая проблема, не могла быть достигнута государством, потому что оно едва знало основные элементы сравнения урожаев и цен. Поэтому из-за не всегда достоверных сведений чересчур энергичные меры государства, направленные на собирание налогов, реквизицию для военных гарнизонов, уменьшение городских недостач или какие-то другие, могли вызвать политический кризис. Но даже если эти меры и не подрывали государственную безопасность, смешение противоречивых и разнородных способов измерений порождало громадные несоответствия и финансовые цели не достигались[59]. Никакой эффективный центральный контроль или сравнение цен были невозможны без стандартных, установленных единиц измерения.
Упрощение и стандартизация измерений
Сильные мира сего, будь то народы или отдельные сильные личности, хотят, чтобы их империя обладала единым пространством, которое величественное око властелина могло бы обозревать без каких-либо препятствий, неприятных ему или ограничивающих его взгляд. Одинаковый свод законов, одинаковые мерки, единообразные правила и, если бы этого можно было постепенно достичь, единый язык, вот это все и провозглашается совершенной социальной организацией... Великий лозунг дня — единообразие.
Бенжамен Констап. l’esprit conquete
Если проект ученых-лесоводов по созданию упрощенного и упорядоченного леса сталкивался с противоборством местных жителей, чьи потребительские права были ущемлены, то политическая оппозиция стандартным и четким единицам измерения оказалась гораздо сильнее. Право устанавливать местные единицы измерений было важной феодальной прерогативой с вытекающими отсюда материальными последствиями, от которых аристократия и духовенство не могли отказаться. Доказательства их способности сорвать стандартизацию видны из многочисленных примеров неудавшихся инициатив абсолютистских правителей, пробовавших установить некоторую степень единообразия. Эта особенность местного феодального правления, а также неприятие потенциальной централизации и помогали поддерживать автономию местной власти.
В конечном счете, три фактора благоприятствовали возможности того, что Кула называет «метрической революцией». Во-первых, единообразию единиц измерения способствовал рост рыночного обмена. Во-вторых, и здравый смысл, и философия Просвещения говорили в пользу единого стандарта по всей Франции. Наконец, революция и особенно наполеоновская империя фактически провели в жизнь метрическую систему во Франции.
Крупномасштабный коммерческий обмен и торговля на больших расстояниях содействовали распространению общих единиц измерения. В малых масштабах торговцы зерном могли заключать сделки с несколькими поставщиками, зная меру, которую использовал каждый из них. Они могли бы получать прибыль от своего превосходного знания разнообразных единиц измерения так же, как контрабандисты, использующие свое преимущество в знании небольших различий в налогах и тарифах. Во всяком случае, не вызывает сомнения, что многое в механизме торговли составлено из длинных цепей сделок, часто на больших расстояниях, между анонимными покупателями и продавцами. Такая торговля очень упрощалась и становилась четкой с помощью стандартных единиц измерений. Если ремесленные изделия обычно изготавливались кустарным производителем согласно пожеланиям отдельного покупателя и цена у каждого объекта была своя, то предметы массового производства и не изготавливались кем-то в отдельности и предназначались для любого покупателя вообще. В некотором смысле достоинство массового товара — его надежное единообразие. Поскольку объем торговли рос и товары, участвующие в обмене, становились все более и более стандартизированными (тонна пшеницы, дюжина наконечников плуга, двадцать колес телеги), тенденция к принятию единых мер становилась все явственнее. Чиновники, как и физиократы, были убеждены, что единые меры были предпосылкой создания национального рынка и обеспечения целесообразного действия экономического механизма[60].
Вечный государственный проект унификации единиц измерения во всем королевстве в XVIII в. получил большую поддержку благодаря reaction feodale. Чтобы в максимальной степени вернуть свои земельные угодья, владельцы феодальных имений (многие из них — выходцы из низших сословий) манипулировали единицами измерения. Смысл этих обманных действий раскрылся в коллективных жалобах с перечислением политических, религиозных и экономических претензий, подготовленных к собранию генеральных штатов как раз перед революцией. Члены третьего сословия настойчиво призывали к единой системе мер (хотя едва ли это была их главная претензия), в то время как духовенство и дворянство хранили молчание по этому вопросу, по-видимому, выказывая свое удовлетворение существующим положением. Следующее ходатайство из Бретани типично по своему обращению к унитарным мерам, служащим доказательством преданности короне: «Мы просим их [короля, его семейство и его первого министра] присоединиться к нашей проверке нарушений, совершаемых тиранами против класса граждан, которые добры и деликатны и которые до этого дня не были способны повергнуть свои главные жалобы к подножью трона, теперь же мы просим короля о правосудии, и выражаем наше искреннее желание иметь одного короля, один закон, единую систему мер и весов»[61].
Универсальный метр как главную единицу, сменившую старые, своеобразные способы измерений, можно сравнить с национальным языком, используемым вместо существующей путаницы диалектов. Причудливые идиомы заменил новый золотой стандарт, равно как центральное банковское дело абсолютизма уничтожило местные валюты феодализма. Метрическая система сразу стала средством административной централизации, торговой реформы и культурного прогресса. Академики революционной республики, как и королевские академики до них, видели в метре один из интеллектуальных рычагов, которые сделают Францию «доходно-богатой, мощной в военном отношении и легко управляемой»[62]. Предполагалось, что общепринятая система мер будет способствовать торговле зерном, сделает землю более производительной (позволив более простое сопоставление продуктивности и цены) и, кстати, заложит основу национальному налоговому кодексу[63]. Но реформаторы имели в виду еще и подлинную культурную революцию. «Как математика является языком науки, так и метрическая система будет языком торговли и промышленности», служа объединению и преобразованию французского общества[64]. Рациональная система единиц помогала бы установлению рационального гражданства.
Унификация системы мер, однако, зависела от другого революционного политического преобразования эпохи модерна: идеи единого гражданства. Пока каждое сословие имело собственные юридические права, пока различные категории людей были не равны в законе, они могли иметь неодинаковые права и в сфере измерений[65]. Идею единого гражданства, абстракцию общества без элитарности, можно проследить в трудах деятелей Просвещения, в работах энциклопедистов[66]. По их мнению, путаница в способах измерений, ведомствах, законах наследования, системах налогообложения и рыночных инструкциях активно препятствовала единению французского народа. Они представляли себе серию разумных централизующих реформ, преобразующих Францию в национальное сообщество, где будут преобладать одинаковые кодифицированные законы, единицы измерений, обычаи и верования. Следует заметить, что этот проект выдвигает концепцию национального гражданства — представьте французского гражданина, объезжающего королевство и встречающего на своем пути точно такие же ярмарки, точно те же условия, в каких живет и остальная часть его соотечественников. Вместо совокупности маленьких общин, жизнь в которых понятна местным жителям, но не посторонним, выстроилось бы единое национальное общество с четкой центральной структурой. Сторонники этой концепции хорошо понимали, что ставка делается не только на административное удобство, но и на преобразование народа: «Единообразие привычек, точек зрения и принципов действия неизбежно приведет к большему сообществу таких же привычек и склонностей»[67]. Абстрактная схема единого гражданства создала бы новую действительность — французского гражданина.
Гомогенизация единиц измерений была частью большего преобразования, уравнивающего всех граждан. Одним махом государство гарантировало равенство всех французов перед законом, они уже были не просто подданными своих помещиков и монарха, а являлись носителями неотъемлемых прав как граждане[68]. Все предыдущие «естественные» различия были теперь объявлены искусственными и аннулированы, по крайней мере, в законе[69]. В беспрецедентном революционном преобразовании, где с самых азов создавалась совершенно новая политическая система, узаконить единую систему мер и весов было совсем не таким уж большим событием. Как гласил революционный декрет: «Сбылась вековая мечта масс о правильности только одной меры! Революция дала народу метр!»[70]
Объявить метр универсальным было гораздо проще, чем обеспечить его вхождение в ежедневную практику французских граждан. Государство могло настаивать на исключительном использовании метрической системы в судах, в государственной школьной системе и в таких документах, как дела собственности, юридические контракты и налоговые законы. Вне этих официальных сфер метрическая система продвигалась очень медленно. Несмотря на декрет о конфискации палок toise из магазинов и замене их метровыми, народные массы продолжали использовать старую систему, часто маркируя метровые линейки своими старыми мерами. Даже в 1828 г. новые меры были больше le pays legal, чем le pays reel. Как заметил Шатобриан, «Всякий раз, когда вы встречаете человека, который вместо arpents, toises и pieds употребляет в речи гектары, метры и сантиметры, будьте уверены, что этот человек — префект»[71].
Землевладение: местная практика и финансовые упрощения
Доход государства раннего модерна обеспечивали в основном налоги на торговлю и на землю, главные источники пополнения бюджета. Для торговцев это означало множество акцизов, пошлин и рыночных податей, лицензионных сборов и тарифов, для землевладельцев — установление соответствия налоговой документации и собственности каждого человека или учреждения, ответственного за внесение земельного налога. В современном государстве эта процедура кажется чрезвычайно простой, но выполнить ее было очень сложно, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, установленная практика землевладения часто была настолько разнообразной и запутанной, что не поддавалась никакому точному описанию — трудно было выяснить, кто является налогоплательщиком и кому принадлежит облагаемая налогом собственность. Во-вторых, как в случае со стандартизацией единиц измерения, существовали социальные силы, чьи интересы могли быть только ущемлены единой и понятной структурой отношений собственности, желательной для финансовых органов государства. В конце концов централизованное государство добилось успехов в установлении новой и (идущей из центра) четкой системы собственности, которая, как и в научном лесоводстве, не только резко ограничила методы описанной системы, но и преобразовала их, подстроив к сокращенному схематическому использованию.
Иллюстрация
В столице — свой порядок,в деревне — свой обычай.
Яванская пословица
Гипотетический пример общинных методов землевладения позволит продемонстрировать, насколько резко такие методы отличаются от голой структурной схемы современной кадастровой карты. В этом примере смешаны методы, с которыми я столкнулся в литературе или в ходе полевых исследований в Юго-Восточной Азии, и, хотя случай предположительный, он вполне реалистичен.
Представим сообщество, в котором семейства в течение основного сельскохозяйственного сезона имеют узуфрукт на засеянную землю, каждые семь лет перераспределяемый среди семей согласно размеру каждой из них и числу здоровых взрослых в ней. Однако сеять можно только определенные культуры. После того, как урожай собран, на земле из-под зерновых любая семья может подбирать колосья, выпускать на нее домашнюю птицу, пасти скот и даже высаживать быстро вызревающие зерновые культуры в сухой сезон. Право выпускать птицу и домашний скот на пастбище, находящееся в общем содержании деревни, распространено на все местные семьи, но число животных ограничено соответственно размеру семейства, особенно в сухие годы, когда фуража недостаточно. Семьи, не использующие свое право на выпас, могут отдать его другим жителям деревни, но не посторонним. Каждый имеет право собирать необходимое количество дров для потребностей семьи, кузнецу же и пекарю даются большие паи. Никакое коммерческое использование деревенского леса не разрешается.
Посаженные деревья и выросшие на них плоды являются собственностью семьи, которая их посадила, независимо от того, где они растут. Однако плод, упавший с такого дерева, принадлежит любому, кто его поднимет. Когда семья срубает одно из деревьев или оно свалено бурей, ствол дерева принадлежит семье, ветки — соседям, а «вершки» (прутики с листьями) — любому бедному жителю деревни, который подберет их. Выделяется земля в пользование или в аренду вдовам с детьми и иждивенцам мужчин, призванных на военную службу. Права узуфрукта на землю и деревья могут быть даны любому в деревне, а в том случае, если они не востребованы никем из данного сообщества, они могут быть отданы кому-то из чужаков.
В случае неурожая, приведшего к нехватке продовольствия, многие из этих правил меняются. Ожидается, что богатые жители возьмут на себя часть ответственности за бедных родственников, помогая им на их земле, нанимая их или просто кормя. Если же дефицит продовольствия сохраняется, совет, составленный из глав семейств, может провести опись запасов продовольствия и начать ежедневно нормировать их. В случаях острой нехватки продуктов или угрозы голода женщин, вышедших замуж за жителя деревни, но еще не родивших детей, перестают кормить: предполагается, что они вернутся в свои родные деревни. Этот последний обычай напоминает нам о неравенстве, которое часто царит в локальных сообществах: одинокие женщины, молодые мужчины и вообще любой, кто выпадает из ядра сообщества, явно находятся в невыгодном положении.
Такое описание можно было сделать более подробным. Само собой разумеется, это упрощение, но оно отчасти передает фактическую сложность отношений собственности там, где преобладают местные обычаи. Кстати, было бы неправильно представлять обычаи как законы. Обычаи лучше понимать как действующие практические договорные отношения, которые непрерывно приспосабливаются к новым экологическим и социальным обстоятельствам, включая, конечно, и отношения с властью. Системы землевладения, основанные на обычаях, не стоит идеализировать, они обычно зависят от рода, статуса и происхождения. Но, так как они узкоместные, специфические и приспосабливаемые, их гибкость допускает микрорегулирование, ведущее к изменениям существующей практики.
Вообразите теперь законодателя, который хочет кодифицировать эту практику, т. е. зафиксировать систему определенных законов, в которых будет отражен этот запутанный клубок отношений собственности и землевладения. Голова пойдет кругом от этих пунктов, подпунктов и еще под-подпунктов, которые потребовались бы для сведения этой практики к набору инструкций, хотя бы понятных администратору, не то что исполнимых. И даже если эти методы могли бы быть кодифицированы, итоговый свод законов обязательно пожертвовал бы во многом их гибкостью и приспособляемостью. Обстоятельства, которые могли бы вызвать необходимость адаптации, слишком многочисленны, чтобы их предвидеть, не говоря уже об их уточнении в регулируемом своде законов. Такой документ на практике заморозил бы жизненные процессы, а изменения в нем, направленные на отражение развивающейся практики, в лучшем случае представляли бы собой только попытку судорожного и механического приспособления к меняющейся действительности.
А как насчет других поселений? Наш гипотетический умный и добросовестный законодатель нашел бы, что законы, разработанные для одного набора местных практик, не смогут работать в другом месте. Каждая деревня с ее собственной историей, экологией, привычными культурами, родственными связями и экономической деятельностью потребовала бы совсем другого набора инструкций. В конце концов потребовалось бы по меньшей мере столько же законов, сколько было бы сообществ.
С административной точки зрения, конечно, такая неразбериха местных инструкций была бы кошмаром. Не для тех, кто на практике применяет эти обычаи, а для тех государственных чиновников, которые стремятся к унифицированному, единообразному национальному административному своду законов. Подобно «экзотическим» единицам мер и весов, местная практика землевладения прекрасно подходила всем тем, кто жил на этой земле изо дня в день. Ее детали часто могут быть спорными и далекими от того, чтобы удовлетворить всех ее пользователей, но она полностью понятна тем, кто ее использует; у местных жителей нет никаких трудностей в понимании ее тонкостей и в применении ее гибких мер для своих собственных целей. С другой стороны, нельзя ожидать от государственных чиновников сначала объяснения, а затем применения нового набора непонятных законов для каждого юридического случая. Действительно, сама концепция современного государства предполагает значительно упрощенное и единообразное управление собственностью, которое вполне доступно пониманию и поэтому может направляться из центра.
Мое использование термина «простой» для описания современных законов о собственности, запутанность которых дает работу целой армии юридических профессионалов, вероятно, покажется чрезвычайно неуместным. Законы о собственности во многих отношениях становятся непроходимой чащей для обычных граждан. Так что использование слова «простой» в этом контексте относительно и зависит от точки зрения. Современное свободное землевладение — это владение, с которым посредничают через государство, и поэтому в нем хорошо разбираются только те, кто имеет достаточную подготовку и ясно понимает государственные законодательные акты[72]. Его относительная простота не видна тем, кто все равно не может в нем разобраться, подобно тому, как относительная ясность владения по обычаю не видна тем, кто живет вне данной деревни.
Финансовая или административная цель, к которой стремятся все современные государства, состоит в том, чтобы оценить, привести в систему и упростить землевладение во многом так же, как научное лесоводство перепланировало лес. Принятие же и использование большого разнообразия методов землевладения по обычаю было просто немыслимо. Историческое решение, по крайней мере для либерального государства, обычно состояло в резком упрощении индивидуального землевладения. Земля принадлежит законному владельцу, который обладает широкими полномочиями использования, наследования или продажи, и это подтверждается дающим право собственности документом единого образца, обязательного для всех юридических и правоохранных государственных учреждений. Так же как флора леса была уменьшена до Normalbaume, так и сложные механизмы земельных соглашений в практике, принятой по обычаю, были сведены к свободно передаваемому документу права собственности на землю. В аграрном регулировании административный пейзаж покрыт единой сеткой однородной земли, каждый участок которой имеет законного владельца и, следовательно, налогоплательщика. Тогда оценивать такую собственность и определять ее владельца на основе площади земли в акрах, класса почвы, культур, которые обычно сеются, и предполагаемого урожая становится много проще, чем распутывать паутину общинной собственности и смешанных форм владения.
Венчающий экспонат этой выставки могущественных упрощений — кадастровая карта. Выполненная специалистами-землемерами в заданным масштабе кадастровая карта есть более или менее полная и точная схема всех земельных владений. Так как основной целью создания карт было создание управляемого и надежного способа налогообложения, оно связывалось с регистром собственности, в котором каждый (обычно пронумерованный) участок на карте принадлежал собственнику, ответственному за уплату налогов с земли. Кадастровая карта и регистр земельной собственности были необходимы для земельного налогообложения так же, как карты и таблицы были необходимы ученым-лесоводам для разработки плана финансовой эксплуатации леса.
Почти состоявшийся сельский свод законов
Правителям послереволюционной Франции пришлось противостоять сельскому обществу, отношения в котором почти непостижимо сплетались под влиянием феодальных и революционных порядков. Было невероятно, чтобы они смогли разобраться в этих сложностях, не говоря уже об их устранении. Идеологически, например, обязательства равенства и свободы противоречили общепринятым сельским договорам, подобным тем, которые использовались в ремесленных гильдиях, все еще употреблявших слова «хозяин» (maitre) и «слуга» (serviteur). Как правители новой, уже не монархической нации, они были озабочены отсутствием общей юридической структуры социальных отношений. Для некоторых новый гражданский кодекс, распространяющийся на всех французов, казался достаточным[73]. Но для буржуазных владельцев сельской собственности, которые не меньше своих соседей-дворян были напуганы мятежами революции, Великим террором, да и вообще агрессивностью ободренного и независимого крестьянства, подробный сельский свод законов казался необходимым для гарантии их безопасности.
В конечном итоге никакой послереволюционный сельский свод законов не понравился победившей коалиции, несмотря на поток Наполеоновских кодексов, принятых почти во всех других странах. Для нас же история этой патовой ситуации чрезвычайно поучительна. Первый проект кодекса, который разрабатывался между 1803 и 1807 гг., уничтожил бы наиболее традиционные права (такие, как общие пастбищные земли и право свободного прохода через чужую собственность) и по существу изменил бы сельские отношения собственности в свете буржуазных прав собственности и свободы заключения договоров[74]. Хотя предложенный кодекс законов был переломным и даже послужил прототипом современного французского законодательства, многие революционеры выступили против него, так как боялись, что умеренный либерализм кодекса позволит крупным землевладельцам воссоздать феодализм в новом облике[75].
Затем Наполеон приказал пересмотреть документ, возложив контроль за этим на Жозефа Верне Пьюрассо. Одновременно депутат Лалуэт предложил сделать как раз то, что я считал невозможным в моем гипотетическом примере. А именно систематизировать все местные методы, классифицировать и кодифицировать их, а затем санкционировать их декретом. Этот декрет и стал бы сельским кодексом. Две трудности не позволили этой на первый взгляд удачной схеме представить народным массам сельский кодекс, который просто отражал бы существующие отношения. Первая трудность была в принятии решения, какой из аспектов буквально «бесконечного разнообразия» сельских призводственных отношений должен быть представлен и кодифицирован[76]. Даже в одной местности методы сильно различались от фермы к ферме и менялись во времени, любая кодификация была бы частичной, произвольной и искусственно статичной. Таким образом, кодификация местных методов была бы глубоко политическим актом: местная аристократия оказалась бы способна санкционировать свои предпочтения под эгидой закона, в то время как остальные потеряли бы права по обычаю, от которых они зависели. Вторая трудность состояла в том, что план Лалуэта был смертельной угрозой всей государственной централизации и экономической модернизации, для которых четкий национальный режим собственности был предварительным условием прогресса. Как отмечает Серж Абердам, «проект Лалуэта вызвал бы в точности то, чего Мерлин де Дуай и буржуазные революционные юристы всегда стремились избежать»[77]. Ни кодекс Лалуэта, ни кодекс Верне не были приняты, потому что они, подобно своему предшественнику в 1804 г., казались разработанными для усиления власти землевладельцев.
Запутанность форм общинного землевладения
Как мы уже отмечали, государства эпохи премодерна и раннего модерна при сборе налогов больше имели дело с общинами, чем с отдельными людьми. Некоторые сугубо индивидуальные налоги, вроде печально известной русской «подушной подати», собиравшейся со всех подданных, платились непосредственно общинами или косвенно через тех помещиков, которым они принадлежали. Неспособность внести необходимую сумму обычно вела к коллективному наказанию[78]. Единственными сборщиками налогов, которые регулярно доходили до каждой семьи и обрабатываемой ею земли, были местная знать и духовенство, взимавшие с жителей феодальные пошлины и церковную десятину. Государство же не имело ни административных рычагов, ни необходимой информации, чтобы добраться до этого уровня.
Ограниченность государственной информации была частично обусловлена сложностью и разнообразием местного производства. Однако это была не самая важная причина. При коллективной форме налогообложения местные чиновники были заинтересованы в искажении информации для сведения к минимуму местного налога и бремени воинской повинности. Для этого они могли уменьшать численность местного населения, систематически преуменышать площадь обрабатываемой земли в акрах, скрывать последние коммерческие доходы, преувеличивать потери урожая от бурь, засух и т. д[79]. Цели кадастровой карты и земельного регистра как раз и состояли в том, чтобы устранить эти финансовые пережитки феодализма и обеспечить денежный доход государства. Так же, как ученый-лесовод нуждался в инвентаризации деревьев, чтобы понимать коммерческий потенциал леса, так и финансовому реформатору была необходима детальная опись земельных владений для понимания максимального и реального годового дохода с урожая[80].
Государство осмелилось бросить вызов сопротивлению местной знати и элиты и попыталось составить полную кадастровую опись финансовых ресурсов (что отнимало массу времени и вообще было дорогостоящим мероприятием), но оно встретилось также и с другими сложностями. В частности, некоторые общинные формы землевладения просто не могли быть адекватно представлены в кадастровой форме. Сельские жители, например, в Дании в XVII и начале XVIII в. были организованы в общину, члены которой имели определенные права в использовании местной пашни, отходов и лесных угодий. В такой общине было невозможно привязать определенное хозяйство или человека к кадастровой карте. Крупная норвежская ферма (gard) имела те же проблемы. Каждое хозяйство имело права на определенную долю стоимости фермы (skyld), но не на участок земли; никто из объединенных владельцев не мог назвать какую-то часть фермы своей[81]. Пахотную землю каждого сообщества можно было оценить и, сделав некоторые предположения относительно урожая и потребностей пропитания, достигнуть разумного налогового обложения, но крестьяне получали значительную часть средств к существованию с общинных земель, ловя рыбу, пользуясь лесом, охотясь, собирая смолу и заготавливая древесный уголь. Контроль этого вида доходов был практически невозможен. Не смогли бы решить проблему и грубые оценки стоимости общинных земель, потому что жители близлежащих деревень часто пользовались общинной землей друг друга (несмотря на то, что такая практика была вне закона). В таких общинах способ производства был просто несовместим с предположением об индивидуальном земельном хозяйстве, подразумеваемом в кадастровой карте. Утверждалось, хотя это было вовсе не очевидно, что общинная собственность менее продуктивна, чем индивидуальная[82]. Однако доводы государства против общинных форм землевладения были основаны на справедливом наблюдении,что в финансовом отношении такие формы очень запутанны, а, значит, финансово менее продуктивны для государства. Это скорее было попыткой, подобно неудачной попытке Лалуэтта, привести карту в соответствие с реальностью, в целом же было принято историческое для государства решение обложить налогом систему собственности в соответствии с финансовой схемой.
Пока общинная собственность была богатой, но не имела в сущности никакой финансовой ценности, запутанность форм ее владения не была проблемой. Но в тот момент, когда она оскудела (когда «природа» стала «природными ресурсами»), она стала предметом законных прав собственности государства или граждан. В этом смысле история собственности означала неумолимое отчуждение в систему собственности того, что когда-то считалось бесплатными дарами природы: леса, дичь, пустоши, степи, природные ископаемые, вода и ее течение, права на воздух (над строениями или земельными участками), воздух для дыхания и даже генетическое потомство. В случае общинной собственности сельхозугодий навязывание индивидуальной земельной собственности специально не разъяснялось местным жителям — принятая по обычаю система прав всегда была достаточно ясна им, как была ясна и налоговому инспектору, и продавцу Земли. Кадастровая карта добавляла документальные сведения государственной власти и тем самым обеспечивала основание для прогноза государственного и межрегионального рынка земли[83].
Чтобы пояснить процесс установления новой, более четкой системы собственности, воспользуемся примером того, как в двух дореволюционных российских деревнях государство попыталось создать индивидуальное землевладение и поддерживать его сельскохозяйственный рост и административное подчинение. Сельская Россия, даже после отмены крепостного права в 1861 г., представляла собой образец финансовой неразберихи. Преобладали общинные формы землевладения, и государство имело слабое представление о том, кто какие наделы земли обрабатывал и какими были урожаи и доход.
Деревня Новоселок пользовалась различными способами возделывания земли, ведения животноводства и лесоводства, а деревня Хотиница была ограничена в обработке земли и животноводстве (рис. З и 4). Сложная путаница наделов должна была гарантировать, что все деревенские хозяйства получат полосу земли в каждой экологической зоне. Индивидуальное хозяйство могло иметь 10—15 различных участков, дающих некоторое представление об экологических зонах и микроклимате деревни. Распределение разумно подстраховывало семью от риска, а земля время от времени перераспределялась, поскольку состав семей уменьшался или увеличивался[84].
Этого было достаточно для работы кадастрового инспектора. На первый взгляд казалось, что самой деревне понадобится штат профессиональных инспекторов, чтобы сделать все правильно. Но на практике система, названная чересполосицей, была весьма проста для тех, кто жил на земле. Наделы земли обычно были прямыми и параллельными, так что для перераспределения было достаточно переместить маленькие колышки вдоль только одной стороны поля без измерения площади. Там, где другой конец поля отклонялся от параллельности, колышки можно было переместить, компенсируя тем самым факт расширения или сужения к концу поля. Поля неправильной формы делились не по площади, а по урожаю с них. На посторонний взгляд — и, конечно, на взгляд тех, кто был вовлечен в составление кадастровых карт, — способ казался замысловатым и нерациональным. Но для тех, кто был с ним знаком, он казался достаточно простым и давал превосходные результаты.
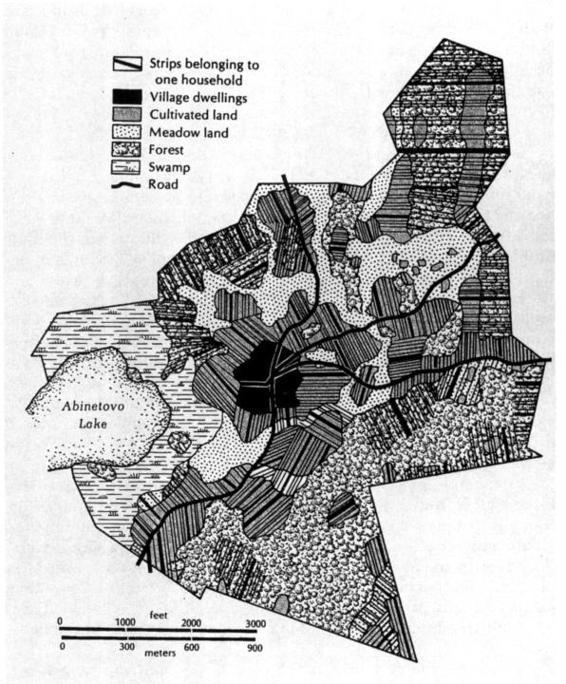
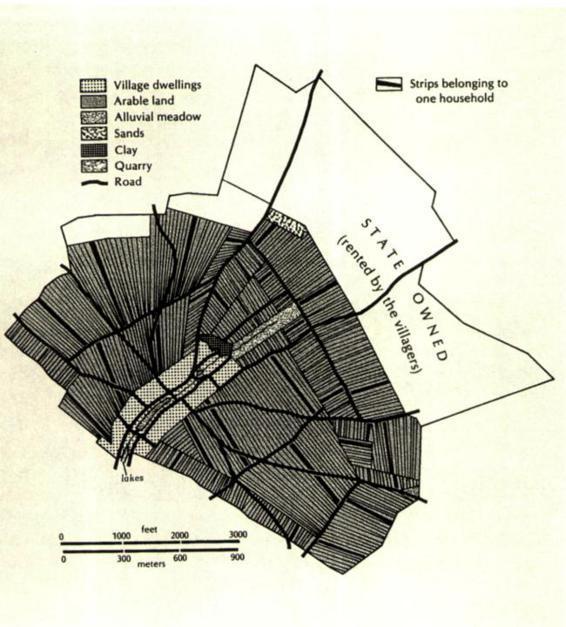
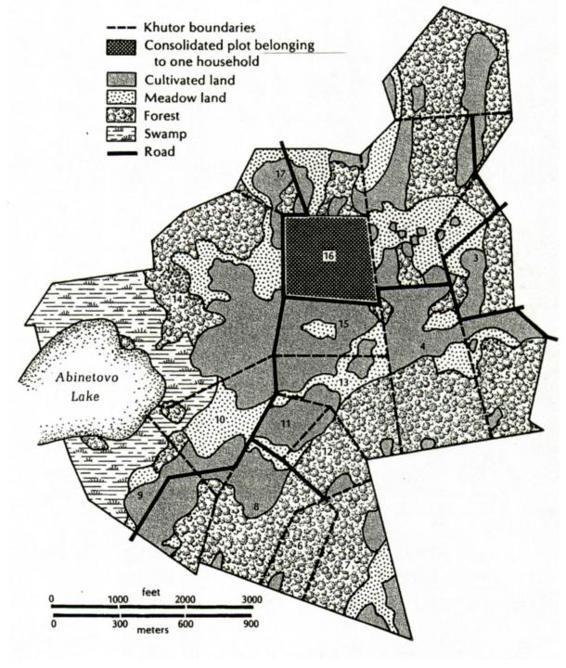
Мечтой государственных чиновников и аграрных реформаторов — по крайней мере, начиная с отмены крепостного права, — было преобразование системы неогороженных участков в комплексы объединенных, независимых ферм с земельными участками и необходимыми службами по западноевропейским моделям. Они были ведомы желанием побороть власть общин над индивидуальным домашним хозяйством и двигаться от коллективного налогообложения всей общины к налогу на индивидуального арендатора. Как и во Франции, финансовые цели были сильно связаны с господствовавшими идеями о сельскохозяйственном прогрессе. При графе Сергее Витте и Петре Столыпине, отмечает Джордж Йени, планы реформирования отражали общий взгляд на то, как обстояли дела в деревнях и как они должны были обстоять: «Первая картинка: деревни, полные бедных крестьян, страдающих от голода, сталкивающихся друг с другом плугами на своих крошечных полосках. Вторая картинка: сельскохозяйственный специалист увозит нескольких прогрессивных крестьян на новые земли, предоставляя остающимся больше места. Третья картинка: переехавшие крестьяне, освобожденные от несносных полос, основывают хутор (комплекс ферм с необходимыми службами и жилищами) на новых землях и применяют новейшие методы. Те же, кто остался, освобождаются от общинных и домашних пут, решительно погружаются в требуемую экономику — все богаче, все плодотворнее, города накормлены, крестьянство не пролетаризируется»[85]. Было вполне ясно, что предвзятое мнение о чересполосице в основном базировалось на независимости российской деревни, ее непонятности для посторонних, на неприятии ею чуждой догмы, господствовавшей в сельском хозяйстве, как это и было на самом деле, по неопровержимому свидетельству[86].
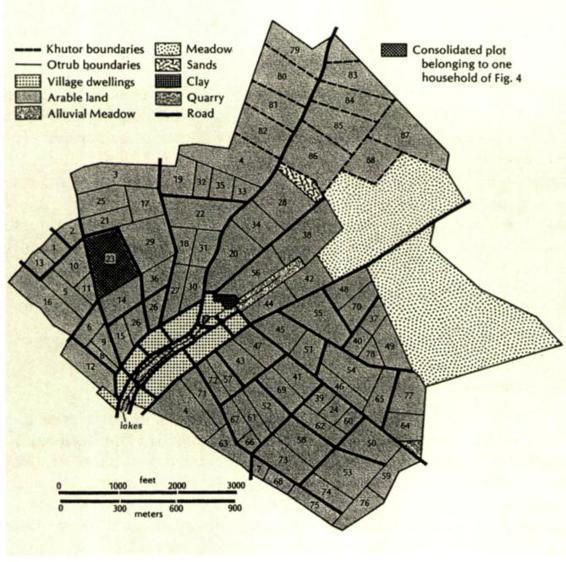
Государственные чиновники и аграрные реформаторы логично рассуждали, что крестьянин, получив однажды закрепленный за ним частный участок, захочет разбогатеть, эффективно организует свое хозяйство и возьмется за его научное ведение. Поэтому столыпинская реформа плавно продвигалась вперед, и кадастровый порядок был введен для обеих деревень вслед за реформой (рис. 5 и 6).
В деревне Новоселок были организованы 17 независимых ферм (хуторов) таким способом, что каждому хозяйству досталась доля лугов, пашни и леса. В деревне Хотиница было организовано 10 хуторов, а также 78 ферм (отруб), чьи владельцы продолжали жить в центре деревни. Как кадастровые объекты новые фермы были нанесены на карту, легко распознавались на ней и, так как каждая принадлежала определенному человеку, были оценены для обложения налогом.
Взятые порознь, карты, показанные на рис. 5 и 6, вводят в заблуждение. Такие образцовые деревни предполагают квалифицированные кадастровые команды, старательно выполняющие свою работу по всей сельской местности и превращающие неогороженный хаос в опрятные освещенные фермы. В действительности было нечто другое. Мечта об образцовых прямоугольных полях почти что воплощалась лишь на вновь заселяемых землях, где землемеры сталкивались с незначительными географическими и социальными помехами[87]. В других местах реформаторам, как правило, мешали, хотя государство оказывало огромное давление для организации комплексных ферм. Фактически существовали никем не разрешенные объединения крестьян; встречались и «объединения на бумаге», в которых новые фермеры продолжали возделывать свои наделы, как раньше[88]. Лучшим свидетельством того, что сельскохозяйственная собственность не стала четкой по структуре для налоговых чиновников в центре, была чрезвычайно разрушительная политика реквизиций, проводимая царским правительством во время Первой мировой войны. Никто не знал, каким должен быть разумный налог на зерно или зерновые отходы для скотины; в результате некоторые фермеры были разорены, в то время как другие сумели скопить зерно и увеличить поголовье домашнего скота[89]. Тот же эксперимент с принудительным захватом без соответствующих знаний ведения земледелия и получения дохода с него был повторен снова после Октябрьской революции в период военного комунизма[90].
Кадастровая карта как объективная информация для посторонних
Ценность кадастровой карты для государства в ее абстрактности и универсальности. В принципе один и тот же объективный стандарт может применяться для всей нации, независимо от местной ситуации, для разработки полной и однозначной карты всей земельной собственности. Завершенность кадастровой карты связана, что любопытно, с ее абстрактной схематичностью, ее слабость — недостаточная проработанность деталей. Взятая сама по себе, она представляет, по существу, геометрические границы — разделы между участками земли. То, что лежит внутри участка, остается пустым — неуточненным: это и неуместно на карте, дающей только план.
Конечно, знание очень многого об участке земли гораздо важнее, чем расположение его границ. Потенциальный покупатель в первую очередь мог бы поинтересоваться типом почвы участка, что можно на нем выращивать, насколько трудно его обрабатывать и насколько участок близок к рынку. Такие же вопросы захотел бы задать и налоговый чиновник. С точки зрения покупки физические измерения мало существенны. Но они могут стать важными (особенно для государства) после того, как на изображении территории, где они находятся, указаны местоположение участков и их размеры. В отличие от этих данных ответы на остальные вопросы связаны со сложными суждениями, которые можно подтасовать и которые зависят от севооборота и условий культивирования: могут появиться новые машины для обработки земли и измениться местоположение рынков. В противоположность этому кадастровый отчет точен, схематичен, всеобъемлющ и единообразен. Какими бы ни были другие его недостатки, он является предпосылкой налоговой системы, исчерпывающе связывающей каждый кусок земли с его владельцем — налогоплательщиком[91]. В этом плане в отчете об исследовании земельного налогообложения в Нидерландах в 1807 г. (инспирированном наполеоновской Францией) было подчеркнуто, что все инспекторы должны использовать одинаковые единицы измерения, их инструменты для гарантии соответствия должны периодически проверяться и все карты должны быть составлены в едином масштабе 1:2,880[92].
Земельные и в особенности кадастровые карты предназначены для того, чтобы разъяснять постороннему локальное местоположение. Для чисто местных целей кадастровая карта не нужна. Каждый, кто владел, скажем, лугом у реки, знал цену скошенного с него фуража, феодальные пошлины на этот луг; не было никакой необходимости в данных о его точных размерах. Солидное имение могло иметь словесную карту (terrier), пример которой можно найти в старых документах («от большого дуба на север 120 футов к берегу реки, отсюда...»), с перечнем обязательств владельца имения. Тот, кто вообразит, что такой документ представляет для молодого наследника какую-то ценность, просто недостаточно знаком с управлением имением. Но, видимо, такая карта вошла в употребление тогда, когда развился оживленный рынок земли. Таким образом, Нидерланды стали лидером в земельной картографии ввиду ранней коммерциализации страны и ввиду того, что каждый, кто вкладывал капитал в осушение земли ветряной мельницей, хотел точно и наперед знать, на какой участок новой земли он будет иметь право. Карта была особенно важна для новых владельцев земельных угодий, так как она позволяла им оценить большую территорию на глаз. Ее миниатюрность помогала служить памяткой, когда собственность состояла из маленьких участков или владелец не был детально знаком с территорией. Уже в 1607 г. английский инспектор Джон Норден продает свои услуги по составлению карты аристократии на том основании, что она для них заменит инспекционную поездку: «Чертеж, верно отображающий истину, так живописует образ поместья, каждого уголка и каждой части его, что лорд, сидящий в своем кресле, кинув на него быстрый взгляд, может знать, что он имеет, где и как это располагается, для чего нужно целое и каждая деталь»[93]. Национальная налоговая администрация требует той же логики: четкой бюрократической формулы, которую новый чиновник может быстро уяснить и в дальнейшем управлять с помощью документов из своего офиса.
Что отсутствует на этой картине?
Административный чиновник признает, что мир, который он воспринимает, есть сильно упрощенная модель шумного и крикливого беспорядка, который представляет собой реальный мир. Он доволен этим упрощением, поскольку уверен, что настоящий мир в основном пуст, — большинство фактов реального мира не имеет никакого отношения к любой конкретной ситуации, которая стоит перед ним, — и что наиболее существенные цепи причини следствий коротки и просты.
Герберт Саймон
Исайя Берлин в своем исследовании творчества Толстого приводит сравнение ежа, который знал «одну большую вещь», с лисой, которая знала много разных вещей. Ученые-лесоводы и чиновники, занимающиеся кадастровыми делами, подобны этому ежу. Узкоспецифический интерес ученых-лесоводов к коммерческой древесине и кадастровых чиновников к доходу с земли принуждает их находить четкие ответы на единственный вопрос. Натуралист и фермер, напротив, подобны лисе. Они очень много знают об обрабатываемой земле и лесах. И хотя диапазон знаний лесника и кадастрового чиновника гораздо уже, мы не должны забывать, что их знания систематизированы и прогностичны, они позволяют им видеть и понимать вещи, недоступные пониманию лисы[94]. Однако я хочу подчеркнуть, что это знание получено за счет довольно статичного и близорукого взгляда на землевладение.
Кадастровая карта сильно напоминает фотокадр речного потока. Она указывает расположение приобретенных в собственность участков земли в тот момент, когда проводилось инспектирование. Но поток постоянно в движении, а в периоды больших социальных переворотов кадастровый отчет замораживает картину очень бурных перемен[95]: участки земли дробятся или объединяются при наследовании или покупке; появляются новые каналы, шоссе и железные дороги; изменяется использование земли и т. д. Поскольку эти частные изменения непосредственно затрагивают налоговые оценки, предусмотрено отмечать их на карте или заносить в титульный список. Накопление аннотаций и заметок на полях в конце концов делает карту неразборчивой, после чего должна быть составлена более современная, но тоже статическая карта, и процесс повторяется.
Никакая действующая система земельного дохода не ограничивается простой идентификацией собственности участка. Чтобы оценить возможное налоговое бремя, нужно взять еще и другие схематические данные, сами по себе статичные. Землю можно оценивать типом почвы, условиями полива, культурами, которые произрастают на ней, предполагаемым средним урожаем, который часто определяется выборочной уборкой. Эти данные сами по себе изменяются или берутся в среднем, что может скрывать большие расхождения. Подобно застывшему стоп-кадру, кадастровые карты со временем становятся все более нереалистичными и должны вновь уточняться.
Эти государственные упрощения всегда статичнее и схематичнее, чем стоящие за ними в действительности социальные явления. У фермера едва ли когда-нибудь бывает средний урожай, средний ливень или средняя цена на произведенную продукцию. Богатая история налоговых бунтов в сельской Европе начала Нового времени, да и в других местах по большей части объясняется несоответствием между жесткими финансовыми требованиями налоговых служб, с одной стороны, и значительными колебаниями в готовности сельского населения выполнить эти требования, с другой[96]. Но и самая беспристрастная, исполненная благих намерений система налогообложения может функционировать только на основе твердо установленных единиц измерений и схем расчетов. Она способна отражать реальную сложность деятельности фермера не больше, чем схемы ученого-лесовода отражают сложную картину реального леса, доступную натуралисту[97].
Управляемое практической конкретной целью кадастровое «око» игнорировало все находящееся вне его резко очерченного поля зрения. Это выражалось в потере деталей в самом отчете. Инспекторы, как определил недавно один шведский исследователь, чертили поля более правильной геометрической формы, чем они были на самом деле. Игнорирование небольших неровностей и изгибов облегчало их работу, существенно не влияя на результат[98]. Как и коммерческий лесник, позволявший себе упускать из виду менее значительные лесные продукты, чиновник, занимающийся вопросами кадастрового отчета, не обращал внимания на все аспекты, кроме главного — коммерческой выгоды от поля. Тот факт, что место, обозначенное как поле для выращивания пшеницы или фуража, может быть также важным источником собранной после жатвы соломы для подстилки скоту, что там растут грибы, что там могут жить кролики, птицы и лягушки, не то, что был неизвестен, но умышленно замалчивался во избежание напрасного усложнения прямого административного руководства[99]. Наиболее значительным примером близорукости было то обстоятельство, что в кадастровой карте и оценивающей системе учитывались только размеры земли, ее ценность рассматривалась как актив, дающий прибыль, или как товар для продажи. Любая ценность земли, которую она могла иметь для пропитания или для местной экологии, считалась эстетической, ритуальной или сентиментальной.
Преобразование и сопротивление
Кадастровая карта — инструмент контроля, который и отражает, и укрепляет власть тех, кто уполномочен на это....Кадастровая карта — хороший помощник, с ней знание — сила, она обеспечивает всестороннюю информацию, которая создает преимущества для одних и ущерб для других, что хорошо осознавали правящие и управляемые в налоговой борьбе в XVIII и XIX веках. Наконец, кадастровая карта активна: описывая одну только правду, как заселение Нового Света или Индии, она помогает устранить старое.
Роджер Дж. П. Кэйн и Элизабет Бэйджент. Кадастровая карта
Приемы кратких записей, с помощью которых налоговые чиновники должны оценивать действительность, — не просто инструменты наблюдения. С помощью своего рода финансового принципа Гейзенберга они часто влияют на изучаемые факты.
Налог на «дверь и окно», установленный во Франции во времена Директории и отмененный только в 1917 г. может служить показательным примером[100]. Его создатель, вероятно, рассудил, что число дверей и окон в жилище должно быть пропорциональным размеру жилья. Таким образом, налоговому чиновнику не было нужды заходить в дом или обмерять его, а достаточно просто сосчитать двери и окна. Этот блестящий ход, простой и легко осуществимый, не остался без последствий. Впоследствии дома крестьян строились или переделывались с учетом налога так, чтобы было как можно меньше отверстий. Финансовые потери от этого можно было возместить увеличением налога на упомянутые окно и дверь, а длительное влияние на здоровье сельского населения продолжалось более столетия.
Новая, установленная государством форма землевладения была гораздо более революционна, чем налог на дверь и окно. С ней в жизнь вошли новые ведомственные связи. Как ни была проста и единообразна новая система владения для административного управленца, сельских жителей она волей-неволей погружала в мир документов на права собственности, земельных учреждений, платежей, налоговой оценки имущества и заявлений. Они столкнулись с облеченными властью новыми специалистами — земельными клерками, инспекторами, судьями и адвокатами, чьи правила ведения дел и принятия решений были им незнакомы.
В колониях, где новая система владения устанавливалась чужеземными завоевателями, использующими непонятный язык и свой ведомственный контекст, где местная практика землевладения не имела никакого сходства с индивидуальным владением, последствия были далеко идущими. Например, в Индии долговременная колонизация создала новый класс никогда не живших здесь прежде людей, которые стали полными владельцами с правами наследования и продажи собственности только благодаря тому, что они платили налоги на землю[101]. В то же время буквально миллионы земледельцев, арендаторов и разнорабочих потеряли свои освященные обычаем права доступа к земле и ее продукции. Те же, кто первым проник в тайны управления новой собственностью в колониях, получили уникальные возможности. Таким образом, вьетнамские секретари и переводчики, которые служили посредниками между французскими чиновниками в дельте Меконга и их вьетнамскими подданными, имели возможность сделать огромные состояния. Специализируясь на юридических документах, вроде дел о правах собственности и соответствующих платежах, они иногда становились крупными владельцами целых деревень, жители которых вообразили, будто они получили общинную землю в бесплатное пользование. Новые посредники, конечно, могли иногда использовать свои знания, чтобы благополучно провести своих соотечественников через дебри новых законов. Каково бы ни было их поведение, беглость их речи на должностном языке прав собственности, определенно предназначенном своей четкостью и ясностью для администраторов, в сочетании с неграмотностью сельского населения, для которого новая форма собственности была непонятна, вызвали важные изменения во властных отношениях[102]. То, что было просто и понятно чиновнику, окружено тайной для большинства земледельцев.
Право личной собственности на землю и нормативное измерение земли были для центрального налогообложения и рынка недвижимости тем же, что и центральная банковская валюта для рынка ценных бумаг[103]. Кроме того, они угрожали уничтожить большую часть местной власти и автономии. И неудивительно, что им пришлось встретить энергичное сопротивление. В европейской истории XVII в. любое общее кадастровое инспектирование служило определенным толчком к централизации; местное духовенство и знать были вынуждены наблюдать, как их собственные налоговые полномочия и освобождение от налогов, которым они с удовольствием пользовались, ставились под угрозу. Простые же люди, похоже, видели в нем предлог для дополнительного местного налога. Жан-Баптист Кольбер, великий «централизатор» абсолютизма, предложил провести общенациональную кадастровую инспекцию Франции, но планы его были расстроены объединенной оппозицией аристократии и духовенства. Более чем через сто лет после революции радикал Франсуа Ноэль Бабеф в своем «Projet de cadastre perpetual» мечтал о совершенно равноправной земельной реформе, в которой каждый получил бы одинаковый участок земли[104]. Ему также помешали.
Мы должны иметь в виду не только возможность государственных упрощений для преобразования мира, но и способность общества изменять, ниспровергать, затормаживать и даже уничтожать навязанные сверху категории. Здесь полезно разграничить то, что могло бы называться фактами на бумаге, от истины. Как подчеркивали Солли Фолк Мур и другие, отчеты земельных учреждений могут служить основанием для налогообложения, но они имеют мало общего с фактическими правами на землю. Владельцы на бумаге могут не быть действительными владельцами[105]. Российские крестьяне, как мы видели, могли состоять в объединениях «на бумаге», продолжая на самом деле жить в чересполосице. Земельные захваты, самовольное поселение на чужой земле и вторжение, если они свершились, представляют собой осуществление де факто не записанных прав собственности. От некоторых земельных налогов и церковных десятин до такой степени уклонялись, что они стали просто записями на бумаге[106].
Пропасть между зафиксированным и реальным земельным владением на бумаге и реальными фактами, вероятно, особенно велика в моменты социальных беспорядков и восстаний. Но даже в более спокойные времена всегда есть теневая система землевладения, не отраженная учреждением земельной регистрации в официальном отчете. Не стоит даже предполагать, что местная практика может соответствовать государственной теории. Все централизованные государства признали ценность единой всеобъемлющей кадастровой карты, однако ее выполнение — это другой вопрос. Практически кадастровая картография вводилась раньше и была более обстоятельной там, где мощное централизованное государство могло навязать свою политику относительно слабому гражданскому обществу. Там, где, напротив, гражданское общество было хорошо организовано, а государство относительно слабо, кадастровая картография, часто произвольная и отрывочная, запаздывала. Таким образом, наполеоновская Франция была нанесена на карту намного раньше, чем Англия, где профессиональные юристы сумели в течение длительного времени сдерживать эту угрозу приносящей им доход практике. По этой же логике побежденные колонии, управляемые указом, часто размечались на кадастровой карте метрополии, которая заказала эту карту. Ирландия, возможно, была первой в этом ряду. После завоевания Кромвелем, как отмечает Йен Хакинг, «Ирландия была полностью проинспектирована на предмет земли, зданий, людей и скота под руководством Уильяма Петти, для того чтобы облегчить насилие над нацией англичанами в 1679 г.»[107]

Там, где колонии были мало заселены, как в Северной Америке или в Австралии, помехи для составления полной, однородной кадастровой карты были минимальны. Там в меньшей степени стоял вопрос о нанесении на карту существовавших ранее способов использования земли, а больше о межевании земли, которая будет отдана или продана вновь прибывшим из Европы, и об игнорировании местных уроженцев и их форм общинной собственности[108].
Томас Джефферсон, увлеченный просвещенческим рационализмом, предложил деление Соединенных Штатов к западу от реки Огайо на «сотни» — квадраты, отмеряющие десять на десять миль, — и заявил о необходимости в поселенцах, которые взяли бы эти обозначенные участки земли.
Предложенная им геометрическая прямолинейность была не просто эстетическим выбором; Джефферсон утверждал, что участки неправильной формы облегчали мошенничество. Чтобы поддержать свое заявление, он напомнил опыт штата Массачусетс, где фактическое землевладение на 10% превышало данные, официально подтвержденные документами[109]. Но правильность форм плана создавала не только четкость для налоговых властей, но и удобный и дешевый способ оформления и продажи земли в однородных единицах. Разбивка на квадраты облегчала подсчет товарной стоимости земли, а также площади участка и налогов с него. С административной точки зрения это было также обезоруживающе просто. Земля могла быть зарегистрирована и право собственности на нее могло быть получено кем-то, живущим далеко, кто по существу не имел никаких сведений о данной местности[110]. Будучи принятым, проект приобретал нечто от безличной механической логики разметки лесных участков. На практике, однако, выдача прав собственности на землю по плану Джефферсона (измененному Конгрессом так, чтобы участки были прямоугольными, площадью в 36 кв. миль) не всегда следовала предписанному образцу.
Система Торренса выдачи прав собственности на землю, примененная в Австралии и Новой Зеландии в 1860 ., давала точную копию доинспекционного плана земель, представляющую распределение участков, которые были зарегистрированы поселенцами по принципу первенства. Это было самое быстрое и наиболее экономичное средство, изобретенное когда-либо для продажи земли, позже оно было принято во многих Британских колониях. Однако более однородный и жесткий геометрический план, похоже, не мог отразить без искажений естественных особенностей существующего пейзажа. Возможности подобных неожиданностей были тонко подмечены в сатирическом стихе из Новой Зеландии:
Но цель, которой она служит, не стоит ни гроша,
Ночью тут могло случится что угодно.
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги —
И кочки,и ямы, и ухабы —
Прямым и четким курсом там было не пройти,
Спотыкались люди — да и лошади тоже — вдоль всего пути![111].
Кадастровый отчет был пока единственным методом в растущем снаряжении утилитарного государства эпохи модерна[112]. Удовлетворенное уровнем сведений, достаточных для поддержания порядка, выжимания налогов и увеличения численности армии, государство модерна все более стремилось взять на себя надзор за физическими и человеческими ресурсами, чтобы сделать их более производительными. Эти позитивные цели управления государством требовали намного большего знания общества. И логически начинать надо было с инвентаризации земли, людей, доходов, видов деятельности, ресурсов и аномалий. «Потребность становящегося все более бюрократическим государства в организации управления и контроля за ресурсами дала импульс для сбора существенной и несущественной статистики; для лесоводства и рационального сельского хозяйства; для инспектирования и точной картографии; для общественной гигиены и климатологии»[113]. Хотя цели государства и расширялись, та информация, которую оно хотело иметь, все еще была прямо связана с прежними целями. Например, Прусское государство XIX в. имело повышенный интерес к возрасту и полу иммигрантов и эмигрантов, но не к их религии или расе; для него были важны сведения о лицах, могущих уклониться от призыва на военную службу, и поддержание притока людей призывного возраста[114]. Возрастающая заинтересованность государства в производительности, здоровье, экологии, образовании, транспорте, минеральных ресурсах, производстве зерна и инвестициях была не отказом от ранних целей политического управления, а расширением и углублением этих целей, связанных с изменениями самого общества.
2. Города, люди и язык
И Коллегия Картографов создала Карту Империи, по размерам равную самой Империи и совпадавшую с ней до последней точки..... Потомки же сочли эту Пространную Карту бесполезной и не без кощунства оставили ее на произвол Солнца и Холодов.
Суарес Миранда. Путешествия осмотрительных мужей. 1658.
Средневековый город или старинная часть его (medina), если их облик не слишком искажен временем, на аэрофотосъемке имеют специфически беспорядочный вид, точнее, они не подчинены никакой идеальной абстрактной форме. Улицы, переулки и проходы пересекаются под самыми разными углами, причем густота этой сети напоминает замысловатую сложность некоторых органических процессов. В средневековых городах, нуждавшихся для обороны в стенах и рвах, следы постепенно удалявшихся от центра стен очень напоминают годовые кольца дерева. Наглядным примером может служить вид города Брюгге (рис. 8) — типичного средневекового города купцов и текстильщиков с крепостными стенами, рынком,рекой и каналами, служившими, пока не засорились, артериями этого города.
Конечно, если город не строился по единому проекту, его структуре недостает геометрической логики, но жителей это никак не смущало. Легко представить, что большинство его мощеных улиц поначалу были пешеходными тропами. Тем, кто вырос в его кварталах, Брюгге совершенно понятен. Его переулки и закоулки отражают их обычные повседневные передвижения. Путешественник или торговец, впервые приехавший в город, наверняка заплутался бы, но лишь потому, что город лишен вторичной, абстрактной, логики, которая позволила бы пришельцу ориентироваться самостоятельно. Можно сказать, что городской пейзаж Брюгге 1500 г. дает местному знанию преимущество перед внешним, в том числе и перед внешней политической властью[115]. В структуре города это преимущество реализуется пространственно, в структуре языка оно аналогично функционированию трудного, малопонятного диалекта. Как полупроницаемая мембрана, оно облегчает его уроженцам ориентацию в городе и одновременно затрудняет ее тем, кто вырос не здесь и не владеет этим особым географическим диалектом.
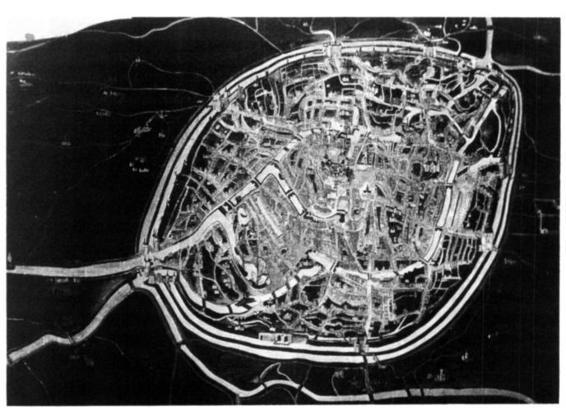
Исторически относительная непроходимость городских кварталов (или их загородных аналогов — холмов, болот и лесов) для пришельцев обеспечивала надежность жизненно важного рубежа — политическую независимость от внешней власти. Простейший способ определить наличие такого рубежа — спросить, сумеет ли пришелец найти здесь дорогу без проводника (уроженца этого края). И отрицательный ответ означает, что территория, на которой проживает данное сообщество, хоть в какой-то мере защищена от внешнего вторжения. В сочетании с местной солидарностью эта защита не раз доказывала свою политическую значимость в таких разноплановых исторических событиях, как городские хлебные бунты в Европе конца XIII — начала XIX в., стойкое сопротивление алжирского Фронта национального освобождения французам в Казбе[116] и политическая жизнь восточного базара, способствовавшая свержению шаха Ирана. Таким образом, невнятность местной географии для посторонних была и остается надежным ресурсом политической автономии[117].
Не решаясь перепроектировать старинные города (далее мы рассмотрим этот вопрос подробнее), государственные власти стремились хотя бы составить карты старых труднопроходимых поселений, чтобы облегчить политическое и административное управление ими. После революции подверглось тщательной рекогносцировке большинство основных городов Франции. В случае восстания в той или иной части города власть хотела обеспечить себе возможность быстрого перемещения в нужное место для эффективного подавления бунтовщиков[118].
Как и следовало ожидать, государственные власти и проектировщики городов стремились преодолеть эту пространственную неразбериху и сделать географию городов возможно более ясной для внешнего глаза. Их отношение к кажущемуся сумбуру исторически сложившейся городской застройки мало чем отличалось от отношения лесников к естественной хаотичности природного леса. Геометрически правильные поселения (сетчатые городские структуры) уходят корнями в прямолинейную военную логику. Квадратный, упорядоченный, стандартный римский военный лагерь (castra) имеет много преимуществ. Солдаты легко осваивают способы его возведения; командиры отрядов точно знают расположение своих подчиненных и других отрядов; любой посыльный из Рима или чиновник, прибывающий в лагерь, точно знает, где искать нужного ему офицера. Из общих соображений понятно, что идея лагерей и городов, построенных по одной и той же схеме, как символ порядка и власти, может быть привлекательной для огромной и многоязычной империи. Не говоря уже о том, что при прочих равных условиях город, построенный по простой логике повторения, оказывается наиболее удобным для управления и охраны.
При всех политических и административных удобствах геометрически правильной городской планировки особую эстетическую ценность придала ей эпоха Просвещения, с энтузиазмом воспринимавшая прямые линии и видимый порядок. Яснее всех это отношение выразил Декарт: «Старинные города, разрастаясь с течением времени из небольших посадов и становясь большими городами, обычно столь плохо распланированы по сравнению с городами-крепостями, построенными на равнине по замыслу одного инженера, что хотя, рассматривая эти здания по отдельности, нередко находишь в них никак не меньше искусства, нежели в зданиях крепостей, однако при виде того, как они расположены — здесь маленькое здание, там большое — и как из-за них улицы искривляются и меняют свою длину, можно подумать, что это скорее дело случая, чем разумной воли людей»[119].
Представление Декарта о «хорошем» городе заставляет вспомнить о лесопосадках: прямые улицы, пересекающиеся под прямыми углами; здания одинаковые и по размеру, и по форме; все построено по единому плану.
Избирательное сродство между сильным государством и стереотипно спроектированным городом очевидно. Льюис Мамфорд, историк городской архитектуры, видит корни современного европейского градостроения в открытом, четком барочном стиле итальянских городов-государств. Он считает, и с ним вполне согласился бы Декарт, что «одна из великих интеллектуальных побед эпохи барокко состояла в организации пространства, в обеспечении его непрерывности, сведении его к мере и порядку»[120]. По сути, барочная перепланировка средневековых городов — с появлением огромных зданий, свободных пространств и площадей и стремлением к однотипности, пропорции и перспективе — была призвана выразить великолепие и подавляющую власть государя. Эстетические соображения нередко одерживали верх над сложившейся социальной структурой и повседневной городской жизнью. «Задолго до того, как изобрели бульдозеры, — добавляет Мамфорд, — итальянские военные инженеры освоили (благодаря их профессиональной специализации на разрушениях) навыки «бульдозерного» мышления: стереть все с лица земли и начертать на ней собственные несгибаемые математические линии»[121].
За видимой мощью барочного города скрывалась скрупулезная забота о военной защите государя от внутренних и внешних врагов. Так, и у Альберти, и у Палладио главные артерии города мыслятся как военные дороги (viae militaires), которые должны были быть прямыми. По мнению Палладио, «дороги будут тем удобнее, чем они ровнее: то есть на них не должно быть ни одного участка, где бы армии было трудно маршировать!»[122]
Конечно, на свете есть немало городов, более или менее соответствующих модели Декарта. Очевидно, что в своем большинстве они проектировались как совершенно новые, часто утопические[123]. Там, где города строились не по императорскому декрету, отцы-основатели закладывали их так, чтобы в будущем они могли вместить сколько угодно новых повторяющихся однотипных квадратов застройки[124]. Вид с птичьего полета на центр Чикаго конца XIX в. (равно подошли бы Филадельфия Уильяма Пенна или Нью-Хейвен) служит хорошим примером подобного города-сетки (рис. 9).

С точки зрения удобства управления планировка Чикаго выглядит почти утопической. Она легко охватывается взглядом, так как состоит из многократно повторяющихся прямых линий и прямых углов[125]. Даже реки, похоже, почти не нарушают четкую симметрию города. Чужаку — или полицейскому — довольно легко найти нужный адрес, никакие проводники для этого не требуются. Осведомленность местных уроженцев не имеет никаких преимуществ перед неосведомленностью приезжих. А если к тому же, как в верхнем Манхэттене, улицы (streets) последовательно пронумерованы и пересекаются более длинными и тоже последовательно пронумерованными проспектами (avenues), то план приобретает еще большую прозрачность[126]. Сетчатая планировка города облегчает упорядочение его подземных коммуникаций — водопровода,стоков, коллекторов, электрических кабелей, газопроводов и метрополитена, что не менее важно для городских властей. Доставка почты, сбор налогов, проведение переписи, перемещение припасов и людей в город и из города, подавление восстаний и беспорядков, рытье канав для труб и коллекторных сетей, розыск преступников или уклоняющихся от службы призывников (если они прописаны по указанному адресу), планирование общественного транспорта, водоснабжения и уборки мусора — все упрощается благодаря такой сеточной логике.
Отметим три наиболее важные особенности геометрически строгих человеческих поселений. Первая состоит в том, что их упорядоченность обнаруживается при перемещениях не столько по улицам города, сколько сверху и снаружи. Подобно участнику парада или рабочему у длинного конвейера, отдельный пешеход, находясь в центре этой сетки, не может охватить взором всю планировку города. Симметрию целого можно усмотреть либо из схемы, которую, вероятно, начертил бы и школьник, при наличии линейки и чистого листа бумаги, либо из повисшего высоко над землей вертолета, откуда смотрит на землю Бог или высшая власть. Возможно, такое пространственное соотношение изначально присуще самому процессу городского или архитектурного планирования, которое предполагает миниатюризацию и моделирование, позволяющие хозяину или проектировщику смотреть на эти модели сверху вниз, будто из окна вертолета[127]. В конце концов, действительно, ведь нет иного способа представить себе законченный крупномасштабный строительный проект, кроме как изобразить его в уменьшенном виде. Однако в результате, как мне кажется, по этим игрушечного размера макетам о пластических свойствах и визуальной организации объекта судят с таких позиций, которые мало кому из людей доступны.
Миниатюризации в виде макетов городов и пейзажей на практике может способствовать полет на самолете. Съемки с высоты птичьего полета (см. карту Чикаго) перестали быть просто картографической традицией, результатом соглашения. Аэрофотосьемка с большой высоты демонстрирует порядок и симметрию того, что на земле может казаться беспорядком. Значение самолета для современного мышления и планирования чрезвычайно велико. Задавая перспективу, сглаживающую топографические различия на земле, полет дает возможность снова стремиться к «синоптическому видению, рациональному контролю, планированию и пространственному порядку»[128].
Вторая особенность отчетливо видимой извне упорядоченности городской планировки состоит в том, что грандиозный план этого целого может не быть связанным с повседневной жизнью его обитателей. Конечно, некоторым государственным службам удобнее работать, а в некоторые отдаленные места легче попадать, но эти явные преимущества легко сводятся на нет такими постоянными недостатками, как отсутствие плотной уличной жизни, постоянный надзор со стороны властей, утрата придающих городу уют милых пространственных неправильностей, мест для неформального отдыха и чувства соседства. Строгий геометрический порядок городской планировки и не может быть ничем иным: он формален. Его видимая стройность несет ритуальные или идеологические черты, напоминающие о параде или казарме. То, что этот порядок удобен муниципальным и государственным властям, управляющим городом, вовсе не означает, что он удобен его жителям. Впрочем, не будем спешить с обсуждением вопроса об отношениях между формальным пространственным порядком и социальной жизнью.
Третий примечательный аспект гомогенной, геометрической, однородной недвижимости — ее удобство в качестве стандартизованного рыночного товара. Подобно схеме межевания Джефферсона или предложенной Торренсом системе оформления прав собственности на вновь открываемые земли, сетка задает правильные участки и кварталы, идеальные для купли-продажи. Именно благодаря тому, что эти абстрактные единицы оторваны от какой-либо экологической или топографической реальности, они напоминают своего рода валюту, которую можно бесконечно накапливать и делить. Такая особенность сеточной планировки одинаково удобна и для инспектора, и для планировщика, и для торговца недвижимостью. В этом случае бюрократическая и коммерческая логика идут рука об руку. Как замечает Мамфорд, «красота этого механического рисунка, с коммерческой точки зрения, должна быть проста. Такой план не ставит перед инженером ни одной из тех специфических проблем, которые возникают в работе с участками неправильной формы. Даже мальчишка-посыльный сумел бы рассчитать площадь улицы или продающегося участка, даже секретарь адвоката смог бы составить купчую, просто подставив надлежащие размеры в стандартный документ. И наконец, любой городской инженер без какого-либо архитектурного или социологического образования, вооруженный лишь Т-квадратом и треугольником, сумел бы «спроектировать столицу со стандартными участками, стандартными кварталами, стандартной шириной улиц... Само отсутствие более детальной привязки к ландшафту или к человеческим целям лишь увеличивает благодаря этой неопределенности ее повсеместное удобство для обмена»[129].
Подавляющее большинство городов Старого Света представляют собой некий исторический сплав Брюгге и Чикаго. И хотя у политических деятелей, диктаторов и архитекторов не раз возникали планы тотальной перепланировки существующих городов, финансовая и политическая цена их замыслов оказывалась такой высокой, что они, как правило, оставались на бумаге. Частичное проектирование становится обычным. Центральное ядро многих старинных городов похоже на Брюгге, а новые предместья несут черты одного или нескольких проектов. Иногда такое несоответствие закрепляется официально, как в случае резко различных старого Дели и новой столицы Нью-Дели.
Случалось, что власти предпринимали драконовские меры для перепланировки уже существующих городов. Так, перестройка Парижа префектом Сеныбароном Хаусманном при Луи Наполеоне превратилась в грандиозную программу общественных работ, продолжавшуюся с 1853 по 1869 гг. Программа Хаусманна, поглотившая беспрецедентно много общественных средств, предусматривала насильственное переселение десятков тысяч людей и могла быть выполнена лишь единоличной исполнительной властью, не подотчетной избирателям.
Логика реконструкции Парижа напоминает логику преобразования естественно растущих лесов в научно организованные и специально предназначенные для унитарного финансового управления. И здесь мы видим тот же акцент на упрощении, четкости, прямых линиях, центральном управлении и обзорном схватывании целого. Как и в случае с лесом, план этот оказался во многом выполнен. Разница, однако,в том, что план Хаусманна был призван не столько служить финансовым целям, сколько повлиять на поведение и чувства парижан. И хотя этот план, безусловно, обеспечил столице гораздо более четкое финансовое пространство, эта четкость оказалась побочным продуктом стремления сделать город более управляемым, преуспевающим, здоровым и архитектурно импозантным[130]. Другое примечательное отличие состоит в том, что люди, насильственно выселенные из города по плану Второй империи, могли отомстить городу и сделали это. Как мы более подробно рассмотрим далее, перестройка Парижа стала предвестником многих парадоксов позднего авторитарного модернизма в проектировании.
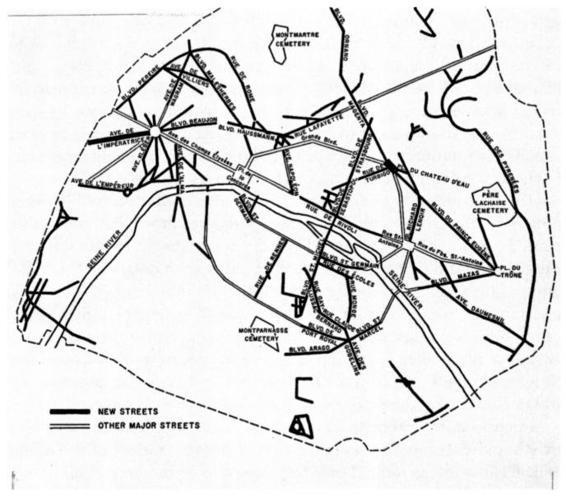
На плане, приведенном на рис. 10, показаны и новые бульвары, построенные по стандартам Хаусманна, и дореволюционные внутренние бульвары, которые были расширены и выпрямлены[131]. Однако видеть в предпринятой реконструкции всего лишь новую карту улиц значило бы сильно недооценивать это предприятие. При всех разрушениях и огромных масштабах строительства, при всей четкости спланированных улиц новый образ Парижа нес явные следы приспособления к сложившемуся веками образу старого города. Примером могут служить внешние бульвары, следующие линии старой таможенной стены (octroi) 1787 г. Но программа Хаусманна была гораздо масштабнее, чем просто реорганизация уличного движения. Новая четкость бульваров сопровождалась изменениями, которые решительно меняли повседневную жизнь: новый водопровод, более эффективная канализация, новые рельсовые линии и новые остановки, централизованные рынки (Les Halles), газопроводы и освещение, новые парки и общественные скверы[132]. Новый Париж, созданный Луи Наполеоном, к началу нового столетия вызывал всеобщее восхищение великими результатами общественных работ, став предметом поклонения всех будущих зарубежных архитекторов.
В основе перепланировки Парижа, предпринятой Луи Наполеоном и Хаусманном, лежала военная безопасность государства. Перестройка города должна была прежде всего защитить его от народных восстаний. Как писал Хаусманн, «порядок в этой Жемчужине городов — одна из главных предпосылок общественной безопасности»[133]. За двадцать пять лет до 1851 г. баррикады воздвигались девять раз. Луи Наполеон и Хаусманн были свидетелями революций 1830 и 1848 гг., а июньские события и сопротивление перевороту Луи Наполеона стали самыми серьезными беспорядками столетия. Только что вернувшийся из изгнания Луи Наполеон хорошо понимал, сколь хрупкой может оказаться его власть.
Однако очаги бунта не были равномерно распределены по территории Парижа. Сопротивление концентрировалось в рабочих кварталах, имевших запутанную, непрозрачную планировку — как в Брюгге[134]. Присоединение в 1860 г. «внутренних предместий» (они располагались между таможенной стеной и внешними укреплениями, там проживало 240 ~тыс. человек) было явно направлено на обеспечение контроля над ceinture sauvage, который до тех пор оставался вне полицейского надзора. Хаусманн описывает эту территорию как «плотный ряд предместий, находящихся в ведении 20 разных администраций, застроенных случайным образом, пронизанных невообразимой сетью узких и извилистых улиц, переулков и тупиков, где кочевое население, никак не связанное с землей [недвижимостью] и лишенное сколько-нибудь эффективного надзора, растет с чудовищной быстротой»[135] Очаги революции обнаружились и в пределах самого Парижа: Марэ и особенно предместье Сент-Антуан стали центрами сопротивления государственному перевороту, совершенному Луи Наполеоном.
Военный контроль над этими столь опасными местами, которые тогда еще не были как следует нанесены на карту, стал неотъемлемой частью плана Хаусманна[136]. Чтобы облегчить перемещение войск между казармами, расположенными на окраине города, и непокорными районами, был предусмотрен ряд новых проспектов между внутренними бульварами и таможенной стеной. Множество рельсовых и мощеных подъездных путей связывали каждый район города с военными подразделениями, отвечающими за порядок в нем[137]. Так, новые бульвары на северо-востоке Парижа позволяли быстро перебросить войска из Курбевуа к Бастилии для усмирения беспорядков в Сент-Антуанском предместье[138]. Расположение многих новых рельсовых линий и платформ было продиктовано такого рода стратегическими задачами. Непокорные кварталы или уничтожались, или рассекались новыми дорогами, общественными территориями и торговыми центрами. Обосновывая необходимость ссуды в 50 млн франков для начала работ, Леон Фоше подчеркивал интересы государственной безопасности: «Интересы общественного порядка не меньше, чем интересы охраны здоровья, требуют, чтобы через этот район баррикад как можно скорее была проложена широкая просека»[139].
Необходимость реконструкции Парижа диктовалась и интересами здравоохранения. Меры, необходимые, по мнению гигиенистов, для оздоровления Парижа, одновременно повышали его экономическую эффективность и военную безопасность, Устарелые коллекторы и выгребные ямы, падеж 37 тыс. лошадей (1850 г.) и ненадежный водопровод делали жизнь в Париже просто опасной. Город, имевший самый высокий показатель смертности во Франции, был подвержен ужасным эпидемиям холеры: в 1831 г. болезнь унесла 18,4 тыс. человек, в том числе премьер-министра. Она особенно бушевала в районах революционного сопротивления, где из-за скученности и антисанитарии смертность была самой высокой[140]. Париж Хаусманна (для тех, кого не выслали) стал более здоровым городом: улучшение циркуляции воздуха и воды, открытость улиц солнечному свету снижали опасность эпидемий — так же, как улучшение оборота товаров и рабочей силы (к тому же более здоровой рабочей силы) повышало экономическое благосостояние города. Так утилитарная логика эффективности труда и коммерческого успеха соединялась со стратегическими интересами и нуждами здравоохранения.
Решающую роль в реконструкции Парижа сыграли и политико-эстетические вкусы самого Луи Наполеона, движущей силы этого предприятия. Назначая Хаусманна префектом Сены, Луи Наполеон вручил ему карту, предусматривавшую центральный рынок, Булонский лес и многие улицы, которые со временем были построены. Нет сомнения, что в основе планов Луи Наполеона лежали идеи сен-симонистов из утопического журнала «Глоб» и образцовые городские общины, описанные Фурье и Кабэ[141]. Их грандиозные проекты подогревали его собственное стремление сделать обновленную столицу символом величия его режима.
Как это часто случается с авторитарными проектами модернизации, политические вкусы правителя время от времени входили в противоречие с чисто военными и функциональными задачами. Прямолинейные улицы были, конечно, очень хороши для переброски войск на борьбу с повстанцами, но при этом они должны были украситься изящными фасадами и оканчиваться внушительными зданиями, производящими должное впечатление на путешественников[142]. Однотипные современные здания на новых бульварах могли бы обеспечить граждан более здоровым жильем, но чаще всего это была лишь видимость. Строительные инструкции касались почти исключительно видимых поверхностей зданий, а за этими фасадами можно было разместить массу переполненных, душных клетушек для сдачи в аренду, что многие подрядчики и делали[143].
Новый Париж, как отмечает Т.Дж.Кларк, воплотил желаемый образ: «Цель Хаусманна отчасти состояла в том, чтобы придать современности форму, и эта цель, похоже, была с успехом достигнута; он создал ряд форм, в которых город стал внятным, удобочитаемым: Париж, таким образом, приобретал черты искусно выстроенной декорации к спектаклю»[144].
Эти четкость и ясность достигались более откровенной сегрегацией населения по классам и функциям. Каждый район Парижа постепенно приобретал все большее своеобразие в одежде, занятиях и достатке: буржуазный торговый район, роскошный жилой квартал, промышленный пригород, ремесленный квартал, богемный квартал. В результате героических упрощений Хаусманна город стал более контролируемым и управляемым, более «читабельным».
Как это часто бывало с амбициозными замыслами нового времени, у просторной и импозантной новой столицы Хаусманна появился своего рода порочный двойник. Иерархия городского пространства, в которой перестроенный центр Парижа занял свое гордое место, предполагала вытеснение городской бедноты на окраины[145]. Это прежде всего относилось к Бельвилю, популярному рабочему кварталу на северо-востоке, который к 1856 г. превратился в 60-тысячный город. Большинство жителей этого квартала, который нередко называли приютом отверженных, обездолила разрушительная энергия Хаусманна. К 1860-м годам он стал таким же очагом незатухающего сопротивления в пригороде, каким прежде был Сент-Антуан. «И проблема была не в том, что в Бельвиле не было сообщества, а в том, что сложившееся там сообщество было самого опасного для буржуазии свойства — туда не проникала полиция, там не было никакого контроля со стороны государства, там верховодили представители самых низких социальных групп, со всеми их неуправляемыми страстями и политической напряженностью»[146]. Если, как считают многие, Парижская Коммуна 1871 г. действительно отчасти была попыткой отвоевать город («lа reconquete de la Ville par la Ville»)[147] со стороны тех, кого Хаусманн выселил на его задворки, то в Бельвиле это ощущалось особенно остро. Коммунары, отступая в конце мая 1871 г., отошли на северо-восток и закрепились в Бельвиле. Последним рубежом их обороны была Бельвильская ратуша. Объявленный логовом революционеров Бельвиль был подвергнут жестокой военной оккупации.
По иронии истории подавление Коммуны отмечено двумя характерными событиями. Во-первых, торжествовал победу стратегический проект Хаусманна: бульвары и рельсовые дороги, которые, по замыслу Второй империи, должны были помешать народному восстанию, доказали свою значимость. «Благодаря Хаусманну Версальская армия смогла одним махом перенестись от площади Шато-д’О в Бельвиль»[148]. Во-вторых, новые бунтарские кварталы были сметены строительством церкви Сакре-Кер, возведенной «в повинном городе... в знак возмещения ущерба на месте преступления»[149], точно так же, как прежде предместье Сент-Антуан было стерто с лица земли созидательными разрушениями Хаусманна.
Возникновение фамилий
Отдельные понятия, которые большинство из нас воспринимает как естественные и с помощью которых мы теперь с легкостью понимаем социальный мир, имели свое начало в проектах организации государств. Рассмотрим, например, такое фундаментальное понятие, как фамилия человека.
Заставка к популярному фильму «Свидетель» показывает, как мы используем фамилии при поисках нужного человека[150]. В этом фильме сыщик пытается разыскать молодого амиша (члена старинной секты эмигрантов в Америку из Германии, живущих по обычаям XVIII в.), который, вероятно, был свидетелем убийства. Хотя сыщик знает фамилию мальчика, ему препятствуют в поисках некоторые традиции амишей, в частности древнегерманский диалект, на котором они говорят. Первым его движением было взять телефонную книгу, где содержатся правильные адреса и телефоны. Но амиши не пользуются телефонами! Далее он узнает, что у амишей весьма ограничен набор фамилий. Его сомнения напоминают нам, что большое число фамилий в сочетании с именами в США позволяют нам безошибочно найти многих людей, с которыми мы никогда не встречались. Мир без фамилий труднопостижим. Сыщик, наконец, понял, что в этом закрытом обществе ему необходим амиш, который сопровождал бы его в поисках.
Процесс наделения людей именами необыкновенно разнообразен. В некоторых сообществах людям приписывают различные имена на разных стадиях их жизни (младенчество, детство, зрелость), а иногда и после смерти. Добавим, что эти имена употребляются для шуток, ритуалов и поминок, для общения с друзьями того же пола или в рамках закона. Каждое имя специфично не только для определенного периода жизни, но и для социального положения, оно даже зависит от того, с кем ведется беседа. Таким образом, один и тот же человек имеет несколько имен, и на вопрос «Как вас зовут» (вопрос, совершенно однозначный на современном Западе) наиболее вероятным ответом будет: «Это — по обстоятельствам...»[151].
Для человека, выросшего в таком сообществе, любое из этих имен легально и понятно. Каждое имя и место его употребления несут в себе определенный социальный смысл. Как паутина аллей Брюгге, как система мер и весов, как система владения землей, сложность наделения именами имеет прямую и часто практическую связь с местными нуждами. Но для пришельца эта византийская путаница имен оказывается непреодолимым препятствием в понимании данного сообщества. Найти кого-нибудь, пуститься одному на поиски в этой путанице родства, наследства или собственности означает взяться за грандиозное предприятие. Если, кроме того, семейство, которое вы разыскиваете, имеет причины скрывать свое имя и свою деятельность от властей, ценность этого камуфляжа имен весьма ощутима.
После административного деления природы (например, леса) и пространства (например, земельной собственности) изобретение постоянных, наследуемых фамилий стало последней предпосылкой создания современного государства. Почти в любом случае это было государственным проектом, предназначенным для того, чтобы власти могли безошибочно идентифицировать большинство граждан. Успех этого дела определял возможность их нахождения[152]. Налоги и церковная десятина, перемещения собственности, списки призывников, перепись населения и владение собственностью в рамках закона были бы невозможны без установления личности граждан и прикрепления их к родовой группе. Мероприятия по установлению постоянных, наследуемых фамилий соответствовали желаниям властей сделать налоговую систему более прибыльной и четкой. Не без основания боясь того, что попытки регистрировать и переписывать их являются предвестниками новых налогов или очередного призыва в армию, местные власти и большая часть населения сопротивлялись им.
Поскольку постоянные фамилии были в основном требованием властей, они должны были возникнуть раньше всего там, где складывались ранние государства. В этом смысле Китай служит поразительным примером[153]. Примерно в IV в. до н. э. (точная дата до сих пор является предметом дискуссий) династия Чин, по-видимому, стала внедрять использование фамилий для большинства населения и записывать их с целью введения налогов, принудительного труда и призыва в армию[154]. Вероятно, благодаря этому начинанию возник термин «лаобайксинг», переводимый как «сто старых фамилий» и в современном Китае означающий «обычные люди». До этого легендарные китайские родовые имена, принятые в правящих домах и у их родственников, простыми людьми не употреблялись. У них не было фамилий, и они даже не пытались имитировать обычаи элиты в этом отношении. Наделение семей фамилиями было частью государственной политики по введению статуса главы семьи (мужчины), обеспечивающего его юрисдикцию над женами, детьми и молодыми членами семьи, и — конечно же, неслучайно — обязывало его платить налоги за всю семью[155]. Эта политика династии Чин требовала регистрации всего населения, вследствие чего путаница имен, которыми люди называли друг друга, была упорядочена, и люди получили «хсинг» [фамилии], которые должны были передаваться из поколения в поколение по отцу бесконечно[156]. Поэтому установление постоянных фамилий и создание патриархальной семьи следует отнести к первым государственным упрощениям. По меньшей мере до XIV в. большинство населения Европы не имело постоянных родовых имен[157]. Люди откликались на типичные, данные лично им имена, и этого было вполне достаточно, чтобы их узнавали в данной округе. При необходимости добавлялось определение, указывающее на род занятий (в Англии — кузнец, пекарь), географическое местоположение (холм, опушка леса), физические отличия (коротышка, силач). Эти определения не были постоянными, они не переживали своего носителя, кроме тех случаев, когда сын продолжал дело отца.
Об образовании постоянных фамилий в Европе мы можем кое-что узнать по документам, оставшимся после неудавшейся переписи населения (catasto) в Флорентийском государстве в 1427 г.[158]. Эта catasto была смелой попыткой упорядочить доходы и военную мощь государства, точно определяя число его подданных и их состояние, место жительства, земельную собственность и возраст[159]. Тщательное изучение этих записей показывает, что, во-первых, по государственной инициативе чаще создавались новые фамилии, чем просто регистрировались существующие (как в примере с Китаем). Поэтому часто невозможно было узнать, имеет ли зарегистрированная в государственных документах фамилия какое-либо социальное существование вне той роли в тексте, в который она вписана. Во-вторых, назначение разнообразных постоянных фамилий в пределах местности — в данном случаев Тоскане — служит в качестве грубого, но эффективного клейма принадлежности государству.
В начале XV в. в Тоскане родовыми именами обладали лишь несколько могущественных, обладающих собственностью родов (такие, как Строцци), что было для них способом достижения социального признания в плане принадлежности к «корпоративной группе» (и семья, и родственники принимали фамилию в качестве подтверждения связи с влиятельным кланом). Кроме этой незначительной части общества (и еще небольшого числа городских патрициев, которые копировали их поведение), у остального населения не было постоянных родовых имен.
Как же в таком случае ведомство, занимавшееся переписью, могло точно идентифицировать и регистрировать человека, не говоря уже о его местожительстве, собственности и возрасте? При заполнении документов типичный тосканец записывался не только под собственным именем, но и под именем своего отца и, возможно, деда, почти библейским способом (Луиджи, сын Джованни, сына Паоло). Учитывая ограниченное число имен, даваемых при крещении, и желание многих семейств повторять имена в следующих поколениях, даже такая последовательность не могла быть достаточной для однозначной идентификации. Человек мог добавить свою профессию, прозвище или личную характеристику. Нет никаких свидетельств того, что какое-либо из этих обозначений закреплялось, хотя такие и подобные им записи в конечном счете могли бы помочь идентифицировать человека, по крайней мере для записей в документах. В конечном итоге уровень развития Флорентийского государства оказался недостаточным для столь обширной административной деятельности, как перепись населения. Общественное сопротивление, неподчинение многих местных кланов, а также трудности и затраты, связанные с работой по переписи, обрекли проект на неудачу, и чиновники вернулись к ранее принятой системе отчетности.
Есть основания полагать, что по мере удаления от финансового центра государства вторые имена любого вида употреблялись реже. Во Флоренции треть владельцев собственности имела второе имя, в провинциальных городах это отношение снижалось до одной пятой, а в сельской местности — до одной десятой. В наиболее отдаленных и беднейших областях Тосканы, там, где обычно было наименьшее число контактов с чиновничеством, фамилии оформились только в XVII в.
В XIV и XV вв. прослеживается связь между развитием государства и присваиванием постоянных фамилий. Как и в Тоскане, в Англии фиксированные фамилии имели только богатые аристократические семьи. Они обычно были связаны с родовыми поместьями в Нормандии (например, Бьюмонт, Перси, Дисни) или местами в самой Англии, где семья имела феодальное поместье со времен Вильгельма Завоевателя (например, Жерар де Суссекс). Для остальной части мужского населения в качестве способа идентификации преобладала стандартная практика связи имен отца и сына[160]. Таким образом, сын Вильяма Робертсона мог называться Томасом Вильямсоном (сыном Вильяма), а сын Томаса, в свою очередь, мог носить имя Генри Томпсон (сын Тома). Обратите внимание, что в таком случае отдельно взятая фамилия внуков не содержала свидетельства причастности к деду, усложняя таким образом прослеживание семьи через поколения по одним только именам. Очень многие северные европейские фамилии, теперь уже постоянные, все еще несут, как муха, застывшая в капле янтаря, значение старинного указания на отца (фиц-, О“-, -сен, -сан, -с, Мак-, -вич)[161]. Во времена своего становления фамилия часто своеобразно указывала на профессию или индивидуальные особенности: Джон, у которого была мельница, становился Джоном Миллером; Джон, изготовлявший колеса для телеги, — Джоном Вилрайтом, Джон, который был мал ростом, — Джоном Шортом. Так как потомки этих людей по мужской линии независимо от их занятия или положения в обществе наследовали патронимы, фамилии позже приняли произвольные оттенки.
Развитие личной фамилии (буквально: имя, добавленное к другому имени, — не путать с постоянным патронимом) шло бок о бок с развитием письменных официальных документов, таких, как записи оброка с десятины, поместные пошлинные ведомости, регистрации брака, переписи, налоговые отчеты и записи учета земли[162]. Они были необходимы для успешной административной деятельности, касающейся большого количества людей, которых нужно было индивидуально идентифицировать, но которые не были известны властям лично. Представьте себе положение сборщика оброка с десятины или подушного налога, имеющего дело с мужским населением, 90% которого имеют всего шесть имен (Джон, Вильям, Томас, Роберт, Ричард и Генри). Для ведомостей требовалось некоторое второе обозначение, и, если человек не предлагал его, оно придумывалось регистрирующим клерком. Вторые обозначения — списки фамилий — делали население доступным учету, как единая система измерения и кадастровая карта делали доступной учету недвижимость. До поры человек мог предпочитать безопасность анонимного положения, но, вынужденный платить налог, он уже был заинтересован в точной идентификации, чтобы не делать это дважды. В ХIV в. многие из этих фамилий представляли собой лишь административную фикцию, предназначенную лишь для сбора финансовой информации о населении. Многие из подданных, чьи «фамилии» записывались в документах, возможно, не осознавали, что именно записывалось, и для огромного большинства фамилии не имели никакого общественного значения, кроме их необходимости для самого документа[163]. Только в очень редких случаях неожиданно наталкиваешься на запись вроде: «Вильям Картер, портной», которая, вероятно, означает, что мы имеем дело с постоянным патронимом.
Развитие постоянных наследуемых фамилий точно соответствует возрастающей интенсивности взаимодействия человека с государством и другими подобными структурами (большие феодальные поместья, церковь). Таким образом, когда Эдуард I, установив первородство и наследственные арендные права для поместной земли, внес ясность в правовую сторону системы землевладения, он тем самым обеспечил мощный стимул для принятия постоянных фамилий. Взятие фамилии после смерти отца, по крайней мере, для старшего сына стало условием требования права собственности[164]. Теперь, когда право собственности было необходимо утверждать у государства, фамилии, которые когда-то были только бюрократическим изобретением, обрели социальную значимость. Можно себе представить, что в течение длительного времени английские подданные действительно имели два имени: местное и «официальное» — зарегистрированный патроним. Поскольку частота взаимодействия с безличными административными структурами увеличивалась, во всех сферах, кроме самого близкого окружения человека, стало преобладать его официальное имя. Те подданные, которые (как тосканцы) жили на большем расстоянии от органов государственной власти (как в социальном, так и в прямом географическом смысле), приняли постоянные фамилии намного позже. Таким образом, высшие классы и те, кто жил на юге Англии, принимали постоянные фамилии раньше, чем низшие классы и жившие на севере. Существенно позже остальных приобрели фамилии шотландцы и валлийцы[165].
Государственная практика записи имен, как и государственная практика картографии, была связана с налогами (рабочая сила, военная служба, сбор зерна, налог с дохода) и, следовательно, вызывала народное сопротивление. Крупное восстание английских крестьян в 1831 г. (часто называемое восстанием под предводительством Уота Тайлера) вызвано, вероятно, не имевшим исторического прецедента десятилетним периодом регистрации населения и обложения его подушным налогом[166]. На английских крестьян,как и на тосканских, перепись мужского взрослого населения не могла не производить впечатления зловещего, если не гибельного мероприятия.
Введение постоянных фамилий в колониальных поселениях позволяет воочию увидеть этот процесс, который на Западе мог занимать несколько поколений, сжатым в десятилетие или даже в меньшее время. Намерения государства в Европе и в колонии были одними и теми же, но колониальное государство было одновременно более бюрократизированным и менее терпимым к народному сопротивлению. Сама же бесцеремонность колониального процесса присвоения фамилии позволяет нам легче проследить этот процесс и быстрее обнаружить его парадоксы.
Невозможно найти лучшую иллюстрацию к нашим рассуждениям, чем Филлипины под владычеством Испании[167]. Филлипинцам в соответствии с декретом от 21 ноября 1849 г. было указано принять постоянные испанские фамилии. Автором декрета был губернатор (и генерал-лейтенант) Наркизо Клавериа-и-Залдуа, дотошный администратор, настроенный не только совершенствовать имена, но и рационализировать существующие законы, местные границы и даже существующий календарь[168]. Он заметил, утверждается в декрете, что у филлипинцев нет личных фамилий, которые помогали бы «различать их по семействам», и что местная практика принятия при крещении имен лишь небольшой группы святых привела к великой «путанице». Средством борьбы с этой путаницей объявлялся каталог, регистр не только личных имен, но и существительных и прилагательных, которые были взяты из флоры, фауны, минералогии, географии и искусства и предназначены для использования властями при присвоении постоянных и наследуемых фамилий. Каждому местному чиновнику дали запас фамилий, достаточный для юрисдикции, «с учетом, что распределение фамилий должно быть сделано по буквам [алфавита]»[169]. На практике это означало, что каждому городу дали некоторое число страниц из каталога, составленного в алфавитном порядке, в результате образовались целые города из людей с фамилиями, начинающимися на одну и ту же букву. В тех территориях, где в последние 150 лет наблюдалась лишь небольшая внутренняя миграция населения, до сих пор прослеживаются следы такой административной деятельности: «Например, в районе Бикол весь алфавит распределялся, как гирлянда цветов, по провинциям Альбау, Сорсогон и Катандуанес, которые в 1849 году находились под властью Альбау. В столице провинции фамилии начинались с буквы А, на города вдоль побережья от Табако до Тиви приходились буквы В и С. При возвратном движении вдоль побережья Сорсогона, использовались буквы Е и Г, при движении вниз по долине Ирайа в Дарага — буква М, затем оставляем S для Полангии и Либона и заканчиваем алфавит быстрым движением вокруг острова Катандуанес»[170].
Беспорядок, от которого указанный декрет должен был стать противоядием, в значительной степени шел от официальных лиц и налоговых чиновников. Они верили, что универсальные фамилии облегчат управление правосудием, финансами и общественным порядком, упростят и установление степени кровного родства для будущих партнеров в браке[171]. Однако для прагматичного государственного деятеля с характером Клавериа окончательной целью был полный и четкий список подданных и налогоплательщиков. Это хорошо видно из краткой преамбулы к декрету: «Ввиду чрезвычайной полезности и практичности этой меры настало время выпустить руководство по созданию официального гражданского регистра [прежде функция церкви], который не только выполнит и обеспечит упомянутые цели, но и послужит основанием для сбора статистических данных по стране, обеспечит сбор налогов, ревностное исполнение службы и получение льготных выплат. Более того, он даст точную информацию о перемещении населения и таким образом поможет избегать неправомочной миграции, выявлять уклоняющихся налогоплательщиков и другие злоупотребления»[172].
Имея точные списки всех граждан колонии, Клавериа предложил каждому местному чиновнику заполнить таблицу в восемь колонок, в которые заносятся налоговые обязательства, общественные трудовые повинности, имя, фамилия, возраст, семейное положение, занятие и льготы. В девятой колонке, ежемесячно предоставляемой для проверки, отмечалось изменение статуса. Благодаря тщательности и единообразию эти записи позволяли бы государству собирать точные статистические данные о жителях Манилы с целью повышения финансовой эффективности управления. Огромная стоимость работ по присвоению фамилий всему населению, а также по составлению полного и четкого списка налогоплательщиков оправдывалась прогнозом, что список, составление которого могло стоить 20 тыс. песо, позволил бы во время сбора ежегодного налога получить одну или две сотни тысяч песо дохода.
А что, если филлипинцы проигнорируют свои новые фамилии? Мысль о такой возможности приходила в голову Клавериа, и он предпринял некоторые меры для того, чтобы имена вошли в обиход. Школьным учителям было приказано запрещать своим ученикам обращаться друг к другу или называть друг друга любым другим именем, кроме официального, присвоенного семье. Тех преподавателей, которые не проявляли должного рвения при выполнении этого предписания, наказывали. Поскольку школьный контингент был незначителен, вероятно, более эффективной мерой оказалось запрещение священникам, военным и гражданским должностным лицам принимать любой документ, заявление или ходатайство, в котором не использовались официальные фамилии. Документы, оформленные на неофициальные имена, не имели законной силы.
Как и следовало ожидать, практика значительно разошлась с административной утопией Клавериа о четких и регламентированных налогоплательщиках. Длительное использование таких явно неиспанских фамилий, как Магсау-сау или Макапагаль, наводило на мысль, что часть населения не выдержит подобного испытания. Местные чиновники представляли неполные отчеты или вообще их игнорировали. Существовала еще одна серьезная проблема, которую Клавериа предвидел, но не нашел способа с ней справиться. Новые регистраторы, как и предусматривалось, редко фиксировали прежние имена, которые использовались регистрируемыми лицами. Из-за этого чиновникам стало чрезвычайно трудно отслеживать в прошлом, до эпохи преобразования имен, наличие собственности и уплату налогов. Сам успех новой системы по непредусмотрительности лишил государство зрения.
Как это было с лесами, земельными владениями и перестроенными городами, практика введения фамилий сразу не помогала достичь того совершенства, к которому стремились проектировщики. Попытка провести перепись населения в 1872 г. потерпела полную неудачу, и до самой революции 1896 г. ее не пытались повторить. Однако к XX в. большинство филлипинцев уже носило фамилии, навязанные им Клавериа. Это объясняется увеличившимся влиянием государства на жизнь людей и его способностью настаивать на соблюдении своих законов.
Универсальные фамилии — относительно недавнее историческое явление. Обладая ясными и полными именами, да еще и возрастающим числом фиксированных адресов, государству становилось неизмеримо проще прослеживать право собственности и наследования, собирать налоги, поддерживать судопроизводство и деятельность по охране правопорядка, производить мобилизацию солдат на военную службу и контроль эпидемий. Государство, занимаясь полной инвентаризацией населения, преследовало утилитарные цели, но любопытно, что либеральные идеи введения гражданства, подразумевавшего право голоса на выборах и всеобщую воинскую повинность, также внесли значительный вклад в стандартизацию методов присвоения имен. Примером может служить законодательное присвоение постоянных фамилий западноевропейским евреям, у которых не было такой традиции. Декрет Наполеона «Concernant les Juifs qui n’ont pas de nom de famille et de prenoms fixes» (о евреях, не имеющих закрепленных фамилий и имен) в 1808 г. установил обязательность фамилий[173]. Австрийское законодательствов виде составляющей процесса социальной эмансипации потребовало от евреев выбрать себе фамилии, если же они отказывались, то обязаны были принимать фамилии, выбранные для них чиновниками. В Пруссии уровень социальной эмансипации евреев был пропорционален количеству принятых фамилий[174]. Многие иммигранты в Соединенные Штаты, евреи и не евреи, не имели постоянных фамилий, когда они решились переселиться в эту страну. Однако очень немногим удалось сделать это только с помощью своих основных документов до принятия официальной фамилии, которую до сих пор носят их потомки. Процесс присвоения фиксированных фамилий до сих пор продолжается во многих странах третьего мира и вдоль «территориальных границ народностей» в более развитых странах[175]. Конечно, на сегодняшний день имеется много других стандартных установлений государства, значительно улучшивших его возможности идентификации человека. Свидетельства о рождении и смерти, уточненные адреса (более конкретные, чем высказывание вроде: «Джон, живущий на холме»), удостоверения личности, паспорта, социальные номера, фотографии, отпечатки пальцев и введенные совсем недавно ДНК-профили заменили такой грубый инструмент, как постоянная фамилия. Но фамилия была первым и решающим шагом в создании четкого индивидуального гражданства и наряду с фотографией все еще занимает первое место в идентификационных документах.
Официальный язык
Культурный барьер, обусловленный наличием собственного языка, является, возможно, наиболее эффективной гарантией, что социальный мир, легкодоступный для восприятия изнутри, останется непрозрачным для чужаков[176]. Так же, как путешественнику или государственному чиновнику мог понадобиться местный проводник, чтобы не заблудиться в Брюгге XVI в., ему потребуется и местный переводчик, чтобы понимать и быть понятым в незнакомой языковой среде. Для автономии особый язык даже важнее, чем сложности топографии. В нем отражена своеобразная история, культура, литература, мифология и музыка[177]. В этом отношении уникальность языка представляет значительное препятствие для государственной осведомленности в делах автономии, не говоря уж о колонизации, контроле деятельности, обучении или пропаганде.
Из этого следует, что введение единого официального языка может быть самым могущественным средством государственных упрощений, являющимся предпосылкой многих других упрощений. Юджин Вебер на примере Франции предлагает рассматривать этот процесс как разновидность внутренней колонизации, при которой разноязычные провинции (такие, как Бретань и Аквитания) были лингвистически подчинены и культурно объединены[178]. С первых настойчивых шагов, направленных на использование французского языка, стало ясно, что целью государства была доступность местной практики для контроля, Чиновники настаивали, чтобы каждый юридически законный документ — будь то завещание, документ купли-продажи, акт ссуды, контракт, рента или имущественное дело — оформлялись на французском языке. Ведь документы на местном языке были труднодоступны для чиновника, присланного из Парижа, их было невозможно привести в соответствие с централистскими схемами юридической и административной стандартизации. Кампания лингвистической централизации имела определенные надежды на успех, так как она проводилась совместно с распространением государственной власти. К концу XIX в. взаимодействие с государством стало неизбежным для всех, кроме очень малой части населения. Петиции, судебные дела, школьные документы, заявления и обращения к должностным лицам были составлены на французском языке. Трудно даже представить себе более эффективный способ немедленного обесценивания местных знаний и приобретения привилегированного положения всеми теми, кто овладел официальным лингвистическим кодом. Это было гигантское изменение во власти. К тем, кто недостаточно владел французским, относились как к немым, к маргиналам. Им требовались местные проводники к новому государственному культурному слою, возникшему в лице юристов, нотариусов, школьных учителей, клерков и солдат[179].
Как можно было предполагать, за лингвистической централизацией скрывался культурный проект. Французский язык означал принадлежность к национальной цивилизации; целью его навязывания было не просто заставить провинциальных жителей усвоить кодекс Наполеона, но и познакомить их с Вольтером, Расином, парижскими газетами и приобщить к национальному образованию. По резкому замечанию Вебера, «не может быть более ясного выражения имперского чувства, чем приверженность белого человека франкофонии, чьи первые победы должны были быть одержаны в первую очередь дома»[180]. Там, где некогда господство латинского языка обусловило участие небольшой элиты в более широкой культуре, теперь власть французского языка определяла полноту участия во французской культуре. В иерархии культур проявлалась скрытая логика, низводящая местные языки и региональные культуры, в лучшем случае, к симпатичному провинциализму. Без всяких оговорок, на вершине этой пирамиды находился Париж и его учреждения: министерства, школы, академии (включая главного хранителя языка — l’Academic Francaise). Успех этого культурного проекта зависел как от возможностей принуждения, так и от побуждающих мотивов. «Это была централизация, — говорит Александр Сангвинетти, — которая позволила создать Францию, несмотря на сопротивление французов или их безразличие... Франция — тщательное политическое сооружение, для создания которого центральная власть никогда не прекращала борьбы»[181]. Стандартный (парижский) французский и Париж были не только фокусами власти; они были также центрами притяжения. Рост рынков, мобильность населения, новые карьеры, политическое покровительство, общественные службы и национальная образовательная система — все это означало, что освоение французского языка и связи с Парижем были путями социального продвижения и материального успеха. Такое государственное упрощение обещало вознаградить тех, кто подчинится ему,и наказать тех, кто его игнорирует.
Централизация дорожного движения
Централизация языка, состоявшая в навязывании парижского французского в качестве официального, сопровождалась централизацией дорожного движения. Как новая ситуация в языке сделала Париж центром национальной коммуникации, так и новые шоссейные и железнодорожные системы способствовали движению в Париж и обратно по межрегиональным или местным дорогам. Говоря на современном языке, государственная политика напоминала «подсоединение к интернету», которое сделало провинции более доступными, более прозрачными для центральных властей, чем могли вообразить даже абсолютные монархи.
Для наглядности представим себе нецентрализованную систему коммуникации, с одной стороны, и централизованную, с другой. Нецентрализованную систему можно представить в виде карты фактических маршрутов товаров и людей, не созданных по административному указу. Эти маршруты не были совсем случайными, они отражали удобство поездок по долинам, вдоль водоемов и вокруг ущелий, а также расположение важных ресурсов и обрядовых мест. Вебер хорошо улавливает и выражает богатство человеческой деятельности, оживляющей эти передвижения по дорогам: «Дороги служили профессиональным занятиям, были проложены специальные тропы стеклодувов, переносчиков и продавцов соли, гончаров. Существовали дороги, которые вели к кузницам, шахтам, карьерам и полям конопли, и маршруты, по которым лен, конопля, полотно и пряжа отвозились на рынок. По некоторым маршрутам шли паломники, по другим двигались процессии»[182].
Если ради чистоты аргументации представить себе место, где равномерно распределены физические ресурсы и нет никаких больших препятствий передвижению(таких, как горы или болота), тогда сформируется карта дорог, напоминающая систему капиллярного кровообращения (рис. 11).
Конечно, расположение дорог никогда не было полностью случайным. Рыночные города всегда представляли собой небольшие населенные пункты на удобных местах, рядом с религиозными святынями, карьерами, шахтами и другими важными объектами[183]. Во Франции сеть дорог издревле отражала централизующие амбиции местных правителей и национальных монархов. Однако цель такой идеализации состоит в изображении картины коммуникационных маршрутов, которые были бы только слегка отмечены государственной централизацией. Это во многих чертах напоминало бы городской пейзаж Брюгге конца XIV в., который был описан ранее.
Начиная с Кольбера, все государственные деятели, модернизировавшие Францию, стремились наложить на этот рисунок тщательно спланированную сетку административной централизации[184]. Эта сетка, никогда полностью не осознанная как таковая, должна была спрямить шоссе, каналы и в конечном счете железнодорожные линии, исходящие из Парижа, как спицы колеса (рис. 12).
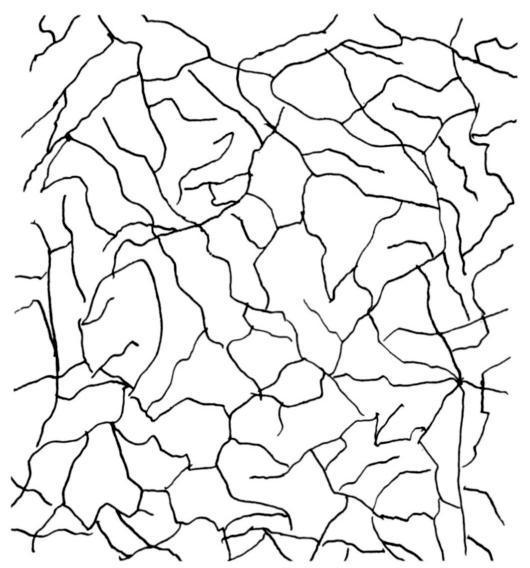
Подобие между этой сеткой и системой просек хорошо управляемого государственного леса, по мнению Кольбера, не было случайным. И то, и другое было изобретено для того, чтобы сделать максимально удобной связь и облегчить центральное управление. Используемое упрощение снова полностью соответствовало местоположению. Чиновнику из центра теперь было намного легче добираться до A или B по новым маршрутам. План дорог был разработан так, чтобы они «служили правительству и городам, а отсутствие сети вспомогательных путей объяснялось обычаями или потребностями народа. Административные шоссе, как назвал их один исследователь централизации, [были] построены так, чтобы по ним войска могли маршировать, а налоги — достигать казны»[185]. Однако желающему проехать или перевезти товары из A в B сделать это было не так просто. Подобно тому, как все документы должны были «пройти» официальную правовую проверку, так и большинство коммерческих грузов приходилось провозить через столицу.
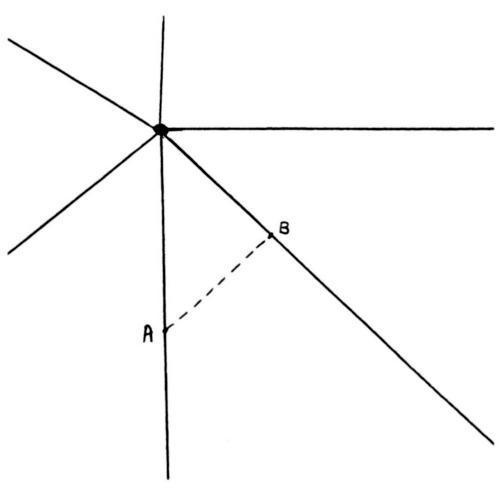
Интеллектуальной силой, движущей этим esprit geometrique, были и остаются прославленные инженеры Департамента мостов и дорог (Corps des Ponts et Chaussees)[186]. Виктор Легран, глава департамента, был создателем красивой идеи семи грандиозных путей сообщения, связывающих Париж с различными пунктами от Атлантики до Средиземноморья. Его план, известный под названием «Звезда Леграна», был предложен сначала для каналов, а затем, с большим эффектом, для железных дорог (среди них Северная и Восточная)[187].
Централизуя в первую очередь эстетически, этот план бросал вызов всем канонам коммерческой логики или рентабельности. Согласно первой части плана, дорога от восточной части Царижа до Страсбурга и границы пролегала прямо через плато Бри, а не через населенные пункты вдоль Марны. Эта железнодорожная линия, отказывающаяся ради геометрического совершенства следовать топографии, была разорительно дорога по сравнению с английскими или немецкими железными дорогами. Но армия тоже поддержала замысел Департамента мостов и дорог, считая, что прямые железнодорожные линии к границам будут выгодны в военном отношении. Это было опровергнуто самым трагическим образом во время Франко-Прусской войны 1870—1871 гг.[188]
Усовершенствования дорожного движения имели огромные последствия, большая часть которых была направлена на соединение провинциальной Франции и ее жителей с Парижем и государством, а также на облегчение развертывания войск из столицы для подавления гражданского волнения в любом районе страны. Использование дорог было нацелено на военный контроль над нацией, который в самой столице был уже достигнут Хаусманном. Это позволило Парижу (и государству) влиять на экономику за счет провинций, облегчить финансовый и военный контроль центра, а также ослабить побочные культурные и экономические связи, укрепляя иерархию власти. Одним ударом это отбросило отдаленные области на задворки — точно так же, как официальный французский оттеснил местные диалекты.
Заключение
Должностные лица современного государства допускают, как правило, по крайней мере одну ошибку (а чаще несколько подобных), удаляющую их от общества, за которое они взялись отвечать. Они оценивают жизнь общества по ряду параметров, всегда несколько отдаленных от целостной действительности, которую, как предполагается, отразят их абстракции. Таким образом, диаграммы и таблицы ученых-лесоводов, несмотря на их способность объединять отдельные факты в некую целостность, не вполне точно отражают (да и не для этого предназначены) реальный лес в его разнообразии. Точно так же кадастровая карта и документ права собственности являются грубыми, часто вводящими в заблуждение представлениями существующих фактических прав использования и распоряжения землей. Функционер любого большого ведомства «видит» интересующую его человеческую деятельность через призму упрощенных документов и приблизительных статистических данных: налогообложение, списки налогоплательщиков, земельные отчеты, среднестатистические доходы населения, число безработных, уровень смертности, данные о коммерческой деятельности и производительности, общее число случаев заболевания холерой в некотором районе.
Эта типизация необходима для управления государством. Государственные схематические упрощения, такие, как карты, переписи, кадастровые списки и стандартные единицы измерения, представляют способы отражения многообразной и сложной действительности, нужные для того, чтобы чиновники могли постичь общую картину и упростить сложную действительность до схематических категорий. Единственный путь выполнить это состоит в сведении бесконечного множества деталей в набор категорий, которые облегчат итоговые описания, сравнения и группирования. Изобретение, разработка и использование этих абстракций представляет, как показал Чарлз Тилли, огромный скачок в возможностях государства — в переходе от сбора дани и косвенного управления к налогообложению и прямому управлению. Косвенное управление, требующее лишь минимального государственного аппарата, было вынуждено опираться на местную элиту, которая была заинтересована придерживать ресурсы и информацию, идущие из центра. Прямое управление разожгло широко распространившееся сопротивление и поэтому вызвало частичное ограничение власти центра, но зато государственные чиновники впервые получили прямую информацию и приблизились к прежде темному и непонятному для них обществу.
Такова способность наиболее продвинутых методов прямого управления — при простом подытоживании известных фактов обнаруживать новые социальные истины. Центр по контролю заболеваний в Атланте служит этому убедительным примером. Сеть типовых больниц Центра позволила ему первому «обнаружить» — в эпидемиологическом смысле — такие ранее неизвестные болезни, как токсический шоковый синдром, болезнь легионеров и СПИД. Подобные типизированные факты являются могущественной формой государственного знания, позволяющей чиновникам вмешиваться на ранних стадиях в эпидемии, разбираться в экономических тенденциях, сильно влияющих на общественное благосостояние, оценивать, имеет ли проводимая ими политика желаемый успех, и строить политику, имея в распоряжении много решающих фактов[189]. Некоторые из этих компетентных вмешательств можно назвать буквально спасительными.
Способы, направленные на то, чтобы сделать общество более доступным для обозрения его правителями, стали значительно более изощренными, но управляющие ими политические мотивы изменились мало. Из них наиболее очевидны присвоение, контроль и манипуляция (в неуничижительном смысле). Государство, у которого нет надежных средств, чтобы пересчитать свое население и указать, где оно находится, оценить его благосостояние и наладить картографирование земли, ресурсов и поселений, может вмешиваться в жизнь общества только очень грубо. Общество, относительно труднодоступное для государства, может изолироваться от некоторых форм отлаженных государственных вмешательств, как охотно принимаемых (универсальные прививки), так и дающих почву для возмущения (личные подоходные налоги). Для вмешательства обычно используются местные уроженцы, которые знают общество изнутри и, вероятно, будут преследовать при этом свои собственные, частные интересы. Но без этого посредничества, а часто и с ним, действия государства будут неэффективными, требующими слишком больших усилий.
Непрозрачное общество мешает любому государственному начинанию, является ли его целью грабеж или общественное благосостояние. Пока интерес государства ограничен захватом нескольких тонн зерна и поимкой нескольких призывников, невежество государства еще не фатально. Однако, если государство требует от своих граждан изменения повседневных привычек (гигиена или здоровый образ жизни) или исполнения определенной работы (квалифицированный труд или обслуживание сложных механизмов), такое невежество уже опасно. Полностью понятное, доступное взору государства общество устраняет местную монополию на знания и обеспечивает своеобразную прозрачность государства благодаря единообразию кодексов, удостоверений, статистики, инструкций и мер измерения. Вероятно, одновременно оно создает новые преимущества позиций «на вершине» — для тех, кто владеет знаниями и имеет легкий доступ к дешифровке нового формата документов, создаваемого государством.
Вмешательства, которые допускает такое просматриваемое общество, могут, конечно, быть дискриминационными и даже смертоносными. Отрезвляющим примером служит бессловесное напоминание — карта, выпущенная городским статистическим центром Амстердама во время нацистской оккупации в мае 1941 г. (рис. 13)[190]. Вместе со списками граждан эта карта давала возможность примерно подсчитать еврейское население в городе, из которого были депортированы 65 тыс. граждан.
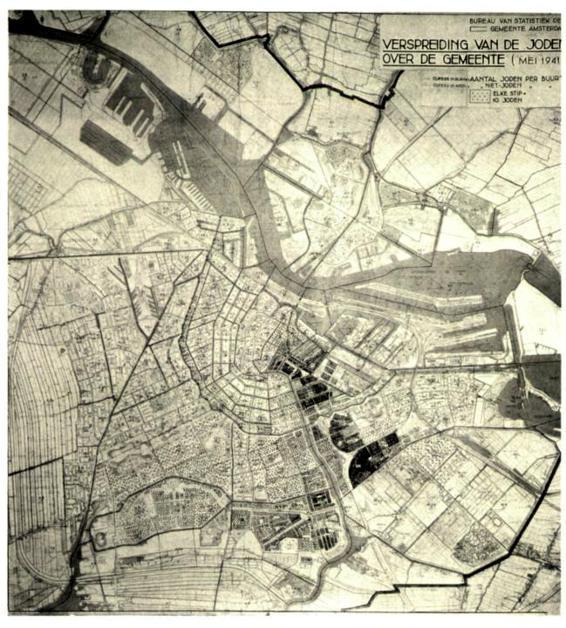
Карта называлась «Размещение евреев в муниципалитете». Схема, в которой каждая точка представляла десять евреев, без труда позволяла обнаружить районы, плотно ими заселенные. Такую карту удалось составить, не только приказав людям еврейского происхождения обязательно зарегистрироваться, но и проведя обычную регистрацию всего населения («исключительно исчерпывающую в Нидерландах»)[191], а также регистрацию деловой активности. В результате была получена детальная информация об именах, адресах и этническом происхождении (возможно, последнее определено по имени в списках населения или по заявлению) с картографической точностью, достаточной для воспроизведения такого статистического представления. Это делает очевидным вклад, который вносит подобная четкость в возможности государства.
Конечно, деятельность нацистских властей имела смертоносную цель, но средством для ее успешного выполнения стала четкость, обеспеченная властями Голландии[192]. Эта четкость, нужно подчеркнуть, просто усиливает способность государства к дискриминационным вмешательствам — способность, которая с той же легкостью могла быть использована для того, чтобы накормить евреев, а не депортировать их.
Доступность обозрению подразумевает наличие наблюдателя, который находится в центре и может разглядывать данный пейзаж. Виды государственных упрощений, которые мы рассматривали, предназначены для того, чтобы обеспечить власти схематическим представлением общества. Такое представление недоступно человеку, не имеющему властных полномочий. Подобно американским полицейским на скоростных шоссе, надевающим зеркальные солнцезащитные очки, власти с помощью своих упрощений получают возможность наблюдать только определенные аспекты жизни общества. Эта привилегированная позиция удобна для тех учреждений, где важнее всего управление и контроль сложной человеческой деятельности. Монастырь, казармы, заводские корпуса и административная бюрократия (производственная или общественная) выполняют много функций, подобных государственным, и часто подражают его информационной структуре.
Государственные упрощения можно рассматривать как часть продолжающегося «проекта создания четкости» — проекта, никогда полностью не осознанного. Данные, от которых отправляются такие упрощения и разворачиваются потом на разных уровнях, пронизаны погрешностями, упущениями, массой ошибок, мошенничеством, небрежностью, политическим искажением и т. д. План создания четкости присущ любому государственному управлению, стремящемуся к манипуляции обществом, но он подрывается соперничеством внутри государства, техническими препятствиями, и прежде всего сопротивлением самих объектов управления.
Государственные упрощения имеют по крайней мере пять заслуживающих внимания характеристик. Наиболее очевидно, что государственные упрощения касаются только тех аспектов социальной жизни, которые интересуют чиновников. Это утилитарные факты. Во-вторых, это почти всегда записанные (словесно или с помощью цифр) документальные факты. В-третьих, это обычно статичные факты[193]. В-четвертых, большинство типизированных государственных фактов являются также агрегированными, которые могут быть безличными (плотность сетей дорог) или просто собранием данных о людях (уровень занятости, уровень грамотности, способы проживания). Наконец, для большинства целей государственным чиновникам нужно сгруппировать граждан такими способами, которые позволят им сделать общую оценку. Следовательно, факты, которые могут быть соединены и представлены в усредненном виде или в распределениях, должны быть стандартизованными. Как бы ни были уникальны фактические особенности различных индивидуумов, составляющих данное сообщество, интерес представляет именно их сходство или, точнее, их различия по стандартизируемой шкале или континууму.
Процесс группировки стандартизированных фактов, по-видимому, требует по меньшей мере трех шагов. Первый и обязательный — создание общих единиц измерения или кодирования. Размер деревьев, земельный участок, метрическая система измерения земельной собственности или количества зерна, единообразная практика наименования, степные территории и городские участки стандартных размеров — вот какие единицы создаются для этой цели. На следующем шаге каждый объект или событие, попадающее в пределы категории, обсчитывается и классифицируется согласно новой единице оценки. Определенное дерево вновь появляется уже как представитель размера группы деревьев; определенный участок сельскохозяйственных угодий — как координаты кадастровой карты; определенная работа — как пример видов деятельности; определенный человек — как носитель имени соответственно новой формуле. Каждый факт должен быть обновлен и возвращен на ту стадию, где он находился прежде, облаченным в новую униформу официальной выработки — как часть «системы тотальной классификационной сетки»[194]. Только в таком «наряде» эти факты могут принимать участие в кульминации процесса — создании целостной совокупности новых фактов с помощью объединения, следующего логике новых единиц измерения. Наконец мы добираемся до обзорных фактов, которые используются чиновниками: столько-то тысяч деревьев в данной категории размера; столько-то тысяч мужчин в возрасте от 18 до 35 лет; столько-то хозяйств данного типа по площади; столько-то студентов, фамилии которых начинаются с буквы А; столько-то людей, больных туберкулезом. Объединяя несколько метрик совокупности, можно прийти к весьма тонким и сложным, прежде неизвестным истинам, включая, например, распределение туберкулезных больных по доходам и местам жительства в городе.
Называя такие детально разработанные артефакты знаний «государственными упрощениями», мы рискуем ввести читателя в заблуждение. Они вовсе не так просты, как кажутся, и чиновники часто владеют ими с большим искусством. Термин «упрощение» здесь имеет два особых смысла. Во-первых, данные, которые чиновник должен получить, сводятся в обзорную схему целого, они должны быть выражены на языке, на котором могут воспроизводиться вновь и вновь. В этом отношении факты должны терять свое своеобразие и вновь появиться в схематической или упрощенной форме уже как члены класса фактов[195]. Во-вторых, в значении, близко связанном с первым, группировка сводных фактов с необходимостью влечет за собой уничтожение или игнорирование различий, которые в другом отношении могли бы быть приняты во внимание.
Возьмем, например, упрощения, касающиеся занятости населения. Трудовая деятельность многих людей исключительно сложна и может меняться изо дня в день. Однако для официальной статистики определение «выгодная работа» является типизированным фактом: кто-то занимается выгодной работой, а кто-то нет. Кроме того, доступные характеристики многих специфических рабочих мест резко ограничены категориями, используемыми в совокупной статистике[196]. Те, кто занимается сбором и интерпретацией этих сгруппированных данных, понимают, что в их категориях содержится нечто вымышленное, произвольное качество и что они утаивают богатство проблемных вариантов. Однако, будучи установленными, эти скудные категории с необходимостью действуют так, как если бы все подобные классифицируемые случаи были в действительности гомогенны и единообразны. Все нормальные деревья (Normalbaume) в указанном диапазоне размеров подобны, вся почва в определенном классе почв статистически идентична, все автомобилестроители (если у нас классификация по промышленным специальностям) похожи, все католики (если у нас классификация по религиозным верам) одинаковы. Теодор Портер в своей работе о технической объективности указывает, что есть «сильный стимул предпочесть четкие и стандартизируемые измерения высокоточным», так как точность бессмысленна, если идентичная процедура не может быть надежно выполнена в другом месте[197].
К этой мысли я добавил бы довольно простую, даже банальную мысль об упрощении, абстракции и стандартизации, которые необходимы для определения государственными чиновниками обстоятельств жизни части населения или всего населения. Но я хочу сделать и следующее утверждение, аналогичное высказанному по поводу научного лесоводства: современное государство с помощью своих чиновников пытается с переменным успехом создать картину природы и населения с такими стандартизированными характеристиками, которые будут наиболее простыми при контроле, подсчете, оценке и управлении. Утопическая, неизменная, постоянно недостигаемая цель современного государства состоит в том, чтобы свести хаотическую, беспорядочную, постоянно изменяющуюся социальную действительность к чему-то такому, что было бы приближено к административной сетке наблюдений. Многое в искусстве управления государством XVIII и XIX вв. было уделено этому проекту. «В период перехода от дани к налогообложению, от косвенного управления к прямому, от подчинения к уравниванию, — замечает Тилли, — государства старались сделать свое население однородным и искоренить раздробленность, насаждая общие языки, религии, денежные единицы и юридические системы, а также создавая связанные между собой коммерческие системы, транспорт и связь»[198].
Как ученый-лесовод может мечтать о совершенном лесе, засаженном растениями одного возраста, одного вида, прямыми рядами на прямоугольном равнинном участке, очищенном от подлеска и без всяких браконьеров[199], так и требовательный государственный чиновник может стремиться к совершенно понятному населению с зарегистрированными отличительными именами и адресами, привязанными к плану поселений, населению, которое выбирает определенные классифицированные профессии, а свои сделки полностью документирует в соответствии с разработанной схемой и на официальном языке. Это карикатурное изображение общества утрировано, как и плац для военного парада, но та доля истины, которую оно несет, поможет понять те грандиозные планы, которые мы будем рассматривать[200]. Стремление к однородности и порядку предупреждает об опасности того несомненного факта, что современное управление государством является в значительной степени проектом внутренней колонизации, часто истолковываемой на языке империалистической риторики как «цивилизующая миссия». Строители современного национального государства не просто описывают, наблюдают и наносят на карту, они стремятся организовать людей и окружающий мир так, чтобы они подходили к их методам наблюдения[201].
Возможно, что эту тенденцию разделяют многие большие иерархические организации. Доналд Чизхолм в обзоре литературы по административному координированию делает вывод, что «центральные схемы координирования действительно эффективны при условиях, что заданное окружение известно и неизменно, и с ним можно обращаться как с закрытой системой»[202]. Чем более статично, стандартизировано и однообразно население или социальное пространство, тем оно четче и легче поддается техническим приемам государственных чиновников. Я полагаю, что юрисдикция власти сводит цель многих государственных деяний к преобразованию населения, пространства и природы в закрытые системы, не представляющие никаких неожиданностей и гораздо лучше наблюдаемые и контролируемые.
Государственные чиновники могут навязывать свои упрощения, так как государство в совокупности своих институциональных установлений наилучшим образом подготовлено к тому, чтобы настаивать на обращении с людьми согласно своей схеме. Таким образом, категории, которые когда-то были искусственными изобретениями кадастровых инспекторов, переписчиков населения, судебных исполнителей или полицейских, могут организовывать повседневную жизнь людей, поскольку они внедрены государством в специальные институты, структурирующие эту жизнь[203]. Экономический план, топографическая карта, отчет о собственности, план ведения лесного хозяйства, классификация по этнической принадлежности, банковский счет, протокол задержания и карта политических границ приобретают свою силу, так как все эти сводные данные являются отправными пунктами для действительности, как ее чувствуют и формируют государственные чиновники. При диктаторских режимах, где нет эффективного способа отстаивания другой реальности, фиктивные «бумажные» факты могут даже преобладать, потому что именно с помощью «бумаг» приводятся в готовность полиция и армия.
Эти бумажные отчеты — действенные факты в судебном разбирательстве, в административном досье и для большинства функционеров. В этом смысле для государства нет никакой истины, кроме той, которая зафиксирована в документах, специальным образом стандартизированных для этой цели. Ошибка в таком документе может иметь гораздо больше силы и удерживаться гораздо дольше, чем незаписанная истина. Например, для доказательства вашего права на недвижимость вам обычно предлагается воспользоваться документом, называемым актом о собственности, в судах и комиссиях, созданных для этой цели. Или же, чтобы ознакомиться с каким-нибудь положением закона, вы должны воспользоваться документом, который чиновники примут за доказательство вашего гражданства, будь то свидетельство о рождении, паспорт или удостоверение личности. Категории, используемые государственными деятелями, не просто предназначены делать окружение доступным и понятным: они создают мелодию власти, под которую должно танцевать большинство населения.
Задачей общественного патрулирования является, в частности, подготовка полицейских, хорошо знающих физическую структуру местности и особенно местное население, чья помощь сегодня считается жизненно важной для эффективной работы полиции. Все это предприятие направлено на то, чтобы сделать присланных на полицейскую работу чужаков своими для местного населения.
Никакой формальный порядок не может преодолеть такие противодействующие ему факторы, как бедность, преступность, социальная дезорганизация и враждебность к представителям власти. Одним из подтверждений неуправляемости этих районов является, в частности, сообщение Бюро переписи населения о том, что число непереписанных афроамериканцев в 6 раз превышает число непереписанных белых. Число лиц, не охваченных переписью, имеет серьезное политическое значение, так как именно цифры, полученные в результате переписи населения, определяют число мест в конгрессе, на которые имеет право тот или иной штат.
Часть 2. Преобразование взгляда
3. Авторитарный высокий модернизм
И вот, так же, как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни, увидел все: непреложные прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. И так: будто не целые поколения, а я — именно я — победил старого Бога и старую жизнь.
Евгений Замятин. Мы
Современная наука, которая сместила и заменила Бога, удалила его как ограничение свободы. Это создало вакансию: канцелярия высшего законодателя и управителя, проектировщика и администратора мирового порядка была теперь ужасающе пуста. Ее надо было заполнить... Пустота трона в течение эры модерна привлекала внимание визионеров и авантюристов. Мечта о всеобъемлющем порядке и гармонии оставалась такой же яркой, как всегда, но теперь ее осуществление казалось ближе, чем когда-либо, более, чем когда-либо, в пределах человеческих возможностей. Теперь во власти смертных землян было привнести ее в мир и обеспечить его господство.
Зигмунт Бауман. Современность и холокост
Все рассмотренные нами государственные упрощения изображают действительность картографически. Иными словами, они предназначены для привлечения внимания только к тем аспектам многосложного мира, которые имеют сиюминутный интерес для изготовителя карты. Жаловаться, что в картах опущены нюансы и детали, не имеет смысла, ведь и без этой информации карта выполняет свое предназначение. Если на ней зафиксировать каждый светофор, каждую выбоину, каждое здание, каждый кустик и каждое дерево в каждом парке, карта станет столь же большой и сложной, как сам город, который она изображает[204]. И это, конечно, скажется на цели картографии, которая по своей природе должна обобщать и суммировать. Карта — инструмент, предназначенный для выполнения определенной цели. Мы можем считать саму цель благородной либо преступной, но карта только выполняет свое предназначение или не в состоянии делать это.
Мы уже отмечали очевидную способность карт не только подытоживать, но и преобразовывать то, что они должны просто отображать. Этой способностью, конечно, обладает не сама карта, в власть, которой обладают смотрящие на нее[205]. Частная корпорация, стремящаяся максимально увеличить воспроизводство древесины и прибыль от нее, будет изображать свой мир согласно этой логике максимизации и будет использовать всю свою власть, чтобы доказать, что логика ее карты справедлива. Государство не имеет монополии на утилитарные упрощения. Но оно во всяком случае стремится к монополии на законное использование силы. Это делает понятным, почему с XVII в. до наших дней карты, имеющие наибольшую преобразовательную силу, изобретались и применялись таким мощным учреждением в обществе, как государство.
До недавнего времени способность государства навязывать обществу собственные схемы была ограничена его довольно скромными претензиями и ограниченными возможностями. Хотя утопические стремления к совершенному социальному контролю можно найти у мыслителей Просвещения, в монашеских и военных практиках, европейское государство XVIII в. в значительной степени оставалось всего лишь добывающим механизмом. Соответствует истине, что государственные чиновники, особенно при абсолютизме, наносили на карты намного больше поселений, землевладений, производственных и торговых предприятий, чем их предшественники,и что все они лучше извлекали доход, зерно и призывников из сельской местности. Но была некая ирония в их требовании абсолютной власти. Они испытывали недостаток в инструментах принуждения, в мелкоячеистой административной сетке, в детальном знании, которое позволило бы им более решительно экспериментировать с перестройкой общества. Чтобы дать полную волю их растущим амбициям, требовалось еще большее высокомерие, более мощные государственные машины, которые соответствовали бы задаче, и общество, которым они смогли бы легко завладеть. В середине XIX в. на Западе и в начале XX в. в других местах эти условия были налицо.
Я полагаю, что многие из наиболее трагических эпизодов государственного развития в конце XIX и в XX в. сопровождала особо губительная комбинация из трех элементов. Первый из них — это административное рвение, стремящееся навести порядок в природе и обществе, стремление, наблюдаемое в научном лесоводстве, но поднятое на более высокий и претенциозный уровень. Для его определения подходящим термином кажется «высокий модернизм»[206]. Этого стремления придерживались многие представители разных политических идеологий. Его главными носителями и выразителями были ведущие инженеры, проектировщики, технократы, администраторы высокого уровня, архитекторы, ученые и мыслители. Если вообразить пантеон или зал славы представителей высокого модернизма, там почти наверняка были бы имена графа Анри де Сен-Симона, Ле Корбюзье, Вальтера Ратенау, Роберта Макнамары, Роберта Мозеса, Жана Монне, шаха Ирана, Дэвида Лилиенталя, Владимира Ленина, Льва Троцкого и Джулиуса Ньерере[207]. Эти люди хотели пересмотреть и рационально перестроить все аспекты социальной жизни, чтобы улучшить условия существования человека. Как убеждение, высокий модернизм не был исключительной собственностью какого-нибудь политического направления; у него были, как мы увидим, и правые, и левые варианты. Второй элемент — безудержное использование власти современного государства как инструмента для реализации этих проектов. Третий элемент — ослабленное, обессиленное гражданское общество, которое не имеет возможности сопротивляться претворению этих планов в жизнь. Идеология высокого модернизма заставляет желать такой перестройки; современное государство обеспечивает средства для действий в соответствии с этим желанием; выведенное из строя гражданское общество выравнивает социальный ландшафт, чтобы строить эти утопические (или скорее антиутопические) общества.
Обратимся — коротко — к предпосылкам высокого модернизма. Здесь важно отметить, что многие грандиозные бедствия XX в., организованные государством, обусловлены работой правителей над грандиозными и утопическими планами переустройства общества. Можно считать, что утопизм — это высокий модернизм справа, чему самым показательным примером является, конечно, нацизм[208]. Массивная социальная перестройка при апартеиде в Южной Африке, планы шаха Ирана модернизации своей страны, организация деревень во Вьетнаме и гигантские схемы позднеколониального развития (например, схема Гезира в Судане) также могут служить примерами правого утопизма[209]. Но все же невозможно отрицать, что многое из тотальных, насильственно проведенных государством социальных перестроек двадцатого столетия было результатом работы прогрессивных, часто революционных элит. Почему?
Ответ, я полагаю, заключается в том, что эти деятели, пришедшие к власти на волне всеобъемлющей критики существующего общества и желания преобразовать его, принятые народом (по крайней мере, первоначально), получившие полномочия на преобразования, конечно, имели самые прогрессивные намерения. Они хотели использовать власть, чтобы в корне изменить привычки людей, их работу, образ жизни, моральный облик и взгляд на мир[210]. Они развернули то, что Вацлав Гавел назвал «арсеналом всеобъемлющей социальной перестройки»[211]. Утопические стремления сами по себе не опасны. Как заметил Оскар Уайлд, «на карту мира, на которой нет Утопии, не стоит даже смотреть — на ней нет единственной страны, где всегда обитает человечность»[212]. Но когда утопическая мечта насаждается правящей властью, пренебрегающей демократией, попирающей гражданские права, когда государственная власть использует самые невероятные средства для ее достижения, тогда искажается образ самой утопии. Если это происходит жестоко, с нарушением человеческих прав, значит, общество, подвергнутое таким утопическим экспериментам, не способно сопротивляться.
Что же такое тогда высокий модернизм? Это наиболее мощная (можно даже сказать, чрезмерно мускулистая) версия уверенности в научно-техническом прогрессе, которая связана с индустриализацией в Западной Европе и в Северной Америке приблизительно с 1830 г. до Первой мировой войны. Высокий модернизм зиждется на уверенности в вечном прогрессе, связанном с развитием научно-технического знания, расширением производства, рациональным устройством общества, возрастающим удовлетворением человеческих потребностей и, не в последнюю очередь, с возрастающим контролем над природой (включая человеческую природу), обязанным научному пониманию естественных законов[213]. Таким образом, высокий модернизм есть особая, подчеркнутая уверенность в перспективах применения технического и научного прогресса — обычно при посредстве государства — в каждой области человеческой деятельности[214]. Если, как мы видели, упрощенные, утилитарные описания государственных чиновников благодаря вмешательству государственной власти приводили факты в соответствие с их представлениями, тогда можно сказать, что высокомодернистское государство начиналось с детальных предписаний новому обществу и решительно намеревалось ввести их.
В конце XIX в. на Западе трудно было не быть модернистом того или иного толка. Кто мог не увлечься, даже не испытывать благоговейного ужаса перед огромными преобразованиями, вызванными наукой и промышленностью[215]? Любой,кому тогда было, скажем, 60 лет в Манчестере, в Англии, был свидетелем революции в производстве хлопка и текстиля, роста фабричной системы, использования пара и других новых механических устройств в производстве, замечательных крупных достижений в металлургии и транспорте (особенно ярким примером могут служить железные дороги) и появления дешевых товаров массового производства. Ошеломляющие достижения прогресса в химии, физике, медицине, математике и инженерном деле заставляли любого человека, даже только слегка соприкоснувшегося с миром науки, ожидать беспрерывного потока новых чудес (вроде двигателя внутреннего сгорания и электричества). Беспрецедентные преобразования XIX в. многих оставили на обочине этой дороги, но даже жертвы прогресса не могут не признать, что было нечто весьма революционное в этих преобразованиях. Все это сегодня звучит довольно наивно — мы стали более трезвыми, лучше понимаем пределы технологического прогресса и то, какую цену за него приходится платить, мы приобрели скептицизм эпохи постмодерна по отношению к любым обобщающим соображениям. Однако эта наша новая позиция не учитывает ту огромную роль, которую модернистские предположения играли в нашей жизни, в частности, тот огромный энтузиазм и революционную гордость, которые были неотъемлемым свойством высокого модернизма.
Открытие общества
Путь от описаний к предписаниям был результатом глубинной психологической тенденции. Юридические кодексы Просвещения отражали не обычаи и особую практику людей, они были попыткой создать культурное сообщество посредством кодификации и обобщения наиболее рациональных из этих обычаев и подавления наиболее темных и варварских[216]. Установление единых стандартов мер и весов по всему королевству имело более высокую цель, чем только создание более удобных условий для торговли — новые стандарты были предназначены выражать и продвигать новое культурное единство. Задолго до создания инструментов для совершения этой культурной революции мыслители Просвещения, такие как Кондорсе, предвидели день, когда они будут созданы. В 1782 г. Кондорсе писал: «Появившиеся в наши дни науки, объект которых — сам человек, прямая цель которых — счастье человека, будут развиваться не менее уверенно, чем физика, и радостная мысль, что наши потомки превзойдут нас в мудрости и просвещении, больше не иллюзия. Размышляя о природе моральных наук, нельзя не увидеть того, что, поскольку они основаны, как и подобает наукам, на наблюдении фактов, они должны следовать тем же самым методам, приобретать такой же язык, равно строгий и точный, достигая той же самой степени уверенности в результате»[217]. То, о чем мечтал Кондорсе, в середине XIX в. стало реальным утопическим проектом. Упрощение и рационализация, сначала применявшиеся к лесам, системе мер и весов, налогообложению и фабрикам, теперь применялись к обществу в целом[218]. Так родилась социальная инженерия. Но если фабрики и леса могли планировать и частные предприниматели, перестройку целых обществ могло проектировать только национальное государство.
Эта новая концепция роли государства представляла собой фундаментальное преобразование взгляда на мир. Прежде действия государства были в значительной степени ограничены теми людьми, которые увеличивали богатство и власть суверена, что хорошо показывает пример научного лесоводства и камеральной науки. Идея, что одной из главных целей государства должно быть совершенствование всех членов общества — их здоровья, навыков и образования, продолжительности жизни, производительности труда, морали и семейной жизни, была сравнительно новой[219]. Конечно, существовала прямая связь между старой концепцией государства и новой. Государство, которое совершенствует привычки своего населения, его энергию, гражданскую мораль и навыки работы, тем самым увеличивает свою налоговую базу и создает лучшие армии; это была политика, которой мог бы следовать любой просвещенный монарх. И все же в XIX в. благосостояние населения все более стало пониматься не просто как средство подъема национальных сил, но и как самостоятельная цель.
Одной из необходимых предпосылок этого преобразования было открытие общества как некоего отдельного от государства объекта, который можно научно описать. В этом отношении статистическое знание о населении — его возраст, характеристики, занятия, материальное положение, грамотность, владение собственностью, степень законопослушности (что видно из статистики преступлений) — позволяет государственным чиновникам характеризовать граждан новыми и сложными способами, так же, как научное лесоводство позволило леснику аккуратно описывать лес. Йен Хакинг объясняет, каким образом уровень, например, самоубийств или убийств характеризует людей вообще, так что можно рассчитать число убийств, которые будут совершены за год, хотя конкретные убийцы и их жертвы еще неизвестны[220]. Статистические факты позволили разработать социальные законы. От упрощенного описания общества к его проектированию и манипуляциям с ним во имя его совершенствования — шаг небольшой. Если можно менять природу, чтобы создавать более удобный для человека лес, почему бы не изменить общество, чтобы создать более удобное население?
Возможности вмешательства потенциально бесконечны. Общество стало объектом, которым государство могло управлять и которое оно могло совершенствовать. Прогрессивное национальное государство приступает к проектированию общества согласно наиболее продвинутым техническим стандартам новых моральных наук. Существующий социальный порядок, который более ранними государствами принимался как данность, впервые стал предметом активного управления, воспроизводя себя под бдительным присмотром государства. Оказывается, можно проектировать искусственное общество не по обычаю и произволу истории, а согласно сознательным, рациональным, научным критериям. Каждый укромный уголок, каждая извилина социального порядка могли подвергнуться улучшению: личная гигиена, питание, воспитание детей, жилье, состояние, отдых, структура семьи и, самое позорное, генетический фонд[221]. Первым объектом научного социального планирования стали бедные рабочие[222]. Системы улучшения их повседневного благосостояния разрабатывались прогрессивной городской здравоохранительной политикой и насаждались в образцовых фабричных городах недавно созданными организациями. Группы населения, признанные потенциально опасными, — нищие, бродяги, психически больные и преступники — могли стать объектами наиболее интенсивной социальной инженерии[223].
В метафоре садоводства, предлагаемой Зигмунтом Бауманом, заложено многое из этого нового духа. Садовник — возможно, здесь больше подойдет ландшафтный архитектор, специализирующийся в создании садов, — берет естественный участок и создает полностью искусственное пространство ботанического порядка. Хотя органический характер флоры ограничивает его возможности, садовник все же имеет огромную свободу действий в общем размещении и возделывании, обрезке, насаждении и выпалывании отобранных растений. Отношение между садом и природой, которая живет сама по себе, подобно отношению между полностью управляемым научным лесом и естественным лесом. Сад — одна из попыток человека навязать природе собственные принципы порядка, полезности и красоты[224]. То, что растет в саду, всегда представляет собой небольшой, сознательно отобранный образец того, что там могло бы расти. Точно так же социальные инженеры намереваются сознательно проектировать и поддерживать более совершенный социальный порядок. Вера Просвещения в самосовершенствование человека превратилась постепенно в веру в совершенствование социального порядка.
Один из самых больших парадоксов социальной инженерии состоит в том, что она, кажется, вообще находится в разногласии со всем опытом современности. Пытаясь искусственно вырастить социальный мир, наиболее поразительная характеристика которого в реальности — текучесть, «садовники» пытаются управлять вихрем. Маркс был не одинок в своем утверждении, что «постоянная реконструкция производства, непрерывное встряхивание всех социальных отношений, постоянная неуверенность и ажитация отличают буржуазную эпоху от всех более ранних времен»[225]. Опыт современности (в литературе, искусстве, промышленности, транспорте и популярной культуре) — прежде всего опыт ускорения изменений, который самозванные модернисты находят бодрящим и освобождающим[226]. Возможно, наиболее благотворный путь решения этого парадокса — понять таких проектировщиков общества, ведь они имели в виду приблизительно то, что проектировщики автомобилей и самолетов называют «обтекаемой формой». Они не стремились задержать социальные изменения, а надеялись спроектировать форму социальной жизни, которая минимизирует трение прогресса. Но государственная социальная инженерия врожденно авторитарна. Вместо многих источников изобретений и внесения изменений допускается единственный — планирующая власть; вместо пластичности и самостоятельности существующей социальной жизни устанавливается социальный порядок, в котором положения участников четко обозначены. Тенденция к различным формам социальной таксидермии — искусственной жизни — была неизбежна.
Радикальная власть высокого модернизма
Реальность состоит в том, что на сей раз мы собираемся применить науку к социальным проблемам и поддерживаем ее всей силой государства, так же, как в прошлом всей силой государства поддерживались войны.
К.С. Льюис. Эта отвратительная сила
Тревожащие особенности высокого модернизма проистекают главным образом из его претензий на усовершенствование условий человеческого существования от имени научного знания и отрицания всех иных, конкурирующих источников суждения.
Прежде всего и самое главное — высокий модернизм полагает возможным радикально порвать с историей и традицией. Поскольку современная рациональная мысль и научные законы могут дать единственно верный ответ на каждый эмпирический вопрос, ничто не должно считаться само собой разумеющимся. Все человеческие привычки и способы действий, которые достались нам в наследство и, следовательно, не были основаны на научном рассуждении, — от структуры семьи и места жительства до моральных ценностей и способов производства — должны быть заново исследованы и спроектированы. Конструкции прошлого были типичным продуктом мифа, суеверия и религиозных предрассудков. Из всего этого следовало, что научно разработанные системы производства и социальной жизни будут лучше традиционных.
Источники такого представления глубоко авторитарны. Из суждения, что запланированный социальный порядок лучше случайного, сложившегося в результате исторической практики, следуют два заключения. Для управления в новую эпоху пригоден только тот, кто владеет научным знанием, позволяющим различать и создавать этот превосходящий прошлое социальный порядок. Более того, тот, кто по своему ретроградному невежеству отказывается уступить научному плану, должен быть образован для собственной же пользы, в противном случае его сметут с пути. Сильные версии высокого модернизма, вроде тех, которых придерживались Ленин и Ле Корбюзье, культивировали безжалостность по отношению к объектам их вмешательств. Наиболее радикальный высокий модернизм предлагал все дочиста стереть и начать с нуля[227].
Идеология высокого модернизма, таким образом, склонна недооценивать или вообще изгонять политический подход. Политические интересы могут только мешать социальным решениям, выдвинутым специалистами с адекватными научными инструментами анализа. Как частные люди приверженцы высокого модернизма могли придерживаться довольно демократических взглядов на народный суверенитет или классических либеральных представлений о неприкосновенности частной сферы, обязывавших к определенным ограничениям права на вмешательство, но такие убеждения были чисто внешними и шли вразрез с их высокомодернистскими взглядами.
Хотя высокие модернисты и хотели преобразовать социальные привычки и человеческий характер, начали они не с этого, а с непомерного стремления преобразовать природу на пользу человека — стремления, которое оставалось самым важным в их вере. Интеллектуалы почти всех политических убеждений были заворожены утопическими идеями, пленены победной песнью техническому прогрессу, которая прозвучала в Коммунистическом Манифесте Маркса и Энгельса: «Покорение сил природы, машинное производство, применение химии в промышленности и земледелии, пароходство, железные дороги, электрический телеграф, освоение для земледелия целых частей света, приспособление рек для судоходства, целые, словно вызванные из-под земли, массы населения»[228]. Эти перспективы капиталистического развития стали для Маркса отправной точкой социализма, который впервые поставит плоды капитализма на службу рабочему классу. В конце XIX в. интеллектуальная атмосфера была полна такими обширными техническими проектами, как Суэцкий канал, который был закончен в 1869 г. и имел огромные последствия для торговли между Азией и Европой. Страницы «Le globe», органа утопических социалистов, придерживающихся взглядов Сен-Симона, заполнял бесконечный поток обсуждений таких грандиозных проектов, как строительство Панамского канала, развитие Соединенных Штатов, перспективные системы передачи энергии и транспорта. Вера в то, что человек покорит природу, удовлетворит свои интересы и обеспечит безопасность, составляла, вероятно, краеугольный камень высокого модернизма частично и потому, что успех столь многих великих начинаний уже проявился[229].
И снова, еще раз стал ясен авторитарный и пренебрегающий индивидуальностью характер этой мечты. Сам масштаб таких проектов подразумевал, что за немногими исключениями (такими, как ранние каналы) они потребуют больших финансовых вливаний через налоги или кредит. Даже если предположить, что в капиталистической экономике они будут финансироваться частным образом, неминуемо потребуется сильная государственная власть, способная отменять частную собственность, перемещать людей против их желания, гарантировать ссуды или выполнение требуемых обязательства и координировать работу многих государственных организаций. В обществе, в котором индивидуальность не имеет значения, будь это Франция Луи Наполеона или Советский Союз Ленина, такая власть была уже включена в политическую систему. В демократическом обществе такие задачи потребовали бы создания новых общественных организаций — суперагентств, имеющих полномочия от правительства посылать людей на Луну или возводить дамбы, проводить ирригационные работы, строить дороги и системы общественного транспорта.
Излюбленное время высокого модернизма — почти исключительно будущее, хотя любая идеология, основанная на вере в прогресс, выделяет будущее время. Прошлое — это препятствие, история, которую надо преодолеть; настоящее — стартовая площадка для запуска в лучшее будущее. Ключевая характеристика как высокомодернистских рассуждений, так и публичных заявлений глав тех государств, которые им охвачены, это полная уверенность в героическом продвижении к целиком преобразованному будущему миру[230]. Стратегически выбор такого будущего связан с определенными последствиями. В той степени, в какой грядущее известно и достижимо, а вера не позволяет сомневаться в этом — в завтрашних выгодах можно не сомневаться. Практический эффект должен убедить большинство высоких модернистов, что уверенность в лучшем будущем оправдывает многие краткосрочные жертвы, требуемые, чтобы получить туда доступ[231]. Повсеместная распространенность пятилетних планов в социалистических государствах — пример этого убеждения. Прогресс воплощается в ряде предвидимых целей, в значительной степени материальных и измеримых, которые должны быть достигнуты посредством экономии труда и капитальных вложений. Конечно, не может быть никакой альтернативы планированию, особенно когда безотлагательность единственной цели, такой, как победа в войне, требует подчинения ей всего остального. Однако внутренняя логика подобного упражнения подразумевает такую степень уверенности в будущем, в вычислимости средств, ведущих к цели, и в смысле человеческого существования, которое является поистине героическим. Такие планы должны бы часто корректироваться или уж быть совсем оставлены, но это требует такого героизма, который выходит за рамки человеческих возможностей.
В этом толковании высокий модернизм должен обращаться к классам и стратам, которые, разделяя такой взгляд на мир, больше всего выиграют — в статусе, власти и богатстве. И, действительно, это — идеология преимущественно бюрократической интеллигенции, технологов, планировщиков и инженеров[232]. Их положение подразумевает не только права и привилегии, но и ответственность за великую работу создания нации и социального преобразования. А если историческая миссия интеллигенции состоит в том, чтобы перетащить свой технически отсталый, необученный, ориентированный только на выживание народ в XX в., принятая на себя культурная роль воспитателя своего народа становится вдвойне грандиозной. Наличие столь широкой миссии может преисполнить правящую интеллигенцию высокой моралью, солидарностью и готовностью приносить (и навязывать другим) жертвы. Это видение великого будущего часто резко контрастирует с беспорядком, нищетой и непристойной схваткой за мелкие преимущества, которые у всех перед глазами. И легко представить, что чем более неподатлив и упорен реальный мир, перед которым стоит планировщик, тем больше потребность в утопических планах, заполняющих пустоту, от которой иначе можно впасть в отчаяние. Те, кто неявно разрабатывают такие планы, представляют себя как образцы для изучения прогрессивных представлений, к которым их соотечественники могли бы стремиться. Учитывая идеологические преимущества высокого модернизма как учения, можно не удивляться тому числу представителей избранной постколониальной верхушки, которые прошли под ее знаменем[233].
Задним числом, конечно, легко судить, однако эта малопривлекательная картина деяний высокого модернизма все же в некотором важном отношении чрезвычайно несправедлива. Если поместить происхождение высокомодернистской веры в надлежащий исторический контекст, если спросить, кто были врагами высокого модернизма, появляется гораздо более внятный образ. Доктора и реформаторы здравоохранения, овладевшие новым знанием, которое могло спасти миллионы жизней, часто шли наперекор распространенным предрассудкам и укоренившимся политическим интересам. Городские архитекторы, которые могли так перепроектировать городское жилье, чтобы сделать его более дешевым, более здоровым и более удобным, были ограничены интересами торговли недвижимостью и существующими вкусами. Изобретатели и инженеры, предложившие новые, революционные способы получения энергии и транспортировки, сталкивались с противодействием промышленников и работников, опасавшихся уменьшения прибыли и числа рабочих мест.
Для высоких модернистов XIX в. научное господство над природой (включая и человеческую) было символом освобождения. Оно, по наблюдению Дэвида Харви, «обещало свободу от скудости, неудовлетворенных желаний и произвола стихий». «Развитие рациональных форм социальной организации и рациональных способов мышления обещало освобождение от иррациональности мифа, религии, суеверий, освобождение от произвола власти, а также от темной стороны нашей человеческой природы»[234]. Прежде чем обратиться к более поздним версиям высокого модернизма, мы должны напомнить два важных факта о его развитии в XIX в.: во-первых, практически каждое высокомодернистское вмешательство было предпринято при поддержке граждан, ищущих помощи и защиты, а во-вторых, все мы так или иначе испытали на себе благотворное влияние различных высокомодернистских систем.
Высокий модернизм XX в.
Идея радикальной рациональной перестройки социального порядка в целом, создание рукотворных утопий — в значительной степени явление XX в. И совокупность исторических обстоятельств оказалась особенно благоприятной для процветания идеологии высокого модернизма. К этим обстоятельствам относятся прежде всего кризисы государственной власти, возникающие в результате войн и экономических депрессий, и ситуации, в которых увеличивается способность государства беспрепятственно планировать жизнь своих граждан, такие, как революционное завоевание власти или колониальное правление.
Индустриальные войны XX в. потребовали беспрецедентных шагов к полной мобилизации общества и экономики[235]. Даже весьма либеральные страны, такие как Соединенные Штаты и Англия, в условиях военной мобилизации стали обществами, непосредственно руководимыми административными ведомствами. Всемирная депрессия 30-х годов также толкала либеральные государства на крупные эксперименты в социальном и экономическом планировании в стремлении уменьшить экономическое бедствие и сохранить законопослушность народа. В случаях войны и депрессии общество под давлением обстоятельств возвращается к централизованному управлению. В эту же категорию хорошо укладывается и послевоенное восстановление разрушенного войной хозяйства.
Революционные преобразования и колониализм, обладающие необычной властью, скатываются к высокому модернизму по различным причинам. Революционное государство, победившее прежний режим, часто имеет от своих приверженцев мандат на переделку обессиленного гражданского общества, мало способного к активному сопротивлению[236]. Тысячелетние ожидания, обычно связываемые с революционными движениями, дают стимул высокомодернистским амбициям. Колониальные режимы, особенно позднеколониальные, часто оказывались полем для обширных экспериментов по социальной перестройке[237]. Идеология «колониализма благосостояния» в сочетании с авторитарной властью, свойственной колониальному правлению, поощряла честолюбивые схемы переделки местных обществ.
Очень трудно точно определить место и время рождения высокого модернизма XX в., а также того конкретного человека, которому он обязан своим рождением, поскольку высокий модернизм имел много интеллектуальных источников. Все же наиболее ярким примером является немецкая мобилизация в период Первой мировой войны и личность Вальтера Ратенау, тесно с ней связанного. Немецкая экономическая мобилизация была технократическим чудом войны. То, что Германия продолжала держать армии на поле боя и, соответственно, снабжать их гораздо дольше, чем это было возможно, по мнению большинства наблюдателей, в значительной степени объяснялось планированием Ратенау[238]. Инженер, глава крупнейшей электрической фирмы A.E.G. (Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft), основанной его отцом, Ратенау отвечал за доставку военного сырья (Kriegsrohstoffabteilung)[239]. Он понял, что рациональное планирование сырья и транспорта — ключ к поддержанию военных усилий. Шаг за шагом изобретая плановую экономику, Германия совершила подвиг — в индустриальном производстве, производстве боеприпасов и поставке вооружения, транспортировке и контроле движения, контроле за ценами и нормировании продуктов — шаг, никогда и никем прежде не предпринимавшийся. Этапы планирования и координации требовали беспрецедентной мобилизации призывников, солдат и военизированной индустриальной рабочей силы. В результате появилась идея создания «управляемых массовых организаций», которые должны были охватывать все общество[240].
Вера Ратенау в распространение планирования и рационализацию производства была основана на интеллектуальной связи между законами термодинамики, с одной стороны, и новыми прикладными науками, изучавшими деятельность человека, с другой. Для многих специалистов узкий и материалистический «продуктивизм» позволял понимать человеческую рабочую силу как механическую систему, которую можно проанализировать на языке физики работы. Упрощение человеческой деятельности до механической полезной работы ведет прямо к научному контролю за целостным трудовым процессом. Материализм конца XIX в., как подчеркивает Ансон Рабинбах, в своем метафизическом ядре содержал эквивалентность технологии и физиологией[241].
Продуктивизм имел по крайней мере два разных места происхождения: североамериканское и европейское. Исследования американца Фредерика Тейлора деятельности рабочего, разложенной на изолированные, точные, повторяемые движения, привели к настоящей революции в организации работы фабрики[242]. Фабричному менеджеру или инженеру недавно изобретенные сборочные линии позволили использовать малоквалифицированную рабочую силу и контролировать не только темп производства, но и трудовой процесс в целом. Европейская традиция «энергетики», которая сосредоточилась на вопросах движения, усталости, отдыха, рациональной гигиены и пищи, также представляла себе рабочего как машину, хотя и машину, которая должна хорошо питаться и сохранять нормальное рабочее состояние. Вместо конкретных рабочих рассматривался абстрактный, стандартизированный субъект, обладающий усредненными физическими силами и потребностями. Работа института кайзера Вильгельма (Kaiser Wilhelm Institut fur Arbeitsphysiologie), занимавшегося физиологией трудовой деятельности, подобно тейлоризму, была основан на системе рационализации функционирования органов тела[243].
Обе эти традиции были примечательны тем, что в них глубоко верили образованные элиты, которые во всем остальном придерживались противоположных точек зрения, особенно в политике. «Тейлоризм и технократия были лозунгами, идеалистическими в трех направлениях: устранении экономического и социального кризиса, увеличении — с помощью науки — производительности труда и восстановлении магии технологии. Образ общества, в котором социальный конфликт устранен и заменен чисто технологическими и научными проблемами, мог захватить либерала, социалиста, авторитариста и даже коммуниста или фашиста. Продуктивизм, короче говоря, был политически разнороден»[244]. Обращение правых и центристов к той или иной форме продуктивизма в значительной степени объяснялось надеждой на его возможности технологически справиться с классовой борьбой. Если, как утверждали сторонники продуктивизма, с его помощью можно значительно увеличить объем продукции, то политику перераспределения можно заменить классовым сотрудничеством, в котором и прибыль, и заработная плата будут расти одновременно. Многим левым продуктивизм обещал замену капиталиста инженером, государственным экспертом или чиновником. Он также предлагал единственное оптимальное решение, или «лучшую практику», для любой проблемы в организации труда. Логическим результатом была бы некоторая форма уравнительного авторитаризма, устраивающая, возможно, всех[245].
Сочетание глубоких знаний Ратенау в философии и экономике с его опытом планирования в военное время, а также социальные последствия, которые он связывал с точностью, распространением и преобразовательным потенциалом электроэнергии, позволили ему сделать полезные выводы для социальной организации. Во время войны частная промышленность открыла дорогу своего рода государственному социализму: «гигантские индустриальные предприятия вышли за пределы их якобы частных владельцев и всех законов о собственности»[246]. Требуемые решения не имели никакого отношения к идеологии; они диктовались чисто техническими и экономическими требованиями. Правление специалистов и новые технологические возможности, особенно разветвленные сети электроэнергии, сделали возможным новый социально-индустриальный порядок, который был и централизован, и локально автономен. В необходимом во время войны объединении индустриальных фирм, технократов и государства Ратенау усмотрел форму прогрессивного общества мирного времени. Поскольку технические и экономические условия реконструкции были очевидны и требовали того же вида сотрудничества во всех странах, рационалистическая вера Ратенау в планирование имела еще и интернациональное значение. Он характеризовал современную эпоху как «новый машинный порядок... а также консолидацию мира в бессознательную ассоциацию самоограничения, в непрерывное сообщество производства и гармонии»[247].
Мировая война была высшей точкой политического влияния инженеров и планировщиков. Увидев, что произошло в чрезвычайных обстоятельствах, они представили себе, что было бы, если бы такая энергия и такое планирование были направлены на народное благосостояние, а не на массовое разрушение. Вместе со многими политиками, промышленниками, лейбористскими лидерами и видными интеллектуалами (такими, как Филип Гиббс в Англии, Эрнст Юнгер в Германии и Гюстав Ле Бон во Франции) они пришли к выводу, что только обновленная и всесторонняя деятельность, посвященная техническим инновациям и планированию, может восстановить европейскую экономику и принести социальный мир[248].
Сам Ленин, пораженный достижениями немецкой индустриальной мобилизации, был убежден, что они открывают путь социализации производства. Вера Ленина в неизменность открытых Марксом законов социальной жизни, родственных законам развития Дарвина, сравнима только с его убежденностью, что новые технологии массового производства основаны на научных законах, а не на социальных конструкциях. Всего за месяц до революции октября 1917 г. он писал, что война «ускорила развитие капитализма в такой громадной степени, преобразовывая монополистический капитализм в государственно-монополистический, что ни пролетариат, ни революционные мелкобуржуазные демократы не могут уже удержаться в рамках капитализма[249]. Он и его экономические советники в планировании советской экономики основывались непосредственно на работе Ратенау и Моллендорфа. Для Ленина немецкая военная экономика была «окончательна в современных, крупномасштабных капиталистических методах планирования и организации»; он выбрал ее в качестве прототипа социалистической экономики[250]. Если бы рассматриваемое государство было в руках представителей рабочего класса, базис социалистической системы уже существовал бы. Ленинское представление о будущем очень напоминало взгляд Ратенау, но, конечно, если оставить в стороне не столь уж мелкий вопрос о революционном захвате власти.
Ленин высоко оценил преимущества тейлоризма на фабричном уровне, предлагая их для социалистического контроля над производством. И хотя раньше он осуждал эти методы, называя их «потогонной системой», ко времени революции он стал восторженным поклонником существующего в Германии систематического контроля за производством, расхваливая «принцип дисциплины, организации и гармоничного сотрудничества, основанного на современнейшей механизированной промышленности, наиболее твердой системе ответственности и контроля»[251].
«Последнее слово капитализма, система Тейлора, как и весь капиталистический прогресс, является сочетанием тонкой изворотливости буржуазной эксплуатации и множества ее больших научных достижений в анализе механических действий в процессе работы, устранения лишних и неуклюжих движений, правильной работы правильными методами, введения лучшей системы бухгалтерского учета и контроля и т. д. Советская республика должна любой ценой использовать все, что является ценным в достижениях науки и техники в этой области... Мы должны организовать в России изучение системы Тейлора и обучение ей, систематически опробовать ее и приспособить к нашим целям»[252].
В 1918 г., при спаде производства, Ленин, призывая к твердым нормам работы, был готов, если это окажется необходимым, снова ввести ненавистную сдельщину. В 1921 г. был созван Первый Всероссийский съезд по научной организации труда и вызвал споры между сторонниками тейлоризма и энергетики (также называемой «эргономикой»). По крайней мере двадцать институтов и многие журналы были в то время в Советском Союзе целиком посвящены научному управлению. Командная экономика на макроуровне и тейлористские принципы центральной координации на микроуровне фабрики были привлекательными и хорошо сочетались в сознании такого авторитарного высокого модерниста и революционера, каким был Ленин.
Несмотря на соблазны, которые в XX в. привлекали людей к высокому модернизму, эти идеи часто встречали сопротивление. Причины были сложные и разные. Я не собираюсь подробно исследовать все потенциальные препятствия высокомодернистскому планированию,но один барьер, установленный либеральными демократическими идеями и учреждениями, заслуживает внимания. Три фактора здесь кажутся решающими. Первый — существование частной сферы деятельности и вера в то, что государство и его организации не могут по закону в нее вмешиваться. Безусловно, эта зона автономности уже изживала себя, так как, по Мангейму, частная сфера постепенно становилась объектом государственного вмешательства. В работе Мишеля Фуко была сделана попытка систематизировать эти вмешательства государства в здоровье, сексуальность, психические болезни, бродяжничество и проанализировать стратегии, лежащие в их основе. Несмотря на это, сама идея неприкосновенности приватного мира служила фактором ограничения амбиций многих высоких модернистов посредством либо их собственных политических ценностей, либо правильного отношения к политической буре, которую вызвали бы такие вмешательства.
Второй фактор, тесно связанный с первым, — частный сектор в либеральной политической экономике. Как выразился Фуко, в отличие от абсолютизма и меркантилизма «политическая экономия объявляет невозможным определить, какой из множества экономических процессов является независимым, и, как следствие, считает невозможным экономический суверенитет»[253]. Мысль либеральной политической экономии состояла не только в том, что свободный рынок защищает собственность и созданное богатство,но и в том, что экономика слишком сложна для того, чтобы когда-либо детально управляться иерархической администрацией[254].
Третье и, пожалуй, наиболее важное препятствие радикальному применению высокомодернистских схем — деятельность представительских учреждений, через которые могло проявляться общественное сопротивление. Такие учреждения мешали реализации наиболее жестких высокомодернистских схем приблизительно таким же путем, которым гласность и мобилизация оппозиции в открытых обществах, как показал Амартия Сен, предотвращают голод. Правители, замечает он, не допускают голода и готовы его заблаговременно предупредить, если их положение зависит от внешних факторов. Свобода слова и печати гарантирует широкое распространение информации о надвигающемся голоде, а свобода собраний и выборов в представительские учреждения заставляет избранных чиновников по возможности предотвратить голод, поскольку это отвечает интересам их самосохранения. Так что при либеральных демократических установлениях деятели, предлагающие высокомодернистские системы, должны приспосабливаться к мнению граждан, чтобы быть избранными.
Но высокий модернизм, не сдерживаемый либеральной политической экономией, лучше всего может быть понят через разработку его далеко идущих притязаний и их последствий. Именно к этому, к практической топографии в городском планировании и революционным рассуждениям по этому поводу мы теперь обратимся.
Моне, как и Ратенау, имел опыт экономической мобилизации в течение Первой мировой войны,когда помогал организовывать трансатлантическую поставку военной помощи Британии и Франции, этим же он вновь занимался в период Второй мировой войны. Помогая планировать послевоенную интеграцию французского и немецкого угольного и стального производства, он уже имел длительный опытв наднациональном управлении. См. Duchene Francois, Monnet Jean. The First Statesman of Interdependence. New York: Norton, 1995.
4. Высокомодернистский город: эксперимент и критический анализ
Никто, мудрый Кублай, не знает лучше Вас, что никогда не нужно смешивать город и слова, которые его описывают.
Итало Кальвино. Невидимые города
Время — фатальное препятствие барочной концепции мира: его механический порядок не делает никаких послаблений на рост, изменение, адаптацию и творческое возобновление. Коротко говоря, барочный план был одномоментным. Он должен был быть выстроен одним ударом, установлен и заморожен навеки, как будто созданный вдруг аравийской ночью гением. Для такого плана нужен архитектурный деспот, работающий на абсолютного правителя, который будет жить достаточно долго, чтобы воплотить собственные представления. Изменять этот план, вводить новые элементы из иного стиля означало бы нарушить его эстетическую основу.
Льюис Мамфорд. Город в Истории
В эпиграфе из Мамфорда к этой главе речь идет о Вашингтоне Пьера-Шарля Ланфана в частности и о барочном городском планировании вообще[255]. Критику такого же плана, только более мощную, можно направить в адрес мысли и деятельности швейцарского франкоязычного эссеиста, живописца, архитектора и планировщика Шарля Эдуарда Жаннере, больше известного под именем Ле Корбюзье. Жаннере являл собой живое воплощение высокомодернистского городского проекта. Его активная деятельность протекала приблизительно между 1920 и 1960 гг., и он был скорее мечтательным планировщиком планетарных амбиций, чем архитектором. Большинство его гигантских замыслов никогда не было воплощено; они обычно требовали политического решения и финансовых средств, которые могли собрать очень немногие политические власти. Однако некоторые памятники его экспансивному гению все же существуют, наиболее известны из них Чандигарх, суровая столица Пенджаба в Индии, и L’Unite d’Habitation, большой комплекс квартир в Марселе, но его творческое наследие лучше всего выражено в логике непостроенных мегапроектов. В разное время он предложил схемы городского планирования Парижа, Алжира, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айреса, Стокгольма, Женевы и Барселоны[256]. Его ранние политические взгляды были причудливым сочетанием революционного синдикализма Сореля и утопического модернизма Сен-Симона, он проектировал и в Советской России (1928—1936 гг.)[257], и в Виши для маршала Филиппа Петена. Ключевой манифест современного городского планирования — Афинская хартия Международного конгресса современной архитектуры (Congres Internationaux d’Architecture Moderne — CIAM) — вполне точно отразил его доктрины.
Ле Корбюзье словно мстил огромному, принадлежавшему веку машин, иерархическому, централизованному городу. Если искать карикатуру — полковника Блимпа, но модерниста-урбаниста — едва ли можно было преуспеть больше, чем изобрести Ле Корбюзье. Его экстравагантные, но влиятельные взгляды были очень показательны в том смысле, что они проявляли логику, неявную в высоком модернизме. В своей смелости, блеске и последовательности Ле Корбюзье отливает веру в высокий модернизм в абсолютно четкий рельеф[258].
Тотальное городское планирование
В «Лучезарном городе» (La ville radieuse), опубликованном в 1933 г. и переизданном с небольшими изменениями в 1964 г., Ле Корбюзье предлагает наиболее полный обзор своих взглядов[259]. Здесь, как и в других публикациях, планы Корбюзье осознанно нескромны. Если Е.Ф. Шумахер отстаивал достоинство малости, то Ле Корбюзье утверждал: «Большое красиво». Лучший способ оценить пределы его расточительности — кратко рассмотреть три из его проектов. Первый — это основная идея, заложенная в его план Voisin центрального Парижа (рис. 14); второй — новый, «деловой город» для Буэнос-Айреса (рис. 15); последний — обширная схема жилого района приблизительно на 90 тыс. жителей в Рио-де-Жанейро (рис. 16).
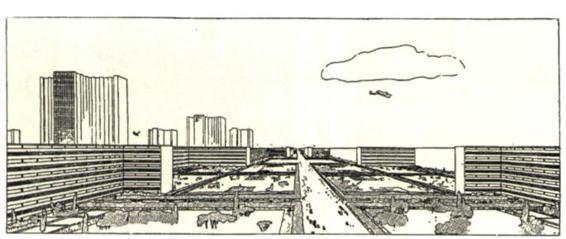
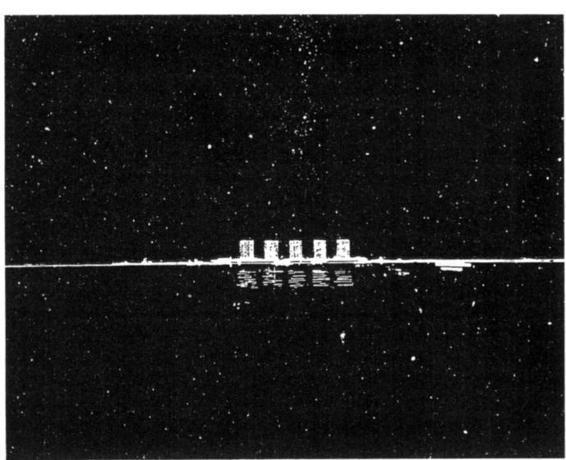

Уже по своему размаху эти планы говорят сами за себя. Ле Корбюзье не идет ни на какой компромисс с уже существующим городом — новый городской пейзаж полностью вытесняет прежний. В каждом случае новый город имеет поразительные скульптурные свойства: он предназначен оказывать мощное визуальное воздействие своей формой. Стоит отметить, что это воздействие сказывается только на большом расстоянии. Буэнос-Айрес изображен так, как будто его рассматривают с расстояния многих миль с моря: вид Нового Света «после двухнедельного плавания», пишет Ле Корбюзье, принимая позу современного Христофора Колумба[260]. Рио-де-Жанейро виден как бы с высоты. Мы созерцаем шоссе в 6 км длиной, которое взбирается на сотню метров вверх и окаймлено непрерывной лентой пятнадцатиэтажных жилых домов. Новый город в буквальном смысле возвышается над старым. План нового квартала в Париже также видится издалека, с высоты и как бы со стороны, большое расстояние подчеркивается точками, изображающими машины на главном проспекте, маленький самолет и, кажется, вертолет. Ни один из планов не имеет никакого отношения к истории, традициям или эстетическим вкусам места, в котором он должен быть реализован. Поразительно, но изображенные города не имеют никакой специфики: они так нейтральны, что могли бы быть вообще где угодно. А высокая стоимость строительства помогает объяснить, почему ни один из этих проектов не был когда-либо принят, да и сам отказ Ле Корбюзье сделать хоть какую-нибудь уступку местным условиям, хоть как-то уважить местную гордость, мягко выражаясь, не способствовал его успеху.
Ле Корбюзье ненавидел физическую среду, которую создали столетия городской жизни. Это объяснялось путаницей, темнотой и беспорядком, переполненностью и тлетворностью Парижа и других европейских городов в начале XX в. Отчасти его презрение было, как мы увидим, обосновано функционально и научно: город, который хочет стать эффективным и здоровым, действительно должен уничтожить многое из того, что он унаследовал. Но были другой источник его презрения — эстетический. Его зрение оскорбляли беспорядок и путаница. Беспорядок, который он хотел исправить, был виден не столько на уровне земли, сколько с высоты птичьего полета[261]. Его смешанные побуждения прекрасно переданы в его рассуждениях о свойствах небольших сельских поселений,как они видны с воздуха (рис. 17). «С самолета мы видим землю разделенной на тысячи несообразно оформленных участков. Чем более современны работающие там машины, тем больше земли раздроблено в крошечные хозяйства, которые превращают в ничто удивительные возможности машин, здесь совершенно бесполезных. Результат пустой: неэффективное, индивидуальное царапанье»[262]. Совершенный формальный порядок был, по крайней мере, столь же важен, как приспособление к машинному веку. «Архитектура, — настаивал он, — превыше других является искусством, она достигает состояния платонического величия, математического порядка, размышления, восприятия гармонии, которая лежит в эмоциональных отношениях»[263].

Из книги Ле Корбюзье «Лучезарный город»
Формальная, геометрическая, простота и функциональная эффективность — это не две разные цели, которые нужно уравновесить; напротив, формальный порядок был для Ле Корбюзье предпосылкой функциональной эффективности. Он берет на себя задачу представления идеального индустриального города, в котором «общие истины», лежащие в основе века машин, были бы выражены с геометрической простотой. Суровость и единство этого идеального города требовали, чтобы он делал как можно меньше уступок истории существующих городов. «Мы даже в малом не должны уступать тому беспорядку, в котором мы находимся теперь, — писал он. — Там не может быть найдено никакого решения».
Его новый город должен был располагаться предпочтительно на расчищенном участке и иметь единую городскую композицию. Предлагаемый Ле Корбюзье городской порядок был лирическим союзом декартовских чистых форм и неумолимых требований машин. В характерно претенциозных выражениях он объявлял: «Мы требуем от имени парохода, самолета и автомобиля право на здоровье, логику, смелость, гармонию, совершенствование»[264]. В отличие от ныне существующего Парижа, который, как ему казалось, походил на «дикобраза» и «видение дантовского ада», его город будет «организован, спокоен, полон сил, полон воздуха, упорядочен в целом»[265].
Геометрия и стандартизация
Нельзя читать Ле Корбюзье или смотреть его архитектурные рисунки и не заметить его любовь (манию?) к простым, повторяющимся линиям и страх сложности. Он как будто принял на себя личное обязательство применять только строгие линии, представляя его как необходимое свойство человеческой природы. Говоря его собственными словами, «бесконечность комбинаций становится возможной, когда соединяются неисчислимость и разнообразие элементов. Но человеческий ум теряется и утомляется в таком лабиринте возможностей. Контроль становится немыслимым. Нескончаемая духовная усталость приводит в уныние... Причина этого... — непокоренная прямая линия. Таким образом, чтобы спасти себя от этого Хаоса, чтобы обеспечить свое существование терпимой, приемлемой структурой, единственно продуктивной для человеческого благосостояния и контроля, человек положил законы природы в основание единственной системы, в которой проявляется величие человеческого духа, — в геометрию»[266].
Посетив Нью-Йорк, Ле Корбюзье был пленен геометрической логикой центра города, Манхэттена. Ему понравились ясность того, что он назвал «небоскребными машинами», и план улиц: «Улицы сходятся под прямыми углами друг к другу, и ум свободен»[267]. В Париже Ле Корбюзье сказал, что он понимает критику тех, кто предается ностальгии по разнообразию ныне существующих городов. Люди могут утверждать, отметил он, что в действительности улицы пересекаются под любыми углами и что число изменений бесконечно. «Но на этом я стою. Я устраняю все эти вещи. Это — моя отправная точка... Я настаиваю на прямоугольных пересечениях»[268].
Ле Корбюзье нравилось обосновывать свою любовь к прямым линиям и прямым углам властью машин, науки и природы. Но ни блеск его проектов, ни жар его полемики не смогли преуспеть в оправдании этого поворота. Машины, которые он больше всего обожал: локомотив, самолет и автомобиль — являются воплощением круглых или эллиптических форм, а не прямых углов (слезинка — самая простая из форм). Что касается науки, то геометрической является любая форма: трапеция, треугольник, круг. Если критерием были видимая простота и эффективность, почему бы не предпочесть круг или сферу как минимальную поверхность, заключающую максимум пространства, квадрату или прямоугольнику? Природа, как и утверждал Ле Корбюзье, могла быть математической, но сложной, запутанной — «хаотическая» логика живой формы только недавно была понята с помощью компьютеров[269]. Нет, большой архитектор выражал не больше и не меньше, как эстетическую идеологию — сильное пристрастие к классическим линиям, которые он считал «галльскими»: «возвышенные прямые линии, и о, возвышенная французская суровость»[270]. Это был единственный мощный способ организации пространства. Более того, он обеспечил четкую сетку, которую можно было легко усвоить и повторять в каждом направлении до бесконечности. На деле, конечно, прямая линия часто была непрактична и разрушительно дорога. В неровной местности построение прямых, ровных улиц требовало выравнивания подъемов и спусков, а это заставляло производить немало земляных работ. Та геометрия, которую предпочитал Ле Корбюзье, редко бывала эффективной по затратам.
Его утопические схемы абстрактных линейных городов имели внушительную длину. Он предвидел, что индустриализация строительства приведет к долгожданной стандартизации. Он предвидел также изготовление заводским способом жилых и офисных блоков, которые затем собирались на строительных площадках. Размеры всех элементов были бы стандартизованы, определено некоторое число стандартных размеров, учитывающих возможность уникальных комбинаций, созданных архитектором. Дверные рамы, окна, кирпичи, плитки крыши и даже винты — все соответствовало бы одному и тому же коду. Первый манифест CIAM в 1928 г. призвал Лигу Наций узаконить новые стандарты и разработать универсальный технический язык, обязательный для преподавания во всем мире. Международное соглашение «нормализовало» бы различные стандартные размеры для внутреннего оборудования и приспособлений[271]. Ле Корбюзье сам предпринял усилия, чтобы применить на практике то, что он проповедовал. Своим проектом гигантского Дворца Советов (так, кстати, и непостроенного) он хотел обратиться к советскому высокому модернизму. Здание, говорил он, установит точные и универсальные новые стандарты для всех построек — стандарты, которые включали бы освещение, отопление, вентиляцию, структуру и эстетику, и это будет иметь силу во всех широтах для всех надобностей[272].
Прямая линия, прямой угол и международные стандарты зданий — это были шаги в направлении упрощения. Однако самым решительным шагом в этом направлении была приверженность Ле Корбюзье к строгому функциональному разделению, которое он отстаивал всю жизнь. Показателен второй из четырнадцати принципов доктрины, которую он излагал в начале «Лучезарного города», а именно «смерть улицы». Под этим он понимал полное отделение движения пешеходов от движения машин и, кроме того, разделение медленных и скоростных транспортных средств. Он терпеть не мог смешения пешеходов и машин: и идущим неприятно, и транспорту мешает.
Принцип функциональной изоляции применялся наперекор всему. Написанный Ле Корбюзье и его братом Пьером заключительный доклад на второй конференции CIAM в 1929 г. начинался с нападения на традиционные методы строительства жилья: «Бедность, неадекватность традиционных методов приводят к путанице, искусственному смешению функций, не связанных друг с другом... Мы должны найти и применить новые методы... естественно приводящие к стандартизации, индустриализации, тейлоризации..., если мы упорствуем в существующих методах, в которых две функции [детали и строительство; циркуляция движения и структура] смешаны и взаимозависимы, тогда мы останемся цепенеть в той же неподвижности»[273].
Вне квартирного блока в основу планировки был положен принцип функциональной изоляции, ставший стандартной доктриной городской планировки до конца 60-х годов XX в. Предусматривались отдельные зоны для работы, жилья, для покупок и развлечений, для памятников и правительственных зданий. Где только было возможно, рабочие зоны должны были подразделяться дальше, например, в здания офиса и фабрики. Последовательность Ле Корбюзье, с которой он настаивал на плане города, где каждый район имел одну и только одну функцию, была очевидна в его первом же действии после того, как был принят проект Чандигарха, его единственного построенного города. На участке в 220 акров он заменил жилье, запланированное для городского центра, «акрополем памятников» и удалил его на большое расстояние от самого близкого жилья[274]. В Плане Voisin для Парижа он выделил так называемый La ville, который был предназначен для жилья, и деловой центр, предназначавшийся для работы. «Это две разные функции, последовательные, а не одновременные, представляющие две совершенно различные и совершенно отдельные области»[275].
Логика столь твердой изоляции функций совершенно ясна. Гораздо легче планировать городскую зону, если она имеет только одну цель. Гораздо легче планировать движение пешеходов, если их дороги не должны пересекаться с дорогами для автомобилей и поездов. Гораздо легче планировать лес, если твоя цель состоит в том, чтобы максимально увеличить урожай древесины мебельного сорта. Когда один и тот же план должен служить двум целям, это раздражает. Когда же нужно рассматривать несколько или много целей, число переменных, которыми должен оперировать планировщик, вызывает страх. Стоя в таком лабиринте возможностей, отмечает Ле Корбюзье, «человеческий ум теряется и утомляется».
Изоляция функций, таким образом, позволила планировщику с большей ясностью думать об эффективности. Если единственной функцией дороги является доставка автомобиля из пункта A в пункт B быстро и экономично, то можно сравнивать два плана дороги по относительной эффективности. Подобная логика довольно разумна, поскольку именно это мы и имеем в виду, когда строим дорогу от A к B. Заметим, однако, что такая ясность достигается заключением в скобки многих других целей, которым может служить дорога: она может предоставлять досуг туристам, создавать эстетическое впечатление, визуальный интерес или предоставлять возможности для перемещения тяжелых грузов. Даже в случае дорог узкие критерии эффективности не позволяют видеть другие, далеко не тривиальные цели. В случае же места, которое люди называют домом, узкие критерии эффективности приводят к значительно большему насилию над человеческими привычками. Ле Корбюзье вычисляет потребность людей в воздухе (la respiration exacte), тепле, свете и пространстве так, как это могло бы делать министерство здравоохранения. Начав с четырнадцати квадратных метров на человека, он далее заключает, что это число может быть уменьшено до десяти квадратных метров, если заготовка продуктов и стирка станут общественным делом. Но критерии эффективности, которые еще могут быть применены к дороге, вряд ли уместны для суждений о доме — дом используется как место работы, отдыха, доверительных встреч, общения, образования, готовки, сплетен, политики и т. д. Все эти действия не укладываются в критерий эффективности: когда в кухне кто-то готовится к встрече друзей, там происходит не просто «готовка еды». Однако логика эффективного планирования больших поселений сверху требует, чтобы каждая максимизируемая ценность была точно определена, и чтобы число одновременно максимизируемых ценностей было резко ограничено, предпочтительно сведено до одной-единственной[276]. Логика доктрины Ле Корбюзье состояла в следующем: найти возможность охарактеризовать использование и функцию каждого места в городе так, чтобы стали возможны методы специализированного планирования и стандартизация[277].
Правила для плана, планировщика и государства
Первым из «принципов урбанизма» Ле Корбюзье, даже прежде «смерти улицы», было изречение: «план — диктатор»[278]. Ле Корбюзье, подобно Декарту, считал процесс созидания города воплощением единственного рационально составленного плана. Он восхищался римскими лагерями и имперскими городами, их полным логики расположением. Он неоднократно возвращался к контрасту между существующим городом, который сложился исторически, и городом будущего, разработка которого от начала до конца была сознательно основана на научных принципах.
Централизация, требуемая в соответствии с представлениями Ле Корбюзье о роли Плана (всегда подчеркнутая в его исполнении), непосредственно выражается в способе организации города. Функциональная изоляция соединена с иерархичностью. Его город был «моноцефаличен»: расположенное в центре ядро выполняло «более высокие» функции столичной области. Вот как он описывал деловой центр своего плана Voisin для Парижа: «Из его офисов приходят команды, которые упорядочивают мир. Эти небоскребы — мозг города, мозг целой страны. Они воплощают планы и управление, от которых зависят все действия. Там сконцентрировано все: инструменты, побеждающие время и пространство, — телефоны, телеграфы, радио, банки, торговые дома, органы принятия решений для фабрик: финансы, технология, торговля»[279]. Деловой центр отдает команды; он ничего не предлагает и ни с кем не консультируется. Программа авторитарного высокого модернизма в работе здесь проистекает частично от любви Ле Корбюзье к промышленному порядку. Осуждая «гниль» (la pourriture) современного города, его зданий и его улиц, он выделяет фабричные постройки как единственное исключение. Там единая рациональная цель структурирует и физическое расположение зданий, и скоординированные движения сотен людей. Особенно он одобряет табачную фабрику Ван Нелла в Роттердаме. Ле Корбюзье восхищается ее строгостью, ее окнами от пола до потолка на каждом этаже, порядком в работе и очевидной удовлетворенностью работников. Он заканчивает ее описание гимном авторитарному порядку поточной линии. «Там есть иерархический масштаб, превосходно установленный и соблюдаемый, — восхищенно наблюдает он за рабочими. — Они принимают его, чтобы управлять собой подобно колонии рабочих пчел: порядок, регулярность, точность, справедливость и патернализм»[280]. Руководимый наукой городской планировщик должен проектировать и возводить города так, как инженер-предприниматель проектирует и строит фабрики. Единый мозг планирует город и фабрику, единый мозг направляет их деятельность — из офиса фабрики и из делового центра города. Иерархия на этом не останавливается. Город — мозг целого общества. «Великий город командует всем: миром, войной, работой»[281]. Во всех вопросах — одежды, философии, технологии или вкуса — столичный город доминирует над провинциями: линии влияния и команды исходят исключительно из центра на периферию[282].
Во взгляде Ле Корбюзье на то, как строятся властные отношения, нет никакой двусмысленности: иерархия преобладает во всех направлениях. На вершине пирамиды, однако, находится не капризный диктатор, а современный король-философ, который реализует политику научного понимания мира для блага всех[283]. И действительно, вполне естественно, что хозяин планирует, а в свои нередкие приступы мании величия он еще и воображает, что один имеет монополию на правду. В порядке личного самовыражения в «Лучезарном городе» Ле Корбюзье заявляет: «Я составил планы [для Алжира] после исследований, после вычислений, с воображением, с поэзией. Планы были необыкновенно правдивы. Они были неопровержимы. Они захватывали дух. Они выражали весь блеск нашего времени»[284]. То, что нас здесь интересует, не избыток гордости, но выражение непреклонной власти. Ле Корбюзье чувствует себя имеющим право требовать от имени универсальных научных истин. Его высокомодернистская вера нигде так совершенно или так угрожающе не выражена, как в следующем отрывке, который я процитирую подробно:
«Деспот — это не человек. Это — План. Правильный, реалистический, точный план, который один только в состоянии обеспечить решение вашей проблемы, план во всей полноте, в непременной гармонии, составленный спокойными и светлыми умами вдали от криков ярости, в офисе мэра или ратуши, от воплей электората или ламентаций жертв общества. Требуется учесть только общечеловеческие истины. Можно игнорировать весь поток текущих указаний, все существующие обычаи и каналы. Его не рассматривали или не он мог быть выполнен при действующей конституции. Он представляет собой живое создание, предназначенное для людей, способных реализовать его современными методами»[285].
Мудрость плана сметает с пути все социальные препятствия: избранные власти, избирателей, конституцию и юридическую структуру. Может показаться, что мы живем при диктатуре планировщика; по крайней мере, такое описание культа власти и беспощадности напоминает о фашистском режиме[286]. Но безотносительно к сравнениям Ле Корбюзье видит себя техническим гением и требует власти от имени своих истин. Технократия в этом случае является верой в то, что человеческие проблемы городского проектирования имеют уникальное решение, которое технический специалист способен найти и воплотить. Решать такие технические вопросы с помощью политики было бы неправильно. Когда есть единственный истинный ответ на все вопросы планирования современного города, никакие компромиссы не нужны[287].
В течение всей своей карьеры Ле Корбюзье ясно сознает, что для утверждения его радикального взгляда на городское планирование нужны авторитарные меры. «Нужен Кольбер», — заявляет он во французском издании ранней статьи, озаглавленной «На пути к машинному веку Парижа»[288]. На титульном листе его основной работы можно найти слова: «Эта работа посвящена Власти». Многое в карьере Ле Корбюзье как будущего гражданского архитектора указывает на поиски «Государя» (предпочтительно авторитарного толка), который призвал бы его на роль Кольбера. Он выставлял проекты для Лиги Наций, лоббировал советскую элиту, чтобы она приняла его новый план Москвы, делал все, что мог, чтобы его назначили руководителем планирования и зонирования для всей Франции и одобрили его план нового Алжира. Наконец, при покровительстве Джавахарлала Неру он построил провинциальную столицу Чандигарх в Индии. Хотя собственные политические взгляды Ле Корбюзье во Франции неколебимо стояли на якоре справа[289], было совершенно ясно, что он согласится на любую государственную власть, которая даст ему свободу действий. Он обращался скорее к логике, чем к политике, когда писал, «Однажды он [научный планировщик] кончит вычисления и тогда сможет сказать — и говорит: это должно быть так!»[290].
В Советском Союзе Ле Корбюзье очаровывала не столько идеология, сколько перспектива: революционное высокомодернистское государство могло оказать гостеприимство планировщику мечты. Построив здание Центрального союза потребительских кооперативов (Центросоюз)[291], он всего за шесть недель подготовил план — обширный проект перепланировки Москвы в соответствии с тем, что, как он думал, было советским стремлением создать новую жизнь в бесклассовом обществе. Посмотрев фильм Сергея Эйзенштейна «Генеральная линия» о крестьянстве и технологии, Ле Корбюзье был весьма впечатлен видом тракторов, центрифуг для масла и огромных ферм. Он часто ссылался на это в своем плане разработки соответствующего преобразования городского пейзажа России.
Клевреты Сталина нашли его планы Москвы, как и его проект Дворца Советов, слишком радикальными[292]. Советский модернист Эль-Лисицкий нападал на Москву Ле Корбюзье как на «город нигде, ... [город], который не является ни капиталистическим, ни пролетарским, ни социалистическим, ... город на бумаге, посторонний для живой природы, расположенный в пустыне, через который даже реке не позволено пройти (так как кривая противоречила бы стилю)»[293]. Как будто подтверждая обвинение Эль-Лисицкого в том, что он сделал «город нигде», Ле Корбюзье, практически не тронув свой проект, а только удалив все ссылки на Москву, представил его как La ville radieuse, подходящий для центра Парижа.
Город как утопический проект
Веря, что его революционные принципы городского планирования отражали универсальные научные истины, Ле Корбюзье, естественно, предполагал, что публика, однажды поняв эту логику, поймет и весь его план. Первый манифест CIAM содержал призывы к преподаванию ученикам начальной школы элементарных принципов научного жилья: значимость солнечного света и свежего воздуха для здоровья; основы электричества, теплоты, света и звука; правильные принципы проектирования мебели и т. д. Это было предметом науки, а не вкуса; в результате такого обучения появилась бы в свое время и клиентура, достойная научного архитектора. Ученый-лесовод мог сразу идти работать в лес и формировать его по своему плану, научный архитектор должен был сначала воспитать новых потенциальных заказчиков, которые «свободно» выберут городскую жизнь, спланированную для них Ле Корбюзье.
Я думаю, что любой архитектор проектирует дома для того, чтобы люди в них были счастливы, а не страдали. Различие состоит лишь в том, как именно архитектор понимает счастье. Для Ле Корбюзье «человеческое счастье уже существует — выраженное в числах, в математике, в должным образом рассчитанных проектах, в планах, на которых города уже можно видеть»[294]. Он был уверен, во всяком случае он так говорил, что если его город будет рациональным выражением сознания машинного века, современный человек примет это всем сердцем[295].
Среди радостей жизни, предусмотренных для граждан города Ле Корбюзье, не было личной свободы и самостоятельности, логически переведенных в рациональный план: «Власть должна превратиться в патриархальную — во власть отца, заботящегося о своих детях.. Мы должны создать вместилища для второго рождения человечества. Свобода личности для каждого будет достигнута, когда будут организованы коллективные функции городского сообщества. Каждый человек будет жить в упорядоченном отношении к целому»[296]. В Плане Voisin для Парижа место каждого человека в большой городской иерархии пространственно закодировано. Элита бизнеса (industrials) будет жить в многоэтажных домах в центре города, а низшие слои — в маленьких домах с садом на окраине. Таким образом, статус человека можно будет непосредственно вычислить по расстоянию от центра. Но, как и каждый работник хорошо управляемой фабрики, горожанин будет чувствовать «коллективную гордость» — как член команды, производящей совершенный продукт. «Рабочий, который делает только часть работы, понимает значимость своего труда; машины, которые заполняют фабрику, служат примером его власти и нужности, они делают его участником работы, совершенствования, к которой его простая душа никогда не смела стремиться»[297]. Ле Корбюзье, возможно, наиболее известен утверждением, что «дом — это машина для жилья», аналогично он представлял и запланированный город — как большую эффективную машину для жилья из многих плотно пригнанных частей. Поэтому он полагал, что жители его города с гордостью воспримут собственную скромную роль в работе этой благородной, научно спланированной городской машины.
Ле Корбюзье руководствовался собственным пониманием базовых потребностей своих сограждан — потребностей, которыми пренебрегали в существующих городах. По сути, он установил некие абстрактные требования, упростил человека до нескольких материальных физических параметров. Его схематический субъект нуждался в стольких-то квадратных метрах жилья для проживания, он потреблял столько-то свежего воздуха, столько-то солнечного света, столько-то пространства, столько-то необходимых услуг. Опираясь на эти цифры, он спроектировал город, который был действительно гораздо здоровее и функциональнее, чем переполненные трущобы, за разрушение которых он ратовал. Он говорил о «пунктуальном и точном дыхании», о различных формулах для определения оптимальных размеров квартир; он настоятельно предлагал создавать жилые небоскребы, чтобы иметь места для парковки и, главное, для эффективной циркуляции уличного движения.
Город Ле Корбюзье был разработан как цех для производства продукции. В этом контексте человеческие потребности были предусмотрены планировщиком с научной точки зрения. Он не допускал и мысли, что те, для кого он работает, могут сказать что-нибудь дельное по этому вопросу или что их потребности могут быть разнообразнее. Он так заботился об эффективности работы этой машины, что относился к посещению магазина и приготовлению пищи как к досадным помехам, от которых его клиенты будут освобождены централизованными службами вроде функционирующих в хорошо управляемом отеле[298]. Он почти ничего не сказал о социальных и культурных потребностях населения, хотя и выделял площади для социальных действий.
Как мы видели, высокий модернизм подразумевает отвержение прошлого в качестве модели достойной жизни и желание начать все с нуля. Чем утопичнее высокий модернизм, тем тщательней его критический анализ существующего общества. Некоторые из наиболее бранных пассажей «Лучезарного города» относятся к нищете, беспорядку, «гнили», «распаду», «пене» и «отбросам» тех городов, которые Ле Корбюзье хотел превзойти. Картинно демонстрируемые им трущобы были названы «обносившимися» или в случае французской столицы «историческими — исторический и туберкулезный Париж». Он сожалел о наличии трущоб и людей, которых они создали. «Сколько из тех пяти миллионов [те, кто приехали из сельской местности, чтобы пробиться в городе] — просто труха под ногами, черный комок нищеты, неудачи, человеческого мусора?»[299].
К трущобам у него был двойной счет. Во-первых, они эстетически не соответствовали его стандартам дисциплины, цели и порядка. «Есть ли на свете, — спрашивал он риторически, — что-нибудь более жалкое, чем недисциплинированная толпа?» Природа, добавлял он, сама есть «вся дисциплина» и «сметет их прочь», даже если природа оперирует логикой «вопреки интересам человечества»[300]. Здесь он дал понять, что основатели современного города должны быть готовы действовать безжалостно. Вторая опасность трущоб состояла в том, что, будучи шумными, опасными, пыльными, темными и снедаемыми болезнями, они предоставляют кров тем, кто является потенциальной революционной угрозой. Он понял, как когда-то Хаусманн, что толпа и трущобы были и всегда будут препятствием для эффективной полицейской работы. Связывая Париж Людовика XIV с императорским Римом, Ле Корбюзье писал: «Из беспорядочной кучи лачуг, из глубин грязных логовищ (в Риме — городе цезарей — плебе жил в запутанном хаосе уменьшенного подобия перенаселенных небоскребов) иногда являлся горячий всплеск восстания; заговор замышлялся в темных тайниках накопившегося хаоса, в котором был чрезвычайно труден любой вид полицейской деятельности... Св. Павла из Тарсуса было невозможно арестовать, потому что он остался жить в трущобах, и слова его проповедей, подобно лесному пожару, распространялись от одного человека к другому»[301].
Если бы такой вопрос возник, потенциальные буржуазные покровители Ле Корбюзьеи их представители могли быть уверенными, что его четкий, геометрический город облегчит полицейскую работу. Там, где Хаусманн модифицировал барочный абсолютистский город, Ле Корбюзье предложил полностью очистить палубы и заменить центр города Хаусманна одним зданием, построенным с учетом иерархии и необходимости контроля[302].
Учебник высокомодернистской архитектуры
Интеллектуальное влияние Ле Корбюзье на архитектуру далеко превосходило влияние фактически построенных им зданий. Даже Советский Союз не удовлетворил бы его широковещательные амбиции. Его анализу подлежали примеры, случаи из учебника, набор ключевых, часто утрированных элементов высокомодернистского планирования. Его приверженность к тому, что он называл «полная эффективность и полная рационализация» новой цивилизации века машин, была бескомпромиссной[303]. Хотя ему приходилось иметь дело с разными странами, его архитектура была универсальна. По словам Ле Корбюзье, это было «повсеместное городское планирование, универсальное городское планирование, тотальное городское планирование»[304]. Его планы Алжира, Парижа и Рио-де-Жанейро были представлены, как мы видели, в беспрецедентном масштабе. Ле Корбюзье, как и другие архитекторы его поколения, испытал влияние зрелища тотальной военной мобилизации в Первой мировой войне. «Давайте строить наши планы, — говорил он, — в масштабе событий XX в., планы столь же большие, как планы Сатаны[война]... Большие! Громадные!»[305]
Визуальный эстетический компонент был центральным в его смелых планах. Чистые, гладкие линии были чем-то таким, что он ассоциировал с абсолютной целенаправленностью машины. Он был романтичен во всем, что касалось красоты машины и ее творений. Дома, города, поселения должны были «появляться соответствущим образом оборудованными, блистательно новыми, с фабрики, из цеха, безупречными изделиями ровно жужжащих машин»[306].
И наконец, законченность ультрамодернизму Ле Корбюзье придавал его отказ от традиций, истории, унаследованного вкуса. Уяснив происхождение транспортных пробок в современном Париже, он предостерегал против искушений реформирования. «Мы должны отказаться от малейшего рассмотрения того, что это такое: мы сейчас в замешательстве». Он подчеркнул, что «здесь мы не найдем никакого решения»[307]. Вместо этого, настаивал он, мы должны взять «чистый лист бумаги», «чистую скатерть» и все начать с нуля. Необоримое желание начать все с нуля привело его в СССР и к честолюбивым правителям развивающихся стран. Там, надеялся он, его не будут стеснять «до смешного маленькие участки», единственно доступные на Западе, где можно было делать лишь то, что он называл «ортопедической архитектурой»[308]. Города Запада, основанные так давно, их традиции, их интересы, их медленно работающие учреждения и сложные юридические структуры могли только сковывать мечты высокомодернистского Гулливера.
Бразилиа: высокомодернистский город построен — почти
Города тоже верят, что они сработаны умом или удачей, но ни того, ни другого недостаточно, чтобы держать их стены.
Итало Кальвино. Невидимые города
Никакой утопический город не строится так, как его спроектировал пророк-архитектор. Так же, как ученому-лесоводу мешали капризы непредсказуемой природы и расхождение целей его нанимателей и тех, кто имел доступ к лесу, так и городской архитектор должен сражаться со вкусами и финансовыми средствами своих патронов, а также с сопротивлением строителей, рабочих и жителей. Но и в этом случае Бразилиа в наибольшей степени приближается к тому, что мы имеем в виду под высокомодернистским городом, ибо ее постройка более или менее приближается к принципам, изложенным Ле Корбюзье и CIAM. Воспользовавшись превосходной книгой Джеймса Холстона «Модернистский город: антропологический критический анализ Бразилиа»[309], можно проанализировать и логику плана Бразилиа, и степень его реализации. Оценка разницы между тем, что Бразилиа значила для тех, кто ее замыслил, с одной стороны, и ее обитателей, с другой, в свою очередь, проложит путь (здесь нет никакой преднамеренной игры слов) для радикального критического анализа Джейн Джекобс современного городского планирования.
Идея новой столицы в глубине страны предшествует даже независимости Бразилии[310]. Ее реализация была излюбленным намерением Жуселино Кубичека, популистского президента, бывшего на своем посту с 1956 до 1961 г., обещавшего бразильцам «пятьдесят лет прогресса в пять лет» и самоподдерживающийся в будущем экономический рост. В 1957 г. Оскар Нимейер, который был уже назван главным архитектором общественных зданий и опытных образцов жилья, организовал конкурс проектов, в котором первое место занял на основе очень приблизительных эскизов Лючио Коста. Замысел Косты — пока что только это, не больше — центр города, его «монументальную ось» определяли террасы, насыпанные в виде дуги, которую пересекала в центре прямая авеню, а границы города в плане представляли собой треугольник (рис. 18).
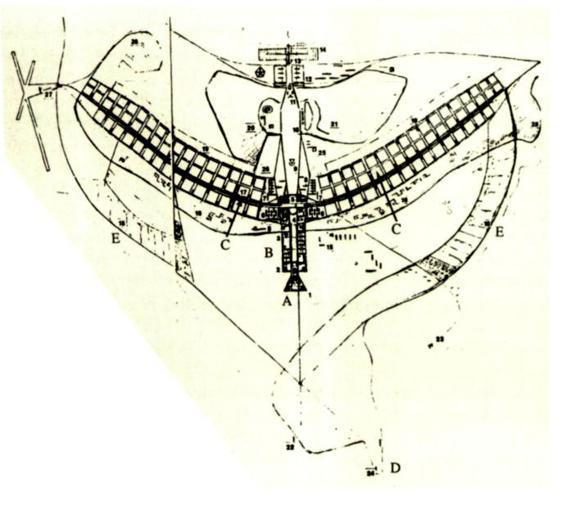
Оба архитектора работали по доктринам CIAM и Ле Корбюзье. Нимейер, давний член бразильской компартии, находился еще и под влиянием советской версии архитектурного модернизма. После конкурса проектов практически немедленно началось строительство на пустом участке Центрального Плато в штате Гойас, почти в 1000 км от Рио-де-Жанейро и побережья и 1620 км на северо-восток от Тихого океана. Это был действительно новый город в дикой местности. Никакие «ортопедические» компромиссы теперь не были нужны: планировщики имели (благодаря Кубичеку, который сделал Бразилиа своим высшим приоритетом) «чистую скатерть». Всей землей на участке управляло государственное агентство, так что никаких владельцев частной собственности, с которыми бы надо было вести переговоры, не было. Затем город был спроектирован от основания по детально разработанному и унифицированному плану. Жилье, работа, отдых, перемещение и государственная служба были пространственно отделены друг от друга, как и настаивал Ле Корбюзье. Поскольку Бразилиа исполняла единственную функцию административной столицы, планирование очень упрощалось.
Бразилиа как отрицание (или выход за пределы) Бразилии
Бразилиа, задуманная Кубичеком, Кобтой и Нимейером как город будущего, город развития, осуществленной утопии, не была связана привычками, традициями и занятиями прошлого Бразилии и ее больших городов: Сан-Паулу, Сан-Сальвадора и Рио-де-Жанейро. Как бы подчеркивая это, Кубичек назвал свою собственную резиденцию в Бразилиа «Дворец рассвета». «Чем еще может быть Бразилиа, — спрашивал он, — если не рассветом нового дня для Бразилии?»[311] Подобно Санкт-Петербургу Петра Великого, Бразилиа должна была стать образцовым городом, центром, который преобразует жизни бразильцев, проживающих там, — от индивидуальных привычек до социальной организации работы и досуга. Цель создания новой столицы была еще и в том, чтобы выказать Бразилии и бразильцам презрение к тому, чем Бразилия была до сих пор. Смысл новой столицы состоял в том, что она должна была служить контрастом испорченности, отсталости и невежеству прежней Бразилии.
Большой перекресток, ставший отправной точкой плана, интерпретировался по-разному: как символ креста Христова или лук амазонки. Коста, однако, называл его «монументальной осью» — тем самым термином, которым Ле Корбюзье имел обыкновение описывать центр многих своих городских планов. Но, даже если ось и представляла собой попытку как-то приспособить новую столицу к национальной традиции, эта столица осталась городом, который мог быть расположен где угодно, который не давал никакого ключа к его собственной истории, если только не считать историей модернистскую доктрину CIAM. Это был город, навязанный государством, изобретенный для демонстрации новой Бразилии ее населению и миру в целом. Был еще один смысл в строительстве этого навязанного государством города: он был предназначен для государственных служащих. Многие аспекты жизни, которую в ином случае можно было оставить частной сфере, были тщательно организованы: от внутренних проблем жилья до медицинского обслуживания, образования, охраны детства, отдыха, торговли и т. д.
Если Бразилиа должна была стать будущим городов страны, что же тогда было их прошлыми настоящим? Что именно должна была отрицать новая столица? Большая часть ответа может быть выведена из второго принципа урбанизма Ле Корбюзье — «смерть улицы». Бразилиа была предназначена уничтожить улицу и площадь как места общественной жизни. Уничтожение привязанности к своему месту жительства и состязаний между районами хотя и не планировалось, но все же, увы, произошли в новом городе.
Общественная площадь и переполненная «коридорная» улица были местом встреч и гражданской жизни в городах Бразилии начиная с колониальных времен. Как объясняет Холстон, гражданская жизнь имела две формы. Первая, проходившая при поддержке церкви или государства, включала церемониальные и патриотические процессии и ритуалы, обычно проводившиеся на главной площади города[312]. Вторая форма затрагивала почти неистощимый диапазон человеческого использования городских площадей. Там могли играть дети, взрослые могли делать покупки, прогуливаться и знакомиться, встречаться с друзьями, есть или пить кофе, играть в карты или шахматы, на людей смотреть и себя показывать. Дело в том, что площадь как естественное место слияния улиц стала тем, что Холстон очень точно называет «общественной гостиной»[313]. Площадь доступна всем социальным классам и подходит для самых разных видов действий, которые она вмещает, как и полагается общественному месту. Площадь — гибкое место, которое позволяет всем желающим использовать ее для своих целей, иногда даже несмотря на запреты государства. Площадь или центральная улица привлекают толпу, потому что люди оживляют подмостки сцены — сцены, на которой одновременно происходят тысячи незапланированных, неофициальных, импровизированных действий. Улица была пространственным средоточием социальной жизни, выводящим ее за пределы обычно тесного семейного жилья[314]. Выражение «я иду в центр» означало «я иду на улицу». Как центры общения,эти места были также важны для формирования общественного мнения и национального чувства, которое принимало институциональную форму во встречах спортивных команд, концертах, празднованиях святого покровителя, фестивалях групп и т. д. Само собой разумеется, что улица или площадь при соответствующих обстоятельствах могла стать местом общественных демонстраций и бунтов, направленных против государства.
Беглый взгляд на картинки Бразилиа, втискиваемой в городскую Бразилию, которую мы только что описали, сразу показывает радикальность происшедшего преобразования. Нет больше никаких улиц в смысле мест для публичных собраний, есть только дороги и шоссе, которые можно использовать исключительно для передвижения с помощью транспортных средств (сp. рис. 19 и 20).
Есть и площадь. Но что это за место! Обширная, монументальная площадь Трех ветвей власти, расположенная рядом с эспланадой министерств, велика даже для военного парада (ср. рис. 21 и 22, а также рис. 23 и 24). По сравнению с ней площадь Тяньаньмынь и Красная площадь камерны и интимны. Она, как и многие из планов Ле Корбюзье, лучше видна с воздуха (как на рис. 24). Если бы кто-то договорился встретиться там с другом, это было бы все равно, что назначить свидание в центре пустыни Гоби. И если бы вы все-таки встретились там с другом, вам совершенно нечего было бы там делать. Функциональное упрощение требует, чтобы эта площадь не стала публичной гостиной. Такая площадь — символический центр государства; единственная дозволенная деятельность на ней — работа министерств. Если раньше жизнеспособность площади зависела от сочетания жилья, торговли и администрации в зоне ее влияния, то теперь министерские чиновники должны по окончании работы уезжать к месту своего жительства и лишь там посещать коммерческий центр.






Одна поразительная особенность городского пейзажа Бразилиа — официально обозначены фактически все общественные места в городе: стадион, театр, концертный зал, рестораны. Маленькие, неструктурированные, официально не запланированные общественные места — кафе на тротуарах, углы улиц, небольшие скверы, площади внутри округи — не существуют. Как ни парадоксально, город имеет номинально много свободного пространства, это всегда предусмотрено городскими планами у Ле Корбюзье. Но это пространство оказывается «мертвым», как это и случилось с площадью Трех ветвей власти. Объясняя это, Холстон показывает, как в соответствии с доктринами CIAM создаются архитектурные массы, разделенные большими пустотами, так что отношение площади застроенной земли к незастроенной обратно тому, что обычно бывает в старых городах. Учитывая стереотипы нашего восприятия, эти пустоты модернистского города кажутся не пространством, в котором могут находиться люди, а безграничной пустыней, в которой люди избегают оставаться[315]. Можно сказать, что план как бы учитывает и запрещает все те места, где можно случайно столкнуться друг с другом, где спонтанно может собраться толпа.
Пространственная и функциональная изоляция приводили к тому, что встретиться с кем-нибудь можно было только в плановом порядке.
Коста и Нимейер убирали из утопического города не только улицы и площади. Они думали, что ликвидируют и переполненные трущобы с их темнотой, болезнями, преступлениями, загрязнением, пробками, шумом и плохим коммунальным обслуживанием. Есть определенные преимущества в том, чтобы начинать с пустого, выровненного бульдозерами участка, принадлежащего государству. По крайней мере, можно обойти проблемы спекуляции землей, взимания арендной платы и неравенства в собственности, которые так докучают большинству архитекторов. У Ле Корбюзье, как и у Хаусманна, тоже были эмансипационные намерения. В проект вошло лучшее, самое современное архитектурное знание о санитарных нормах, образовании, здоровье и отдыхе. Двадцать пять квадратных метров зеленых насаждений на жителя соответствовали разработанному ЮНЕСКО идеалу. И, как это бывает с любым утопическим планом, проект Бразилиа отразил социальные и политические пристрастия тех, кто им занимался, и их покровителя Кубичека. Все жители должны были иметь одинаковое жилье; единственным различием могло служить число отведенных единиц этого жилья. Следуя планам прогрессивных европейских и советских архитекторов, чтобы содействовать развитию коллективной жизни, архитекторы Бразилиа сгруппировали жилые дома в то, что получило название «суперквадра». Суперквадра — приблизительно 360 квартир, в которых помещалось 1500—2500 жителей — имела свою начальную школу и детский сад; на каждые четыре суперквадра полагалась средняя школа, кинотеатр, клуб, спортивные комплексы и торговые точки.
Практически все потребности будущих жителей Бразилиа были отражены в плане. Только потребности эти были те самые абстрактные, схематические, которые учитывал в своих планах Ле Корбюзье. Хотя это было, конечно, рационально, здорово, довольно эгалитарно, государство, планируя и создавая город, не делало никакой, даже самой маленькой уступки желаниям, истории и традициям ее жителей. В некоторых важных аспектах Бразилиа по отношению к Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро была тем же, чем было научное лесоводство по отношению к естественному лесу. Оба плана намечают чрезвычайно четкие, плановые упрощения, созданные, чтобы наладить эффективный порядок, который может быть проверен и управляем сверху. Оба плана, как мы увидим, потерпели неудачу. Наконец, оба плана так меняют город (и лес), чтобы он соответствовал простой сетке планировщика.
Жизнь в Бразилиа
Большинство тех, кто переехал в Бразилиа из других городов, были поражены, обнаружив, «что это — город без людей». Люди жаловались, что в Бразилиа нет суматохи уличной жизни, нет ни одного из уличных углов и длинных витрин магазинов, которые так оживляют тротуары для пешеходов. Для них, первых жителей Бразилиа, а не архитекторов города, фактически получалось, что планирование мешало городу. Наиболее общим образом они выражают это впечатление словами, говоря, что в Бразилиа «мало уличных углов», подразумевая под этим, что в ней недостает сложных пересечений таких окрестностей, где есть и жилье, и кафе, и рестораны с площадками для выступления, где можно работать и делать покупки. Хотя в Бразилиа хорошо обеспечиваются некоторые житейские потребности, функциональное удаление работы от места жительства, торговли и развлечений, большие пустоты между суперквадра и системой дорог, заполненной исключительно автомобильным движением, делают исчезновение уличных углов неизбежными. План дорог устранил пробки, но он также устранил долгожданные и приятные встречи пешеходов, которые один из информаторов Холстона назвал «точками компанейства»[316].
Термин brasilite, означая приблизительно Brasil (ia) -itis, введенный в обиход жителями первого поколения, хорошо выражает психическую травму, которую они испытали[317]. Намекая на соответствующее клиническое состояние, он означает осуждение стандартизации и анонимности жизни в Бразилиа. «Они используют термин brasilite, имея в виду свое отношение к здешней повседневной жизни: без радости отвлечения, беседы, флирта, ритуалов — как обычно протекает жизнь в других бразильских городах»[318]. Встретиться с кем-то можно дома илина работе. Даже если учитывать основную упрощающую предпосылку, что Бразилиа — административный город, тем не менее существует анонимность, включенная в саму структуру столицы. Населению просто не хватает небольших доступных мест, где они могли бы посидеть и поговорить, как это было исторически в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Безусловно, у обитателей Бразилиа было мало времени, чтобы изменить город своими привычками, но и сам город упорно сопротивлялся их усилиям[319].
Brasilite как термин также подчеркивает, как специально выстроенная окружающая среда воздействует на живущих в этом городе. По сравнению с Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу с их яркостью и разнообразием повседневное течение жизни в вежливой, однообразной, строгой Бразилиа, похоже на пребывание в резервуаре сенсорной депривации. Рецепт высокомодернистского городского планирования, возможно, обеспечил формальный порядок и функциональную изоляцию, но сделал это за счет сенсорно обедненной монотонной окружающей среды, которая неизбежно влияла на настроение жителей.

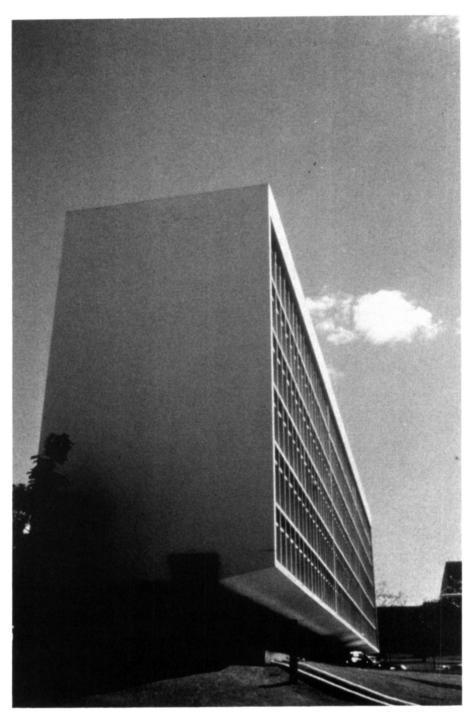
Анонимность, в которой вынужден жить каждый житель Бразилиа, очевидна уже из внешнего вида квартир, которые обычно составляют каждую жилую суперквадра (сp. рис. 25 и 26). Две наиболее частые жалобы жителей суперквадра — сходство квартир и изоляция мест жительства («в Бразилиа есть только дом и работа»)[320]. Строго геометрические фасады всех блоков одинаковы. Внешне нельзя отличить одну квартиру от другой; нет даже балконов, которые позволили бы жителям придать им какие-то отличительные черты и создать полуобщественные места. Отчасти эта дезориентация является результатом того, что местожительство, особенно такая его форма, не отвечает глубинным представлениям о доме как таковом. Холетон попросил целый класс девятилетних детей, большинство которых жили в суперквадра, нарисовать «дом». Ни один не изобразил дом, в котором жил. Вместо этого все рисовали традиционный отдельно стоящий дом с окнами, дверью по центру и наклонной крышей[321]. Блоки суперквадра сопротивляются индивидуальности, а их внешний вид, в частности, стеклянные стены, находится в противоречии с самим смыслом частного пространства дома[322]. Увлеченные общим эстетическим планом архитекторы стирали не только внешние различия статуса жителей, но и многое из той визуальной игры, которую создают различия. Общий проект города препятствует независимой общественной жизни, а проект городского жилья — индивидуальной жизни.
Бразилиа дезориентирует архитектурным повторением и однообразием. Это как раз тот случай, когда видимые глазом рациональность и четкость для тех, кто работает в администрации и городских службах, создают мистифицирующий беспорядок для обычных жителей, которые должны перемещаться по этому городу. В Бразилиа очень мало видимых ориентиров. Каждый торговый квартал или группа суперквадра выглядят так же, как любые другие. Секторы города обозначены сложным набором акронимов и сокращений,и эту глобальную логику центра почти невозможно понять владельцу. Холстон обращает внимание на полное иронии несоответствие между макропорядком и микробеспорядком: «Таким образом, хотя общая топология города производит впечатление необычайно четкого понимания абстрактного плана, практическое знание города уменьшается от наложения этой систематической рациональности»[323]. С точки зрения планировщиков утопического города, чья цель — изменить мир, а не приспособить его для жилья, шок и дезориентация, причиняемая жизнью в Бразилиа, возможно, составляют часть ее дидактической цели. Город, который просто потворствовал бы существующим вкусам и привычкам, не соответствовал бы своей утопической цели.
Незапланированная Бразилиа
С самого начала Бразилиа оказалась построенной не так, как было запланировано. Ее строители проектировали новую Бразилию и новых бразильцев — организованных, современных, эффективных, дисциплинированных.
Бразильцы того времени с их индивидуальными интересами и намерениями только мешали строителям. Так или иначе предполагалось, что более 60 тыс. рабочих построят город, а затем спокойно оставят его администраторам для тех, кому он предназначен. Кубичек был заинтересован в скорейшем окончании строительства, поэтому работы шли настолько быстро, насколько возможно. Хотя большинство чернорабочих обычно работало сверхурочно, их число так быстро росло, что для всех не хватало временного жилья, приготовленного для них в том, что называлось свободным городом. Они скоро оседали на прилегающей земле, на которой построили временные здания; в случаях, когда в Бразилиа мигрировали целые семейства (или занимались там сельским хозяйством), здания, которые они возводили, были иногда весьма основательны.
«Пионеры» Бразилиа собирательно назывались «bandeirantes XX в.», по аналогии с названием авантюристов, впервые проникших в глубь страны. Название звучало как комплимент, поскольку Бразилиа Кубичека тоже была символическим завоеванием внутреннего пространства страны нацией, которая исторически цеплялась за береговую линию. Вначале, однако, чернорабочие, которые привлекались к строительству в Бразилиа, были бродягами, уничижительно называемыми candangos. Candango был «человеком без качеств, без культуры, без дома, малообразованный, примитивный»[324]. Кубичек изменил все это. Он воспользовался строительством Бразилиа — а оно было, в конечном итоге, затеяно для преобразования Бразилии, чтобы превратить candangos в героев-пролетариев новой нации. «Будущие толкователи бразильской цивилизации, — заявлял он, — должны поразиться бронзовой суровости этого анонимного титана, который называется candango, неясному и огромному герою строительства Бразилиа... Пока скептики смеялись над утопическим предназначением нового города, который я готовился строить, candangos брали на себя ответственность»[325]. Заняв свое место в риторическом пространстве, candangos добивались собственного места в утопическом городе. Они объединялись, чтобы защитить свою землю, требовали коммунальных услуг и правовой защиты. К 1980 г. 75% населения Бразилиа жило в поселениях, появления которых никто никогда не ожидал, в то время как в запланированном городе разместилось меньше половины проектируемого населения в 557 тыс. человек. Точкой опоры бедноты, собранной в Бразилиа, были не только благодеяния Кубичека и его жены, доны Сары. Ключевую роль также играла политическая структура. Поселенцы оказались способными мобилизоваться, протестовать и быть услышанными в разумно соревновательной политической системе. Ни Кубичек, ни другие политические деятели не могли упустить возможности вырастить политическую клиентуру, которая голосовала бы как единый блок.
Незапланированная Бразилиа, реально существующая столица весьма отличалась от первоначального замысла. Вместо бесклассового административного города получился город, характеризуемый абсолютным пространственным разделением согласно социальным классам. Бедные жили на окраинах и ежедневно покрывали большие расстояния до центра, где жили и работали многие из элиты. Многие из богатых также создавали собственные поселения с индивидуальными зданиями и частными клубами, копируя образ жизни, присущий другим местам Бразилии. Незапланированные Бразилиа — богатая и бедная — появились не случайно; можно сказать, что за видимость порядка и четкости в центре города пришлось платить внеплановой Бразилиа в окрестностях. Эти две Бразилиа не только различались, но и приносили взаимную пользу.
Радикальные преобразования столь большой и разнообразной нации, как Бразилии, трудно было даже представить, не говоря уже о том, чтобы провести их в 5-летний срок. Одни чувствовали, что Кубичек, подобно многим другим правителям, поначалу желавший большого будущего для всей своей страны, усомнился в возможности преобразования всей Бразилии и бразильцев и обратился к более реальной задаче — созданию с нуля утопического города. Построенный на новом участке, в новом месте, город создал бы преобразовательную физическую среду для новых жителей — среду, в которой скрупулезно учитывались последнее слово науки в области здоровья, эффективность и рациональный порядок. Поскольку город предполагалось строить по единому плану, земля находилась в собственности государства, все контракты, коммерческие лицензии и зонирование находились в руках государственного агентства (Novacap) — в общем, создавались благоприятные условия для успешной «утопической миниатюризации».
Имела ли Бразилиа успех в роли высокомодернистского утопического города? Если мы будем оценивать это степенью ее отличия от традиционных городов Бразилии, то ее успех был значителен. Если же оценивать ее способность преобразовать остальную часть Бразилии или вызвать любовь к новому образу жизни, то ее успех был минимален. Реальная Бразилиа в противоположность гипотетической, оставшейся на бумаге, сопротивлялась этому плану, опровергала его и имела свои политические расчеты.
Ле Корбюзье в Чандигархе
Так как Ле Корбюзье не проектировал Бразилиа, влияние его на неудачи этого строительства обусловлено только тем, что он писал когда-то в декларации. Однако существуют два соображения, оправдывающие его связь с Бразилиа. Во-первых, Бразилиа была честно построена согласно доктринам CIAM, разработанным главным образом Ле Корбюзье. Во-вторых, Ле Корбюзье фактически играл главную роль в проектировании другой столицы, в которой проявились в точности те же человеческие проблемы, с которыми столкнулись в Бразилиа.
Чандигарх, новая столица Пенджаба, был наполовину спроектирован, когда отвечавший за это архитектор Мэтью Новицки внезапно умер[326]. Неру, искавший преемника, пригласил Ле Корбюзье заканчивать проект и контролировать строительство. Выбор отвечал собственной высокомодернистской цели Неру — содействовать появлению современной технологии в новой столице, которая подчеркнула бы ценности новой индийской элиты[327]. Модификация Ле Корбюзье первоначального плана Новицки и Альберта Мейера была направлена на усиление монументализма и линейности. Вместо больших кривых Ле Корбюзье начертил прямолинейные оси. Центр столицы он расположил на монументальной оси, мало чем отличающейся от тех, что были в Бразилиа и в его плане Парижа[328]. Переполненные базары, вмещавшие так много товаров и людей в маленькое пространство, заменил огромными площадями, которые сегодня стоят почти пустые (рис. 27).

Учитывая, что в Индии пересечения дорог обычно служили местами, где собиралось много людей, Ле Корбюзье изменил масштаб и предусмотрел различные зоны, чтобы предотвратить возможность возникновения оживленных улиц. Как замечает один недавний наблюдатель, «на земле расстояние между улицами настолько большое, что человек видит только бетонированную площадку и несколько одиноких фигур здесь и там. Деятельность мелких уличных торговцев, лоточников или разносчиков в городском центре запрещена, так что даже этот источник интереса и активности, способный уменьшить бетонную скудость площади, не используется»[329].
Как и в Бразилиа, столица должна была преобразовать ту Индию, которая существовала до сих пор, и представить граждан Чандигарха, прежде всего администраторов, образом будущего. Как и в Бразилиа, результат оказался другим: незапланированный периферийный город, окрестности которого противоречат строгому порядку в центре.
Выступление против высокомодернистского урбанизма:
Джейн Джекобс
В 1961 г. Джейн Джекобс в своей книге «Жизнь и смерть великих американских городов» выступила против засилия модернизма в функциональном городском планировании. Это был не первый случай критики высокомодернистского урбанизма, но, я уверен, наиболее тщательно проведенный и интеллектуально обоснованный критический анализ[330]. Как наиболее всесторонний вызов современным доктринам городского планирования, он спровоцировал дебаты, последствия которых чувствуются до сих пор. В результате приблизительно тремя десятилетиями позже многие из подходов Джекобс были включены в рабочие предложения о сегодняшнем городском планировании. Хотя то, что она назвала своим «нападением на нынешнее городское планирование и перестройку», относилось прежде всего к американским городам, в центре ее атаки находились доктрины Ле Корбюзье, применяемые здесь и за границей.
В критическом анализе Джекобс замечателен и весьма показателен ее особый взгляд. Она начинает с улицы, рассматривает этнографию микропорядка в окрестностях, на тротуарах и перекрестках. Если Ле Корбюзье первоначально «видит» свой город с воздуха, Джекобс рассматривает его как пешеход, который ежедневно ходит по нему. Джекобс как политический активист принимала участие во многих кампаниях против предложений о зонировании, о строительстве дорог и жилья, которое ей не нравилось[331]. Трудно себе представить, чтобы радикальный критический анализ такого стиля мог когда-либо родиться внутри интеллектуального круга городских планировщиков[332]. Ее новый стиль повседневной социологии, связанный с проектами городов, был слишком далек от ортодоксальной рутины современных ей школ городского планирования[333]. Ее маргинальный критический анализ поможет подчеркнуть многие неудачи высокого модернизма.
Визуальный порядок против опытного
Самое важное в аргументах Джекобс состоит в том, что не существует необходимого соответствия между впечатлением правильности, которую создает геометрический порядок, с одной стороны, и системой, эффективно удовлетворяющей повседневные потребности, с другой. Почему, спрашивает она, следует ожидать, чтобы хорошо функционирующие окружающие среды или разумные социальные мероприятия соответствовали визуальным понятиям упорядоченности и регулярности? Чтобы проиллюстрировать эту загадку, она ссылается на новый проект жилья в Восточном Гарлеме — прямоугольную лужайку, которая стала предметом осмеяния всех жителей. Она была просто оскорблением для тех, кого заставили жить среди незнакомцев, насильственно переселив туда, где невозможно получить газету или чашку кофе или позаимствовать 50 центов[334]. Как оказалось, видимый глазом порядок лужайки скрывает жестокий беспорядок.
Фундаментальная ошибка городских архитекторов, заявляет Джекобс, состоит в том, что они выводят функциональный порядок из физического расположения зданий, из их группирования по своим формам, т. е. из визуального порядка. Наиболее сложные системы вовсе не обладают видимой регулярностью; их порядок следует отыскивать на более глубоком уровне. «Чтобы видеть сложные системы функционального порядка именно как порядок, а не хаос, необходимо понимание. Листья, слетающие с деревьев осенью, двигатель самолета, внутренности кролика, редакция городской газеты — все это кажется хаосом, если смотреть на них без понимания. Если же понимать порядок этой системы, она выглядит совершенно по-другому». На этом уровне можно сказать, что Джекобс была «функционалисткой» (определение, использование которого было запрещено в студии Ле Корбюзье). Она ставит простой вопрос: какую функцию выполняет эта структура и насколько хорошо? «Порядок» вещи определен целью, ради которой она создана, а не эстетическим видом ее поверхности[335]. Ле Корбюзье, напротив, кажется, полагал, что наиболее эффектные формы всегда классически правильны и упорядочены. Спроектированные и построенные Ле Корбюзье физические среды имели, как и Бразилиа, полную гармонию и простоту формы. Однако во многих важных отношениях они оказались неудовлетворительными как пространство для жизни и работы.
Именно эта сторона неудачи городских моделей планирования так занимала Джекобс. Представления городских архитекторов о порядке оказались не связанным ни с фактическими, экономическими или социальными функциями города, ни с индивидуальными потребностями его жителей. Их наиболее фундаментальной ошибкой было целиком эстетическое представление о порядке. Эта ошибка завела их и дальше — к жесткой изоляции функций. В их глазах смешанные использования зданий, скажем магазины, которые одновременно являются квартирами, маленькими мастерскими и ресторанами, создают своеобразный визуальный беспорядок и путаницу. Большое преимущество раздельных использований, например только для покупок или только для жилья, состояло в том, что оно делало возможным функциональную однородность и визуальное распределение, которое они искали. Конечно, значительно легче планировать область для единственного использования, чем для нескольких. Уменьшение числа использований и, следовательно, числа переменных, которыми нужно оперировать, позволяло объединить эстетический и визуальный порядок с целью отстоять доктрину единственного использования[336]. В этой связи приходит на ум сравнение двух армий: построенной для парада и воюющей с врагом. В первом случае — опрятный визуальный порядок, создаваемый подразделениями, стоящими по ранжиру, прямыми линиями. Но так можно только демонстрировать само наличие армии, а не ее обученность. Армия на войне, по Джекобс, должна показать, что она умеет делать, чему обучена. Джекобс полагает, что ей известны корни этой склонности к абстрактному, геометрическому порядку, видимому сверху: «Косвенно через утопическую традицию и непосредственно через более реалистическую доктрину искусства наложения модернистское городское планирование с самого начала было обременено неразумной целью превращения городов в упорядоченные произведения искусства»[337].
Недавно, замечает Джекобс, статистические методы и способы ввода-вывода, доступные планировщикам, стали более изощренными. Планировщиков поощряли на такие подвиги, как массовая расчистка трущоб — теперь, когда они могли рассчитать бюджет, определить материалы, пространство, энергию и потребности транспорта перестроенной области. Эти планы продолжали игнорировать социальные затраты перемещающихся семей, «как будто это были песчинки, электроны или бильярдные шары»[338]. Они тоже были основаны на печально известных шатких предположениях — они обращались со сложными системами, как будто их можно было упростить числовыми методами: например, посещение магазина превращается в математическую проблему, для решения которой надо знать только площадь, отведенную для магазина; управление движением выглядит как проблема перемещения некоторого числа транспортных средств в данное время в определенном числе улиц определенной ширины. Но эти проблемы были не только техническими, как мы увидим, реальные проблемы были значительно шире.
Функциональное превосходство разнообразия и сложности
Установление и поддержание социального порядка в больших городах, как мы имели возможность убедиться, довольно хлопотное дело. Взгляд Джекобс на социальный порядок одновременно тонок и поучителен. Социальный порядок не является результатом архитектурного порядка, создаваемого площадями, — сами площади его не создадут. Социальный порядок не вносится извне такими профессионалами, как полицейский, ночной сторож и государственный чиновник. Вместо этого, говорит Джекобс, «социальный мир тротуаров, улиц, городов... создается посредством запутанной, почти не осознанной сети добровольного управления и контроля поведения со стороны самих людей, и ими же и поддерживается». Необходимые условия безопасности улицы — ясное установление границ между общественным пространством и частным, и значительное число людей, которые контролируют это, смотрят на улицу («глаза на улицу») и в обратном направлении, будучи постоянно заняты какой-то полезной деятельностью[339]. В качестве примера области, где эти условия выполнены, она называет северную оконечность Бостона. Его улицы весь день заполнены пешеходами, потому что там очень много удобно расположенных магазинов, баров, ресторанов, пекарен и других подобных мест. Сюда люди приезжают делать покупки, прогуливаться и наблюдать, как другие делают то же самое. Владельцы магазина заинтересованы в том, чтобы следить за тротуаром: они знают многих людей по имени, они находятся там весь день, их бизнес зависит от оживленности окрестностей. Те, кто приехал с поручением или просто поесть и выпить, тоже смотрят на улицу; старики наблюдают за тем, что на ней происходит, из окон квартиры. Некоторые из пешеходов находятся в дружеских отношениях, а многие просто знакомы, узнают друг друга. Процесс этот обоюдный. Чем более оживлена и занята своими делами улица, тем интереснее следить за ней со стороны; все эти зрители, которые хорошо знают окрестности, ведут наблюдение по своему желанию.
Джекобс припоминает случай, который произошел на аналогичной улице в Манхэттене, когда взрослый человек, похоже, заигрывал с восьми- или девятилетней девочкой, уговаривая ее пойти с ним. Пока Джекобс наблюдала это из окна второго этажа, задаваясь вопросом, что будет, если она вмешается, на тротуаре появилась жена мясника, владелец магазина деликатесов, хозяева двух баров, продавцы фруктов, владелец прачечной и еще несколько человек, открыто наблюдавших из окон арендуемых квартир и готовых предотвратить возможное похищение. Никакой служитель закона не появился, да в этом и не было необходимости[340].
Поучителен также другой случай неофициального городского порядка и неформальных услуг. Джекобс рассказывает, что в районе, где жила она с мужем, всегда можно было оставить ключи от квартиры у владельца магазина деликатесов, который для этого держал специальный ящик. Это было удобно и для них, и для тех, кто пользовался квартирой в отсутствие хозяев[341]. Она отмечает, что на каждой близлежащей улице смешанного использования кто-то всегда играл ту же самую роль: бакалейщик, владелец кондитерской, парикмахер, мясник, работник химчистки или владелец книжной лавки. Это — одна из многих общественных функций частного бизнеса[342]. Эти услуги — не результат какой-то глубокой дружбы; они оказываются потому, что люди нашли общий, по словам Джекобс, «язык тротуара». И такие услуги было бы совершенно невозможно обеспечить за счет какого-либо общественного института. При каких-либо столкновениях, не имея традиции обращения за помощью к чьей-либо личной репутации, что практикуется в маленьких сельских общинах, город полагается на достаточную большую плотность людей, установивших друг с другом язык тротуара, чтобы поддерживать общественный порядок. Сеть дружественных отношений и знакомств позволяет человеку использовать важные, часто не замечаемые социальные удобства. Для человека вполне естественно попросить кого-то сказать, что данное место занято, понаблюдать за ребенком, пока он посещает туалет, или последить за велосипедом, пока он покупает бутерброд.
Анализ Джекобс интересен своим вниманием к микросоциологии общественного порядка. Все, кто отвечает здесь за этот порядок — неспециалисты,их главное дело какое-то другое. Здесь нет никакой формальной общественной или добровольческой организации, следящей за порядком в городе: ни полиции, ни частной охраны, ни местной охраны порядка, никаких формальных встреч или должностных лиц — наблюдение за порядком внедрено в логику ежедневной практики. Более того, говорит Джекобс, формальные учреждения общественного порядка успешны только тогда, когда их поддерживает эта богатая, неофициальная общественная жизнь. Те места в городе, где только полиция поддерживает порядок, самые опасные. Джекобс признает, что каждый из этих маленьких обменов информацией в неофициальной общественной жизни: кивок, восхищение новорожденным младенцем, вопрос, где можно купить хорошие груши, — можно признать тривиальным. «Но сумма отнюдь не тривиальна, — настаивает она. — Все социальные контакты на местном уровне — большинство из них случайны, вызваны какими-то поручениями, но все они связаны с человеческой заинтересованностью друг в друге, они не сталкивают людей, а рождают чувство их социальной идентичности, плетут ткань общественного уважения и доверия, и эта ткань порождает ресурсы своевременного удовлетворения личных потребностей или потребностей района. Именно отсутствие доверия и производит беспорядок на улицах города. Доверие нельзя специально вырастить. И, прежде всего, оно не подразумевает никаких частных обязательств»[343]. Там, где Ле Корбюзье начинает с формального архитектурного порядка сверху, Джекобс начинает с неофициального социального порядка снизу.
Разнообразие, взаимная польза и сложность (социальная и архитектурная) — лозунги Джекобс. Смешивание мест жительства, покупок и работы делает пространство более привлекательным, более удобным и более желательным — это относится и к дорожному движению, отчего улицы, в свою очередь, становятся относительно безопасными. Вся логика разбираемых ею примеров связана с организацией больших групп людей, разнообразия и удобств, которые определяют такую обстановку, где люди хотят находиться. Кроме того, сильное дорожное движение в оживленном и красочном окружении экономически влияет на торговлю и ценность собственности, а это уже существенно. Популярность района и его экономический успех идут рука об руку. Обычно такие места привлекают виды деятельности, для которых большинство планировщиков специально выделило бы особое пространство. Дети предпочитают играть на тротуарах, а не в парках, специально для этого созданных, потому что тротуары безопаснее, богаче событиями и больше подходят для пользования удобствами, доступными в магазинах и дома[344]. Понять магнетический эффект занятой делами улицы не труднее, чем понять, почему кухня — самая деловая комната в доме. Это наиболее универсальное место — место съестных припасов и спиртных напитков, место приготовления пищи, а, следовательно, место социализации и обмена[345].
Каковы условия этого разнообразия? Наиболее важен тот факт, что в районе сочетаются различные возможности, утверждает Джекобс. Далее, улицы и кварталы должны быть короткими, чтобы своей длиной не создавать препятствий пешеходам и торговле[346]. Здания должны иметь (в идеале) разный возраст и состояние, чтобы можно было взимать различную арендную плату и, соответственно, различным образом использовать их. Неудивительно, что каждое из этих условий нарушает одно или больше рабочих предположений ортодоксальных городских планировщиков наших дней: районы с единственным использованием, длинные улицы, архитектурное единообразие. Сочетание первичных использований, объясняет Джекобс, влекут за собой разнообразие и плотность людских потоков.
Возьмем, например, ресторанчик, скажем, в финансовом районе Уолл-Стрита. Такой ресторан получает всю свою прибыль между 10 часами утра и 3 пополудни — время, когда у работников офисов бывают утренние перерывы на кофе и на завтрак, а потом они покинут эту улицу и поедут домой. А в районе смешанного использования клиенты могут посещать ресторан в течение всего дня и вечером. Он может оставаться открытым в течение большего количества часов, принося пользу не только собственному бизнесу, но и бизнесу расположенных поблизости специализированных магазинов, которые едва ли могли выжить в районе с единственным использованием, но в области смешанного использования станут действующими предприятиями. Самый беспорядок действий, зданий и людей — очевидный беспорядок, который оскорбил бы эстетический взор планировщика — был для Джекобс признаком динамической жизнеспособности: «Запутанные смешения различных видов использований — не хаос. Напротив, они представляют комплексную и высокоразвитую форму порядка»[347].
Джекобс весьма убедительно выступает в пользу смешанного использования и сложности, исследуя под микроскопом происхождение общественной безопасности, гражданского доверия, визуального интереса и удобства, но есть и еще более сильный аргумент за взаимопомощь и разнообразие. Подобно естественному лесу, окрестности с разными магазинами, центрами развлечения, услуг, различного жилья и общественных мест по определению более жизнеспособны. Разнообразие коммерческих предложений (от ритуальных услуг и коммунального обслуживания до магазинов и баров) делает район менее уязвимым к экономическим спадам, одновременно обеспечивая много возможностей для экономического роста во время подъемов. Подобно монокультурным лесам, районы, специализированные на одной цели, оказываются особенно восприимчивыми к стрессу, хотя и могут сначала «поймать бум». Разнообразные окрестности более жизнеспособны.
Я думаю, что «женский глаз» — за отсутствием лучшего термина — был необходим для того стиля, в котором представлены рекомендации Джекобс. Многие специалисты были проницательными критиками высокомодернистского городского планирования, и Джекобс ссылается на их работы. Однако трудно представить ее аргументацию в устах мужчины. Несколько элементов ее критического анализа укрепляют это впечатление. Прежде всего, ее городской опыт гораздо шире, чем ежедневные походы на работу и с работы и приобретение товаров и услуг. Глаза, которыми она смотрит на улицу, замечают покупателей, матерей с колясками, играющих детей, друзей, пьющих кофе или перекусывающих, прогуливающихся влюбленных, людей, смотрящих в окно, владельцев магазинов, обслуживаемых клиентов, стариков, сидящих на скамейках парка[348]. Работа тоже учитывается ею, но в основном ее внимание приковано к тому, что происходит на улице ежедневно, как оно проявляется вокруг и вне работы. Она занята общественными местами, внутренние же помещения дома и офиса, как и фабрика, ее не интересуют. Действия, за которыми она так тщательно наблюдает, от прогулки до покупок, не имеют одной-единственной цели или вовсе не имеют никакой сознательной цели в узком смысле слова.
Сравните этот взгляд с тем, что демонстрирует большинство ключевых элементов высокомодернистского городского планирования. Эти планы основаны на упрощающем предположении, что человеческая деятельность всегда направлена к четко определенной и единственной в данный момент цели. В ортодоксальном планировании такие упрощения лежат в основе строгой функциональной изоляции мест работы от постоянного проживания и их обоих от мест торговли. У Ле Корбюзье и его последователей остается единственная проблема: как перевозить людей (обычно в автомобилях) быстрее и экономичнее. Посещение магазина превращается в вопрос обеспечения соответствующей площади, доступа к ней некоторого числа покупателей и товаров. Даже развлечения раздроблены на специфические действия и выделены в детские площадки, спортивные залы, театры и т. п.
Таким образом, именно так называемый женский глаз Джекобс позволяет понять, что человек многое делает (включая, безусловно, работу), преследуя не одну какую-то цель, а более широкий и неопределенный диапазон целей. Дружеский ланч с коллегами может быть наиболее существенной частью дня для работающего человека. Матери, гуляющие с коляской, могут одновременно общаться с друзьями, выполнять поручения, перекусывать и искать книгу в местном книжном магазине или библиотеке. В ходе этих действий другая «цель» может возникать нечаянно. Мужчина или женщина, едущие на работу, не просто едут на работу. Они могут рассматривать пейзаж, обсуждать свои дружеские отношения или привлекательность кафе около автомобильной стоянки. Сама Джекобс, чрезвычайно одаренная «взглядом на улицу», обнаружила большое разнообразие человеческих целей, заключенных в любой деятельности. Цель города состоит в том, чтобы поощрять и умножать это богатое разнообразие, а не мешать ему. И то, что городские планировщики никогда не умели делать так, как она предлагала, имеет некоторое отношение к различию мужского и женского начала[349].
Авторитарное планирование как превращение города в чучело
Для Джекобс город — социальный организм, живая структура, которая постоянно изменяется и в которой постоянно появляются неожиданные возможности. Его взаимосвязи настолько сложны и плохо поняты, что планировщик всегда рискует нечаянно урезать его живую ткань, тем самым нарушая живые социальные процессы или даже разрушая их. Она противопоставляет «искусство» планировщика нормальному ходу повседневной жизни: «город не может быть произведением искусства... Искусство выражает реальное содержание буквально бесконечно запутанной жизни произвольно, символически и абстрактно. В этом его ценность и источник собственного порядка и последовательности... Результаты глубокого расхождения между искусством и жизнью не являются ни жизнью, ни искусством. Это — таксидермия, набивка чучел. На своем месте набивка чучел может быть полезным и приличным ремеслом. Однако, когда образцы этого ремесла помещают на выставках, чтобы демонстрировать мертвые чучела городов, это заходит слишком далеко»[350]. Сущность выступления Джекобс против современного городского планирования состоит в том, что это планирование накладывает статическую сетку на множество непостижимых возможностей. Она осудила мечту Эбенезера Говарда о городе-саде, потому что запланированная им изоляция предполагает, что сообщества фермеров, фабричных рабочих и бизнесменов останутся раз навсегда установленными различными кастами. Такое предположение не учитывает «спонтанного разнообразия» и текучести, которые были главными особенностями города XIX в.[351]
Склонность городских планировщиков к массовым расчисткам трущоб подверглась осуждению по тем же причинам. Трущобы были первой точкой опоры бедных мигрантов в городе. Пока они держались в разумных пределах и их экономика была относительно сильна, люди и бизнес могли существовать, не залезая в долги, и эти поселения с течением времени самостоятельно выбирались из трущобного состояния. Многие уже и выбрались. Однако планировщики нередко разрушали и «нетрущобные трущобы», поскольку те не соответствовали их доктринам «планирования и использования земельных участков, плотности застройки, сочетания разного вида строений и типов деятельности»[352], не говоря уже о спекуляции землей и соображениях безопасности, лежавших в основе всяких «городских обновлений».
Время от времени Джекобс отстраняется от бесконечного и изменяющегося разнообразия американских городов, чтобы выразить некоторый страх и смирение: «Их запутанный порядок — проявление свободы бесчисленного множества людей строить и реализовать бесчисленные планы — вызывает зачастую большое удивление. Мы не должны отказываться сделать это живое собрание взаимозависимых использований, эту свободу, эту жизнь более понятной, хотя мы и не осознаем, что это такое само по себе»[353]. Мнение многих городских планировщиков о том, что они знают, чего люди хотят и как люди должны проводить время, кажется Джекобс близоруким и высокомерным. Эти планировщики принимали за истину (по крайней мере, принятые ими планы подразумевают это), что люди предпочитают открытые пространства, визуальный (зонированный) порядок и тишину. Они предполагали, что люди хотят жить в одном месте, а работать в другом. Джекобс полагает, что они ошибаются, и она готова аргументировать свою позицию повседневными уличными наблюдениями, а не чьими-то пожеланиями.
Логика городских планировщиков, лежащая в основе пространственного разделения и зонирования для единственного использования, которую критиковала Джекобс, была одновременно эстетической, научной и практический. Эстетически она приводила к визуальной упорядоченности, даже к единообразию скульптурного вида данного ансамбля. С научной точки зрения эта логика уменьшала число неизвестных, для которых планировщик должен был найти решение. Подобно системе уравнений в алгебре, слишком большое число неизвестных в городском планировании делало любое решение проблематичным или требовало весьма определенных предположений. Проблема, перед которой стоял планировщик, была аналогична проблеме лесовода. Одно современное решение состояло в том, чтобы заимствовать определенную технику управления, так называемое оптимальное управление, и тогда воспроизводство древесины могло быть успешно предсказано в результате немногих наблюдений с помощью скупой формулы. Само собой разумеется, что оптимальное управление — самая простая теория, в которой большое число переменных превращается в константы.
Таким образом, лес с деревьями единственного вида, одинакового возраста, посаженными по прямым линиям на плоской равнине с одинаковой почвой и одинаковыми показателями влажности, подчиняется более простой и точной формуле. В сравнении с однородностью разнообразие всегда труднее проектировать, строить и управлять им. Когда Эбенезер Говард подошел к градостроительству как к простой задаче связи двух переменных в закрытой системе: потребности в жилье и потребности в рабочей силе, он работал «с научной точки зрения» в тех же самых принятых ограничениях. Формулы для количества зелени, света, школ и квадратных метров на душу населения довершали дело.
В городском планировании, как и в лесоводстве, только один шаг отделяет упрощающие предположения от практики формирования окружающей среды таким образом, чтобы удовлетворялись требуемые формулой упрощения. Примером может служить логика планирования потребностей в покупках для данного количества населения. Как только планировщики применили определенную формулу для некоторого числа квадратных футов пространства торгового зала, выделив из них такие категории, как продовольствие и одежда, они поняли, что будут должны делать эти торговые центры монополистами в пределах данного района, чтобы близлежащие конкуренты не лишали его клиентуры. Специальный пункт плана должен был узаконить эту формулу, тем самым гарантируя торговому центру его монополию[354]. В этом случае твердое зонирование по принципу единственного использования превращается не только в эстетическую меру. Оно помогает реализовать научное планирование так, чтобы сделать справедливыми формулы, описывающие наблюдения в этом пространстве самоисполняющегося пророчества.
Радикально упрощенный город, если рассматривать его сверху, практичен и эффективен. Организация услуг — электричество, вода, канализация, почта — упрощается и под, и над землей. Районы единственного использования проще строить, функционально повторяя одинаковые квартиры или офисы. Ле Корбюзье взывал к такому будущему, когда все компоненты зданий будут изготавливаться промышленно[355]. По этим линиям зонирования район за районом возводится город, более единообразный эстетически и более упорядоченный функционально. В каждом районе происходит единственный вид деятельности или узкий набор их: в деловом районе — работа, в жилом квартале — семейная жизнь, в торговом районе — покупки и развлечения. С полицейской точки зрения это функциональное разделение сводит к минимуму непослушные толпы и вводит максимум возможной регламентации в движение и поведение населения.
Как только установлено само желание всесторонне планировать все в городе, логика единообразия и регламентации становится непреклонной. Эффективность затрат вносит свой вклад в эту тенденцию. Скажем, в тюрьме получится большая экономия, если все заключенные будут носить униформу из одного и того же материала, одинакового цвета и размера, ведь каждая уступка разнообразию влечет за собой соответствующее увеличение затрат административного времени и бюджетной стоимости. Если планирующая власть не обязана делать уступки народным желаниям, решение «один размер удовлетворяет всех», вероятно, возобладает[356].
Против взгляда планировщиков и их формул Джекобс выдвигает свои. Ее эстетика — эстетика прагматического, уличного уровня — основана на опыте, на рабочем порядке города, который создается для живущих там людей. Она задает вопрос: какая физическая среда притягивает людей, облегчает их обращение, способствует социальному обмену и контактам, удовлетворяет и утилитарные, и неутилитарные потребности? Попытка честно ответить на этот вопрос приводит ко многим следствиям: например, короткие кварталы предпочтительнее длинных, потому что они связывают воедино больше видов деятельности. Больших стоянок грузовиков или бензозаправочных станций, нарушающих интересы непрерывности движения пешехода, нужно избегать. Следует сохранить минимум скоростных дорог и огромных отталкивающе распростертых площадей, которые действуют как визуальные и физические барьеры. Здесь тоже есть определенная логика, но логика не априорно визуальная и не чисто утилитарная. Скорее, это стандарт оценки того, насколько данное размещение отвечает социальным и практическим нуждам горожан.
Планирование незапланированного
Историческое разнообразие города — источник его ценности и притягательной силы — незапланированное творение многих рук и долгой практики. Большинство городов представляют собой результат, векторную сумму большого числа незначительных действий, не имевших четко выраженного намерения. Несмотря на усилия монархов, планирующих органов и капиталистических спекулянтов, «в большинстве своем городское разнообразие создается невероятным числом различных людей и частных организаций со значительно различающимися идеями и целями, планирующих и изобретающих вне формальной структуры общественного действия»[357]. Ле Корбюзье согласился бы с этим описанием существующего города, но это было то самое, что его ужасало. Это была та самая какофония намерений, которая отвечала за путаницу, уродство, беспорядок и неэффективность незапланированного города. Глядя на те же самые социальные и исторические факты, Джекобс находит основания для похвалы: «Города могут дать что-нибудь каждому, только потому и только если они созданы всеми»[358]. Она не какой-нибудь свободно-рыночный либертарианец, однако она ясно понимает, что капиталисты и спекулянты волей-неволей преобразовывали город своими коммерческими мускулами и политическим влиянием. Но, полагает она, планирование, приходя в общественную политику, не должно узурпировать этот незапланированный город: «Главная задача проекта и городского планирования должна быть связана с развитием, потому что общественная политика и общественное действие могут многое сделать, чтобы город привлекал к себе много неофициальных планов, идей и возможностей процветания»[359] Планировщик, следующий идеям градостроительства Ле Корбюзье, интересуется целостной формой городского пейзажа и его эффективностью при перевозке людей от точки к точке, а планировщик, следующий идеям Джекобс, сознательно оставляет место для неожиданных, мелких, неофициальных и даже непроизводительных человеческих действий, которые составляют жизнеспособность «живого города».
Джекобс лучше, чем большинство городских планировщиков, осознает экологические и рыночные силы, непрерывно преобразующие город. Гавани, железные дороги и шоссе как средства перемещения людей и товаров демонстрируют уровень деятельной жизни районов города. Но иногда даже успешные, оживленные окрестности, которые Джекобс так высоко ценит, становятся жертвами собственного успеха. Тот или иной район «колонизируется» городскими мигрантами, потому что цена на землю, и, следовательно, арендная плата там ниже. Когда район становится более привлекательным для жилья, арендная плата повышается, изменяется и местная торговля, хозяева новых предприятий часто вытесняют первоначальных владельцев — пионеров, тех, кто помогал преобразовывать этот район. Природа города — поток и изменение; успех и оживленная жизнь в районе не могут быть заморожены и сохранены планировщиками. Запланированный с широким размахом город со временем неизбежно уменьшит степень своего разнообразия, это является необходимым признаком больших городов. Хороший планировщик может только скромно содействовать увеличению городской сложности, а не препятствовать ей.
Для Джекобс город развивается подобно тому, как развивается язык. Язык — совместное историческое создание миллионов говорящих. Хотя все они имеют некоторое влияние на развитие языка, равенство здесь не соблюдается. Лингвисты, филологи и педагоги (некоторые из них поддерживаются государственной властью) делают более значительный вклад. Но процесс не поддается и диктатуре. Несмотря на все усилия «центрального планирования», язык (особенно его повседневная разговорная форма) упрямо продолжает свой собственный богатый, мультивалентный, красочный путь. Точно так же, несмотря на попытки городских планировщиков проектировать и стабилизировать город, он уклоняется; он всегда заново изобретается и гнется во все стороны его обитателями[360]. Для большого города и богатого языка эта открытость, пластичность и разнообразие позволяют им служить бесконечному разнообразию целей, но многие из них все-таки должны быть запланированы.
Аналогию можно продолжить и дальше. Подобно запланированным городам, запланированные языки действительно возможны. Примером могут служить эсперанто, технические и научные языки: они являются весьма точными и мощными средствами выражения в рамках ограниченных целей, для которых они и разработаны. Но язык сам по себе не предназначен только для одной или двух целей. Это — общий инструмент, который может быть направлен на бесчисленное число целей благодаря его адаптируемости и гибкости. Сама история унаследованного нами языка содержит огромный диапазон ассоциаций и значений, которые поддерживают его пластичность. Можно было бы попытаться запланировать все в городе начиная с нуля. Но так как никакой человек или комитет не мог бы полностью охватить все цели и пути жизни, настоящее и будущее, которым живут его жители, это была бы худосочная и слабая версия реального сложного города со своей историей. Это будет Бразилиа, Санкт-Петербург или Чандигарх, а не Рио-де-Жанейро, Москва или Калькутта. Только время и работа миллионов ее жителей могут превратить бледную тень замысла города в настоящий город. Серьезный недостаток запланированного города — то, что он будет не в состоянии не только уважать самостоятельные цели и субъективность людей, которые в нем живут, но и допустить достаточного спонтанного взаимодействия между его жителями — тех обстоятельств, которые созидают город.
Джекобс своеобразно, с пониманием относится к новым формам социального порядка, которые появляются в многих районах города. Это отношение отражено в ее внимании к обыденным, но значимым человеческим связям, которыми пронизаны живущие полной жизнью районы. Признавая, что никакой городской район не может и не должен быть статичным, она подчеркивает необходимость минимальной степени непрерывности социальных сетей и «уличного языка», требуемых для создания связного единства. «Если в данном месте должно работать самоуправление, — размышляет она, — то в его основе должна лежать непрерывность сети добрососедских отношений людей — незаменимого социального капитала города. Всякий раз, когда капитал теряется — все равно по какой причине — [социальный] доход от этого исчезает и возвращается только тогда, когда накопится новый капитал, а это происходит медленно и с трудом»[361]. Это относится даже к трущобам — Джекобс была настроена категорически против проектов расчистки трущоб, которые были в большой моде, когда она писала свою книгу. Трущобы не могли иметь большого социального капитала, но тот, который они имели, надо было использовать, а не уничтожать[362]. Именно этот акцент на изменении, возобновлении и изобретении удерживает Джекобс от того, чтобы стать консерватором в духе Берка, прославляющим все прошедшее. Пробовать задержать это изменение (хотя можно было бы попытаться со всей скромностью повлиять на него) было бы не только неблагоразумно, но и бесполезно.
Крепкие районы, как и крепкие города, являются результатом действия сложных процессов, которые не могут быть навязаны сверху. Джекобс с одобрением цитирует планировщика Стэнли Танкела, который выступил против крупномасштабной очистки трущоб (что очень редко бывает) в следующих выражениях: «следующий шаг потребует большего смирения, так как мы сегодня слишком склонны путать большие проекты строительства с большими социальными достижениями. Нам придется признать, что задача создания сообщества выходит за пределы возможностей воображения. Мы должны учиться сохранять и развивать те сообщества, которые у нас есть, они нам трудно достались. «Приводите в порядок здания, но оставьте в покое людей», «Никакого переселения за пределы окрестностей» — вот какими должны быть лозунги, если мы хотим, чтобы людям нравилось жить в данном районе»[363]. Политическая логика, которую отстаивает Джекобс, состоит в том, что планировщик не может создать полноценно функционирующего сообщества, а вот если такое сообщество уже создалось, оно само внутри себя может улучшать свое собственное состояние. Ставя логику планирования с головы на ноги, она объясняет, как разумное и сильное сообщество района в демократическом обстановке может бороться за создание и поддержание хороших школ, удобных парков, ответственных городских служб и приличного жилья.
Джейн Джекобс выступала против главных фигур, все еще господствовавших в планировании городского пейзажа ее времени: Эбенезера Говарда и Ле Корбюзье. Некоторым из ее критиков она казалась довольно консервативной фигурой, расхваливавшей достоинства сообщества в бедных районах, которые многие стремились оставить, и не обращавшей внимания на степень, в которой город уже «планировался» — не народной инициативой или государством, а разработчиками и финансистами с политическими связями. Есть некоторая справедливость в этой точке зрения. Для нас, однако, нет сомнения в том, что именно она указала на главные изъяны высокомерного высокомодернистского городского планирования. Первый изъян — предположение, что планировщики могут хоть с какой-либо долей вероятности прогнозировать будущее, чего требуют их схемы. Мы сейчас знаем достаточно, чтобы скептически относиться к прогнозам, исходящим из текущих тенденций в нормах изобилия, движения в городе или структуре занятости и дохода. Такие предсказания часто бывают неправильными. Что касается войн, нефтяных кризисов, погоды, вкусов потребителя и политических взрывов, наша способность предсказания — фактически нулевая. Во-вторых, частично благодаря Джекобс мы теперь знаем больше о том, что хорошо для людей, которые живут в данном районе, но все еще мало о том, как такие общины могут создаваться и поддерживаться. Работая с формулами плотности населения, зеленых насаждений и транспорта, можно добиться эффективных результатов в узкой сфере, но вряд ли таким образом можно построить город, в котором захочется жить. Бразилиа и Чандигарх это подтверждают.
Отнюдь не совпадение то обстоятельство, что многие из высокомодернистских городов — Бразилиа, Канберра, Санкт-Петербург, Исламабад, Чандигарх, Абуджа, Додома, Сиудад Гайана[364] — были административными столицами. Здесь, в центре государственной власти, в полностью новом окружении, с населением, состоящим в значительной степени из государственных служащих, которые и обязаны были проживать там, государство может быть уверено в успехе своей сетки планирования. Тот факт, что задача города — быть государственным центром, уже значительно упрощает задачу планирования. Власти не должны бороться, как пришлось Хаусманну, с существовавшими раньше коммерческими и культурными центрами. Контролируя инструменты зонирования, занятости, проживания, уровня заработной платы и физического расположения, они могут подгонять окружающую среду к городу. Эти городские планировщики, которых поддерживает государственная власть, похожи на портных, которые не только вольны изобретать костюм, какой хотят, но могут даже урезать клиента так, чтобы он подходил к мерке.
Городские планировщики, отвергающие «чучельный город», по выражению Джекобе, должны изобрести такое планирование, которое поощряет инициативу и непредвиденные обстоятельства; оно должно в минимальной степени ограничивать выбор, способствовать обращению людей друг к другу, контактам между ними, из которых и возникает инициатива. Чтобы проиллюстрировать возможное разнообразие городской жизни, Джекобс перечисляет различные применения, которые нашел за эти годы центр искусств в Луисвиле: постоянная группа актеров, школа, театр, бар, спортивный клуб, кузница, фабрика, склад, художественная студия. И тогда она спрашивает риторически: «Кто мог ожидать или произвести такую последовательность надежд и услуг?» Ее ответ прост: «Только человек, совершенно лишенный воображения, полагал бы, что сможет; только самонадеянный захотел бы»[365].
5. Революционная партия: ее план и оценка деятельности
Чувство же, товарищ Чепурный, — это массовая стихия, а мысль — организация. Сам товарищ Ленин говорил, что организация для нас выше всего.
Андрей Платонов. Чевенгур
Коммунизм был наиболее искренним, энергичным и доблестным борцом современности... Это совершилось под коммунистическим... покровительством — то, что смелая мечта современности, освобожденная от препятствий беспощадным и всемогущим государством, продвинулась к своим основным целям: великим проектам, неограниченной социальной перестройке, высокой и разнообразной технологии, полному преобразованию природы.
Зигмунд Бауман. Жизнь без выбора
Ленинский проект проведения революции во многом сравним с проектом построения современного города Ле Корбюзье. И то, и другое было достаточно сложным делом, которое пришлось доверить профессионализму и проницательности квалифицированных работников, вполне способных самостоятельно понимать, как план будет разворачиваться на деле. И так же, как Ле Корбюзье и Ленин придерживались в общих чертах сопоставимых вариантов высокого модернизма, так и взгляды Джейн Джекобс были близки взглядам Розы Люксембург и Александры Коллонтай, которые выступали против политики Ленина. Джекобс подвергала сомнению как возможность, так и желательность запланированного сверху города, а Люксембург и Коллонтай сомневались в возможности и желательности революции сверху, совершаемой партией авангарда.
Ленин — архитектор и инженер революции
Ленин, если судить по его основным работам, был убежденным высоким модернистом. В широком смысле слова его линия была весьма последовательной: писал ли он о революции, индустриальном планировании, сельскохозяйственной или управленческой организации, он сосредоточивал свое внимание на единственном научном ответе, который был известен образованной интеллигенции и которому все должны были следовать. Конечно, как практик Ленин обладал еще и другими качествами. Его способность понимать и учитывать настроение народа при формировании большевистской политики, объявлять тактическое отступление, когда это казалось благоразумным, и наносить смелый удар, чтобы получить преимущество, была более значима для его успеха в качестве революционера, чем его высокий модернизм. Однако нас Ленин прежде всего интересует как высокий модернист.
Основной текст для уточнения ленинских высокомодернистских взглядов на революцию — его работа «Что делать?»[366] Высокий модернизм входил составной частью в основную цель ленинской аргументации: убедить русских левых,что только небольшая группа отобранных, профессиональных революционеров могла вызвать революцию в России. Высказанная в 1903 г. задолго до «генеральной репетиции» в 1905 г. эта точка зрения никогда не пересматривалась Лениным, даже при совершенно противоположных обстоятельствах в 1917 г., между ниспровержением царя в феврале и захватом власти большевиками в октябре, когда он написал работу «Государство и революция». Я буду сравнивать взгляды Ленина в этих двух работах и его работах по сельскому хозяйству со взглядами Розы Люксембург, высказанными в ее статье «Массовая забастовка, партия и профсоюзы», написанной в ответ на «Что делать?», и с точкой зрения Александры Коллонтай, значительной фигуры в так называемой «Рабочей оппозиции», которая, находясь внутри большевистской партии, многое критиковала в политике Ленина после революции.
Ленинская работа «Что делать?»
Сам выбор Лениным названия «Что делать?» весьма значим, поскольку так назывался популярный роман Чернышевского, герой которого — «новый человек» из интеллигенции — выступал за разрушение старого режима и за последующее автократическое правление для установления социальной утопии. Это была любимая книга старшего брата Ленина, Александра, которого казнили в 1887 г. за участие в покушении на жизнь царя. Даже когда Ленин стал марксистом, книга «Что делать?» оставалась его любимым произведением: «Я познакомился с работами Маркса, Энгельса и Плеханова, но только Чернышевский имел на меня такое ошеломляющее влияние»[367].
Идея о том, что высшее знание, авторитарное правление и наличие соответствующего социального проекта могли бы преобразовать общество, пронизывает обе работы Ленина. В книге «Что делать?» отношения между партией авангарда и рабочими характеризуются определенными метафорами, которые создают стиль и характер этой работы, тем самым направляя и ее содержание. Эти метафоры группируются вокруг классных комнат и казарм[368]. Партия, ее местные агитаторы и пропагандисты работают как школьные учителя — они помогают поднять простое экономическое недовольство на уровень политических революционных требований, они действуют как офицеры революционной армии, передвигающие своих солдат на другие, лучшие позиции. В роли учителя авангардная партия и ее газета используют авторитарный педагогический стиль. Партия анализирует многочисленные и разнообразные народные жалобы и в подходящее время «диктует позитивную программу действий», которая определяет «всеобщую политическую борьбу»[369].
К слову сказать, Ленин жаловался, что партийные активисты очень плохо подготовлены. Он говорил: «Мало ведь назвать себя „авангардом“, передовым отрядом, — надо и действовать так, чтобы все остальные отряды видели и вынуждены были признать, что мы идем впереди». Цель передовой партии состоит в обучении стремящихся действовать, но «отсталых» пролетариев революционной политике, чтобы их можно было назначить на должность в армию, которая «соберет и подвергнет обработке все крупицы хотя бы зародышевого протеста», создавая таким образом дисциплинированную революционную армию[370]. В контексте этих метафор «массы» вообще и рабочий класс в частности становятся «телом», а авангардная партия — «мозгом». Партия для рабочего класса есть то же, что ум для грубой силы, осмотрительность для беспорядочности, менеджер для рабочего, учитель для ученика, администратор для подчиненного, профессионал для дилетанта, армия для толпы или ученый для обывателя. Краткое объяснение, как работают эти метафоры, поможет понять ленинский вариант высокомодернистской, хотя и революционной, политики.
Ленин, конечно, понимал, что успех революционного предприятия зависел от готовности народа к выступлению и быстроты действий. Однако трудно было надеяться только на народные выступления снизу, потому что эти выступления были разрозненными и эпизодическими, что позволяло царской полиции легко справляться с ними. Если уподобить народные действия взрывчатому политическому материалу, роль авангардной партии состояла в такой концентрации и нацеливании этого заряда, чтобы его взрыв смог разрушить режим. Авангардная партия «сливает воедино стихийно-разрушительную силу толпы и сознательно-разрушительную силу организации революционеров»[371]. Этот мыслящий орган революции гарантировал, что народная сила, прежде неорганизованная и темная, теперь использовалась эффективно. Логика такого рассуждения привела Ленина к мысли о партии авангарда как гипотетическом генеральном штабе многочисленной, но недисциплинированной армии неопытных новичков, уже находящихся в сражении. Чем более неуправляема армия, тем больше потребность в небольшом генеральном штабе, координирующем ее действия. Своим оппонентам слева (экономистам), которые утверждали, что десяток умников легко выловить, а сотню дураков (революционную толпу) невозможно остановить, Ленин отвечал, «что без „десятка“ талантливых (а таланты не рождаются сотнями), испытанных, профессионально подготовленных и долгой школой обученных вождей, превосходно спевшихся друг с другом, невозможна в современном обществе стойкая борьба ни одного класса»[372].
Ленинские аналогии с военной организацией были не только красивыми оборотами речи, он действительно так думало большинстве аспектов работы партийной организации. Он писал о «тактике» и «стратегии» в самом прямом, военном, смысле. Только генеральный штаб способен к развертыванию своих революционных сил в соответствии с целостным планом сражения. Только генеральный штаб может оценить все позиции на поле боя и предвосхитить вражеское наступление. Только генеральный штаб может иметь «гибкость..., чтобы немедленно приспосабливаться к разнообразным и быстро меняющимся условиям борьбы, ...уменье, с одной стороны, уклониться от сражения в открытом поле с подавляющим своей силою неприятелем, когда он собрал на одном пункте все силы, а с другой — пользоваться неповоротливостью этого неприятеля и нападать на него там и тогда, где всего менее ожидают нападения»[373]. Он утверждал, что предыдущие неудачи социал-демократов можно приписать отсутствию организации, планирования и координации, которые мог обеспечить только генеральный штаб. Эти «молодые бойцы», которые «отважно пошли на битву с удивительно примитивным оружием и необученные», были подобны «крестьянам от сохи, взявшимся за винтовку». Их «немедленное и полное поражение» было неизбежно, «потому что эти открытые столкновения не являлись результатом систематического, тщательно продуманного и постепенно подготовленного плана длительной и упорной борьбы»[374].
Частично необходимость строгой дисциплины возникала из-за того, что враги революции были лучше вооружены и более опытны. Это объясняет, почему «свобода критики» среди революционных сил могла быть выгодна только оппортунистам и приводила к господству буржуазных ценностей. Ленин еще раз ухватился за военную аналогию, чтобы все поставить на свои места: «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились по свободно принятому решению именно для того, чтобы бороться с врагами и не оступаться в соседнее болото», т. е. в свободу критики[375].
Представляемые Лениным отношения между авангардом партии и ее рядовым составом, возможно, лучше всего иллюстрируются терминами «масса» и «массы». Хотя эти термины стали стандартными оборотами в социалистическом жаргоне, они довольно обидны. Ничто лучше не передает образа чистого и неупорядоченного количества, чем слово «массы». Как только такой ярлык прилеплен, становится ясно, что в основном они участвуют в революционном процессе весом своей численности и грубой силой, которую они, конечно, представляют, если ими твердо управлять. Так создается впечатление огромной, бесформенной, все крушащей толпы, не объединенной никакой общностью — без истории, без идей, без плана действий. Конечно, Ленин полностью осознавал, что рабочий класс имеет свою собственную историю и собственные ценности, но эта история и эти ценности поведут рабочий класс в неверном направлении, если их не заменить историческим анализом и передовой революционной теорией научного социализма.
Таким образом, партия авангарда не только необходима для тактического единства масс, но и должна в буквальном смысле все решать за них. Партия функционирует как исполнительная элита, чье понимание истории и диалектического материализма позволяет ей ставить верные «военные цели» классовой борьбы. Ее власть основывается на научном интеллекте. Ленин указывал на «глубоко верные и важные высказывания Карла Каутского»: пролетариат не может достичь «современного социалистического сознания» своими силами, потому что он испытывает недостаток в «глубоком научном знании», а потому необходимо понять следующее: «Движущая сила науки не пролетариат, а буржуазная интеллигенция»[376].
Такова суть высказываний Ленина о стихийности. Существуют только две идеологии: буржуазная и социалистическая. Проникающая сила буржуазной идеологии такова, что стихийное развитие рабочего класса может привести только к ее триумфу. По ленинской незабываемой формулировке, «рабочий класс своими собственными усилиями способен развить только профсоюзное сознание»[377]. Социал-демократическое сознание, напротив, приходит извне, т. е. от социалистической интеллигенции. Партия авангарда представлена как в полном смысле сознательная, научная и социалистическая сила в противоположность массам, которые в значительной степени несознательны, донаучны и подвержены постоянной опасности впитывать буржуазные ценности. Строгие замечания Ленина относительно недисциплинированности — «отклониться от этого [от социалистической идеологии] на малейший градус означает усилить буржуазную идеологию»[378] — оставляют впечатление директив генерального штаба, чей жесткий контроль является единственным средством удержать новобранцев, способных в любой момент разбежаться и начать бузить.
В ленинском рассуждении метафоры, связанные с армией и классной комнатой, иногда заменяются образами бюрократического учреждения или промышленного предприятия, в котором только руководители и инженеры могут видеть большие цели организации. Ленин призывает к некоторому подобию разделения труда в революционной работе, где руководитель обладает монополией на передовую теорию, без которой революция невозможна. Аналогично владельцам фабрик и инженерам, которые составляют рациональные планы производства, партия авангарда обладает научным пониманием революционной теории, позволяющим руководить борьбой пролетариата за освобождение. В 1903 г. для доказательства своей позиции Ленин еще не мог ссылаться на сборочные линии поточного производства, но он подобрал другую отличную аналогию из строительной техники. «Скажите, пожалуйста, — говорил он, — когда каменщики кладут в разных местах камни громадной и совершенно невиданной постройки, — не «бумажное» ли это дело проведение нитки, помогающей находить правильное место для кладки, указывающей на конечную цель общей работы, дающей возможность пустить в ход не только каждый камень, но и каждый кусок камня, который, смыкаясь с предыдущими и последующими, возводит законченную и всеобъемлющую линию? И разве мы не переживаем как раз такого момента в нашей партийной жизни, когда у нас есть и камни, и каменщики, а не хватает именно видимой для всех нити, за которую все могли бы взяться?»[379] Партия имеет конкретный проект совершенно новой структуры, которую сделало возможной ее научное прозрение. Дело рабочих — следовать предначертанному пути, будучи убежденными, что архитекторы революции знают свое дело.
Военная метафора в целом отражает картину, аналогичную разделению труда в современном капиталистическом производстве. И то, и другое требует авторитарных методов руководства и централизованного контроля. Поэтому Ленин писал о потребности партии в «распределении тысяча одной минуты функций ее организаторской работы», выражал недовольство «техническими погрешностями» и призывал к объединению «всех этих крошечных фракций в одно целое». Как он заключает, «специализация необходимо предполагает централизацию и, в свою очередь, властно призывает к этому»[380].
Конечно, большой парадокс работы «Что делать?» в том, что Ленин, выбрав темой организацию революции, неотделимую от народного гнева, насилия и определения новых политических целей, обсуждает ее на специальном языке техники, технической иерархии, эффективной и предсказуемой организации средств. Политика таинственным образом исчезает из революционных рядов и оставляется верхам авангардной партии — так инженеры могли бы обсуждать между собой, каким образом уложить фабричный пол. Партия авангарда есть машина для производства революции. Нет никакой необходимости в политике внутри партии, так как научность и разумность социалистической интеллигенции требуют только технически необходимого подчинения; суждения партии объективны и логически неизбежны.
Ленин распространяет эту линию рассуждения на характеристику революционной элиты. Люди, принадлежащие к ней, не просто революционеры, они — «профессиональные революционеры». Он настаивает на полном смысле определения «профессиональный» — опытный, углубленный в работу, обученный революционер. Малочисленные, законспирированные, дисциплинированные кадры противопоставлены рабочим организациям — многочисленным, всем известным и представляющим определенные отрасли производства. Эти группы невозможно спутать. Таким образом, к аналогии отношения фабричного управляющего к рабочему Ленин добавляет еще аналогию отношения профессионала к новичку или дилетанту. Предполагается, что новички и дилетанты пойдут за профессионалами, обладающими большими техническими знаниями и опытом.
Точно так же, как Ле Корбюзье мечтает, что народ доверится познаниям и расчетам искусного архитектора, так и Ленин полагает, что здравомыслящий рабочий захочет довериться власти профессиональных революционеров.
Вернемся наконец к метафоре, связанной с классной комнатой, в которой авангардная партия — учитель, а массы — ученики. Ленин вряд ли уникален в использовании этой аналогии. В общем-то, ее педагогическое содержание не ново, просветительские кружки для рабочих и школы социалистических бойцов были обычным явлением, особенно в Германии, где Роза Люксембург преподавала в социалистических партийных школах в Берлине. Хотя образ класса, может быть, и банален, особое использование его. Лениным для характеристики обучения социализму придает этому образу определенный акцент. Огромное количество ленинских мыслей и выступлений было посвящено широко понимаемому «социалистическому обучению». Его внимание было поглощено обучением бойцов, ролью партийной газеты «Искра», содержанием речей, манифестов и лозунгов. Но при социалистическом обучении Ленина существует опасность, что учителя потеряют контроль над учениками и погрязнут в проникающем влиянии узких экономических требований, законодательных реформ и чисто местных забот. Метафора классной комнаты иерархична, но Ленин все-таки беспокоится, что учителя-социалисты поддадутся влиянию учеников и «скатятся к примитивным представлениям». Это лежащее на поверхности ленинских работ опасение очевидно в следующей цитате:
Самая первая, самая настоятельная наша обязанность — содействие выработке рабочих-революционеров, стоящих на таком же уровне в отношении партийной деятельности, как и интеллигенты-революционеры (мы подчеркиваем слова: в отношении партийной деятельности, ибо в других отношениях достижение такого же уровня рабочими, хотя и необходимо, но далеко не так легко и не так настоятельно). Поэтому главное внимание должно быть обращено на то, чтобы поднимать рабочих до революционеров, отнюдь не на то, чтобы опускаться самим непременно до «рабочей массы», как хотят «экономисты», непременно до «рабочих-середняков», как хочет [газета] «Свобода»[381].
Дилемма для партии — как обучить революционеров, которые будут близки с рабочими (и, возможно, сами по происхождению из рабочих), но не впитают их идеологию, не поддадутся их влиянию и не будут ослаблены их политической и культурной отсталостью. Некоторые опасения Ленина были в то время связаны с его убеждением, что российский рабочий класс и большинство социалистической интеллигенции по сравнению с их немецкими соратниками были очень отсталыми. В работе «Что делать?» немецкие социал-демократы и немецкое профсоюзное движение неоднократно выставляются образцом для России. Но причина ленинских тревог выше национальных различий; она вырастает из резко очерченных функциональных ролей, которые играют партия и рабочий класс. Классовое сознание, в конечном счете, есть объективная правда, которую несут исключительно идеологически просвещенные, те, кто направляет партию авангарда[382].
Однако, вопреки первому закону движения Ньютона, ленинскую логику питает центральная идея о том, что партия будет «вечным двигателем». Близкая связь с рабочим классом абсолютно необходима для пропаганды и агитации, но она должна быть так близка, чтобы никогда не угрожать главенству знания, влияния и власти. Если профессиональные революционеры действительно хотят стать лидерами, от них потребуется детальное понимание и знание рабочего класса, как хорошие учителя знают своих учеников, военные офицеры — своих подчиненных, а руководители производства — своих рабочих. Это знание имеет целью решение задач, поставленных элитой. Описанные отношения настолько асимметричны, что хочется сравнить их с отношением ремесленника к своему материалу. Плотник или каменотес должны хорошо чувствовать свой материал, чтобы качественно выполнять свою работу. В ленинском примере под глобальными образами «массы» или «пролетариата» подразумевается инертный материал, которому надо придать форму. Используя столь плоскую терминологию, без упоминания религии, этнической принадлежности и языка трудно исследовать огромные различия в истории, политическом опыте, организационных навыках и идеологии, которые существуют в среде рабочего класса.
Возможна еще одна, чисто российская причина, заставляющая Ленина настаивать на необходимости малочисленной, дисциплинированной и засекреченной организации революционеров. Дело в том, что им приходилось действовать при самодержавии под носом царской тайной полиции. Совершенно иная ситуация была, например, в Германии, где вследствие определенных политических свобод, и в частности свободы печати, были широко известны публичные отчеты всех кандидатов в члены комитета Германской социал-демократической партии, а начало выборов благожелательно комментировалось. Немудрено, что Ленин воскликнул: «Попробуйте-ка вставить эту картину в рамки нашего самодержавия!»[383] Там, где революционер должен скрываться под страхом ареста, столь открыто демократические методы невозможны. Ленин доказывал, что революционеры в России должны приспособить свою тактику к тактике врага — политической полиции. Если бы этот аргумент Ленина в пользу секретности и железной дисциплины был единственным, тогда к нему можно было бы относиться как к несущественной тактической уступке местным условиям. Но это было не так. Секретность партии была предназначена не только для предотвращения пагубного влияния снизу, но и для избежания арестов и ссылок. По-другому не истолкуешь отрывок, подобный следующему: «При такой организации [засекреченном ядре «испытанных» революционеров]», стоящей на твердом теоретическом базисе и располагающей социал-демократическим органом, нечего будет бояться того, что движение собьют с пути многочисленные привлеченные к нему «сторонние» элементы[384].
Как же движение могло сбиться с пути? Ленин имел в виду в основном две потенциальные опасности. Первой была стихийность, которая делала невозможной тактическую координацию революционных действий, второй — конечно, неизбежное проникновение идеологии рабочего класса в профсоюзное движение и законодательную реформу. Действительно, если революционное классовое сознание не могло самостоятельно развиться внутри рабочего класса, то подлинные политические взгляды рабочих всегда представляли угрозу для партии авангарда.
Возможно, поэтому Ленин писал о пропаганде и агитации как о единственно возможных способах передачи его взглядов и идей. Его настоятельное подчеркивание значения партийной газеты прекрасно вписывается в этот контекст. Газета даже больше, чем «агитация» перед возбужденной или мрачной толпой, создает только односторонние отношения[385]. Этот орган является великолепным способом распространения инструкций, объяснения партийной линии и сплачивания рядов. Как и ее преемник радио, газета — средство, больше подходящее для рассылки информации, нежели для ее получения,
Во многих случаях Ленин и его товарищи понимали угрозу пагубного влияния более чем буквально и писали языком метафор, заимствованных из научной гигиены — теории болезнетворных микробов. Так, стало возможным говорить о «мелкобуржуазной бацилле» и ‹инфекции»[386]. Переход к этим образам был естественным — Ленин действительно хотел сохранить партию, насколько это возможно, в стерильной среде, чтобы партия не подхватила какой-нибудь из многочисленных микробов, распространенных снаружи[387].
Общее отношение к рабочему классу в ленинской работе «Что делать?» сильно напоминает известное марксистское описание французского мелкособственнического крестьянства, которое сравнивалось с «мешком картошки» — точно такое же множество «гомологических» элементов, страдающих отсутствием общей формы, единства. Отсюда выводится роль авангардной партии. Ее задача состоит в смене бесформенного, спонтанного, разрозненного и локального гнева масс в организованную силу, имеющую цель и направление. Как сила притяжения мощного магнита организует хаос тысяч железных опилок, так и от партийного руководства ожидается, что оно преобразует толпу в политическую армию. Временами трудно распознать, что же на самом деле вносят массы в революционный процесс, кроме самих себя как сырого материала. Ленинский список функциональных ролей, которые играет партия, весьма разносторонний. «Идти во все классы населения мы должны и в качестве теоретиков, и в качестве пропагандистов, и в качестве агитаторов, и в качестве организаторов»[388]. Из этого перечисления можно сделать вывод, что революционеры должны дать массам знания, взгляды, убежденность и руководство к действию, а также организационную структуру. При данном однонаправленном потоке интеллектуальных, социальных и культурных услуг сверху, трудно себе представить, что остается массам, кроме как позволить себя организовать.
Ленинское понимание революционного разделения труда было похоже на то, чего ожидали от масс (при редкой практике) все коммунистические партии, как находящиеся, так и не находящиеся у власти. Центральный комитет критикует тактику и стратегию, а примкнувшие к ней массовые организации и профсоюзы служат «приводными ремнями» для выполнения инструкций. Если, по Ленину, рассматривать партию авангарда как машину для осуществления революции, то становится понятным, что отношение партии авангарда к рабочему классу не сильно отличается от отношения к нему капиталиста. Рабочий класс необходим для производства, его члены должны быть обучены и проинструктированы, а эффективная организация их работы должна быть возложена на профессиональных специалистов. Окончательные цели революционеров и капиталистов, конечно, крайне различны, но проблемы средств, стоящие перед теми и другими, одинаковы и решаются также одинаково. Задача фабричного управляющего — использовать много фабричных «рук» (а все они взаимозаменяемы) в целях эффективного производства. Задача научной социалистической партии — эффективно использовать массы для ускорения революции. Подобная организационная логика более подходит к фабричному производству, которое имеет установившийся режим, известные технологии и ежедневную заработную плату, чем к крайне неопределенному порядку и весьма рискованным усилиям революции. Тем не менее такова была модель организации, которая выстраивалась из ленинской аргументации.
Чтобы уловить картину ленинских утопических надежд на авангардную партию, интересно соотнести ее с «массовыми упражнениями», необычайно популярными как среди реакционных (вербующих себе новых сторонников), так и среди левых движений в начале XX в. Они проводили демонстрации на огромных стадионах или на площадях для парадов, в них участвовали тысячи молодых мужчин и женщин, натренированных двигаться одновременно. Чем сложнее были их движения, которые исполнялись под ритмичную музыку, тем внушительнее было зрелище. В 1891 г. на II национальном конгрессе движения «Сокол» (чешской гимнастической и физкультурной организации, которая поддерживала национализм и объединяла не меньше 17 тыс. чехов) были продемонстрированы сложнейшие скоординированные движения[389]. В основном идея массовых упражнений состояла в показе поражающего порядка, тренированности и дисциплины, которые идут сверху, внушают благоговейный страх и участникам, и зрителям, а также в демонстрации организующей власти. Такие спектакли предполагали, даже требовали единого централизованного руководства, которое планировало представление и руководило им[390]. Не удивительно, что новые массовые партии всех направлений обычно считали такого рода публичные выступления вполне совместимыми с их организационной идеологией. Ленин не мог себе и представить, что российские социал-демократы смогут когда-либо организовать нечто столь согласованное и дисциплинированное. Тем не менее это явно была та самая модель централизованного управления, к которой он стремился, и, следовательно, критерий, с помощью которого он оценивал свои достижения.
Ленин и Ле Корбюзье, несмотря на большую разницу в их образовании и целях, разделяли некоторые основные элементы высокомодернистского взгляда на мир. Хотя научные притязания каждого из них могут показаться нам не внушающими доверия, оба они верили в существование ведущей науки, которая служила утверждению власти небольшой элиты, занимающейся планированием. Ле Корбюзье верил, что научные истины современного строительства и умелого проектирования наделили его правом заменить противоречивый, хаотический, исторически устоявшийся город утопическим. Ленин верил, что наука диалектического материализма дала партии уникальное понимание революционного процесса изнутри и наделила ее правом заявить о своем руководстве рабочим классом, столь плохо организованным и идеологически заблуждающимся. Оба были убеждены, что их научное знание дает единственно верные ответы на то, как следует проектировать города и совершать революции. Уверенность каждого в своем методе означала, что ни той науке, которая проектировала города, ни той, что проектировала революции, не приходилось сталкиваться с существующими практиками и ценностями подвластных им людей, о счастье которых шла речь. Напротив, каждый из них с нетерпением ждал того момента, когда он примется за перекройку человеческого материала, попавшего в его руки. Своей конечной целью они считали улучшение условий человеческого существования, и оба пытались достигнуть ее глубоко иерархическими и авторитарными методами. Работы обоих наполнены метафорами, взятыми из военной области и теории машин: для Ле Корбюзье дом и город были машинами для жилья, а для Ленина партия авангарда была машиной революции. В их записях появляются вполне естественно обращения к централизованным формам бюрократического управления, особенно в примерах с фабриками и выступлениями на параде[391]. Без сомнения, они занимали место среди наиболее перспективных и грандиозных фигур высокого модернизма, но в то же время были его вполне типичными представителями.
Теория и практика: революции 1917 г.
Детальная оценка двух российских революций 1917 г. (Февральской и, главным образом, Октябрьской) увела бы нас слишком далеко. Однако есть резон кратко перечислить некоторые из основных параметров, по которым действительный революционный процесс немного напоминал организационные теории, отстаиваемые в работе «Что делать?». Высокомодернистская схема революции более не подкреплялась практикой, а высокомодернистские планы для Бразилиа и Чандигарха были рождены практикой. Наиболее кричащий факт, относящийся к российской революции, состоял в том, что ею ни в какой степени не руководила авангардная партия большевиков. В чем Ленин блестяще преуспел, так это в захвате власти, как только революция стала свершившимся фактом. Ханна Арендт кратко высказалась по этому поводу: «Большевики нашли власть, лежащую на улице, и подобрали ее»[392].
И.Х. Карр, которым написано одно из самых ранних и наиболее полных исследований революционного периода, заключает, что «вклад Ленина и большевиков в ниспровержение царизма был незначительным» и что на самом деле «большевизм проследовал к пустому трону». И Ленин не был наделен даром предвидения стратегической ситуации, каким обладают главнокомандующие. В январе 1917 г., за месяц до Февральской революции, он с горечью писал: «Мы, люди старшего поколения, можем не увидеть решающих сражений грядущей революции»[393]
Действительно, накануне революции большевики имели слабую поддержку рабочего класса, в основном среди неквалифицированных рабочих Москвы и Санкт-Петербурга. Преобладало влияние эсеров, меньшевиков, анархистов. Были также и неприсоединившиеся. Более того, связанные с большевиками рабочие редко подчинялись чему-либо, похожему на иерархическое руководство, описанное в «Что делать?». Ленин желал революционных действий потому, что благодаря им большевики получили бы возможность формировать твердую, дисциплинированную, управляемую структуру. Ничто не могло быть лучше настоящего дела. Но в одном из важных аспектов революция 1917 г. была очень похожа на потерпевшую неудачу революцию 1905 г. Восставшие рабочие заняли фабрики и захватили муниципальную власть, а в сельской местности крестьянство начало отнимать у помещиков землю, нападать на налоговых чиновников. Ни одно из этих действий, ни в 1905 г., ни в 1917 г. не было вызвано большевиками или другим революционным авангардом. В 1917 г. рабочие, стихийно организовавшие Советы для управления каждой фабрикой, часто игнорировали инструкции ими же выбранного Исполнительного комитета Советов, не говоря уже о большевиках. Что касается крестьянства, то оно использовало возможность, данную им политическим вакуумом в центре, для восстановления общинного контроля над землей и ввело свое местное понятие о правосудии. Большинство крестьян никогда даже не слышало о большевиках, не говоря уже о предполагаемом выполнении их распоряжений.
Что действительно должно поразить любого читателя детальных отчетов о событиях конца октября 1917 г., так это преобладание чрезвычайного хаоса и местных стихийных беспорядков[394]. В такой политической обстановке сама идея централизованного управления была неправдоподобной. Военные историки и дальновидные обозреватели всегда понимали, что в случае сражения командование обычно колеблется. Генералы теряют контакт со своими войсками и не способны уследить за быстро меняющимся ходом боя; издаваемые ими приказы, достигнув поля битвы, перестают соответствовать ситуации[395]. В ленинском же варианте командно-исполнительная структура вряд ли могла и колебаться, так как она никогда не занимала доминирующего положения. По иронии судьбы у самого Денина были разногласия с партийным руководством (многие из представителей которого находились за решеткой), и накануне революции его критиковали как безрассудного путчиста.
В 1917 г. новыми обстоятельствами, которые сделали революционный взрыв более вероятным, чем в 1905 г., были Первая мировая война и особенно военное поражение русской армии в Австрии. Тысячи солдат бросали оружие и возвращались домой. Временное правительство Александра Керенского практически не имело возможности для организации защиты от них. Именно в этом смысле большевики «проследовали к пустому трону», хотя небольшое военное восстание 24 октября под руководством Ленина и нанесло решающий удар. То, что происходило в последующем, вплоть до 1921 г., лучше всего назвать отвоевыванием России неоперившимся большевистским государством. Это была не просто гражданская война против «белых», а война против самостоятельных сил, захвативших местную власть при революции[396] и в свою очередь боровшихся за уничтожение независимой власти Советов, установление сдельной оплаты труда, контроля над рабочей силой и отмену права рабочих на забастовки. Крестьянам же большевистское государство постепенно навязало политический контроль (вместо общинной власти), принудительную сдачу зерна и, в конечном счете, коллективизацию[397]. Процесс становления большевистского государства привел к большому количеству насильственных актов против своих же бывших приверженцев, в частности подавление восстаний в Крондштадте, Тамбове, махновщины на Украине.
Модель авангардной партии, так отчетливо изображенная в «Что делать?», является впечатляющим примером управленческо-исполнительской команды. Однако в применении к действительному революционному процессу она оказалась несбыточной мечтой, не имеющей никакого отношения к фактам. К coжалению, описание модели оказалось точным лишь при реализации государственных полномочий после революционного захвата власти. Как оказалось, структура власти, которая, как надеялся Ленин, будет служить делу революции, на самом деле была извечной «диктатурой пролетариата». И, конечно, рабочие и крестьяне не были согласны с властью, повелительно навязанной государством.
Написанная революционерами официальная история о том, как они пришли к власти, содержит хорошо подогнанные исторические факты. Поскольку большинство граждан привыкло верить аккуратно оформленному отчету вне зависимости от того, точен ли он, в дальнейшем такая история только увеличивает их уверенность в прозорливости, добрых намерениях и прочности власти революционных лидеров. Стандарт «только такой» истории революционного процесса — возможно максимальное государственное упрощение. Она служит разнообразным политическим и эстетическим целям, которые, в свою очередь, помогают объяснить принимаемую ею форму. Конечно, в первую очередь именно наследники революционного государства, безусловно, заинтересованы в изображении себя в качестве главных вдохновителей исторического события. Такой отчет подчеркивает их исключительность как руководителей и организаторов, а в случае Ленина хорошо соответствует провозглашенной большевиками идеологии. Санкционированные повествования о революции, как указывает Милован Джилас, «описывают революцию так, как будто это был результат заранее запланированного действия его лидеров»[398]. Нет даже необходимости прибегать ни к цинизму, ни ко лжи. Для лидеров и генералов совершенно естественно преувеличивать свое влияние на события, потому что именно так выглядит мир из окон их кабинетов, и вряд ли в интересах их подчиненных противоречить этой картине.
После захвата государственной власти победители очень заинтересованы в перемещении революции с улиц в музеи и учебники, настолько быстром, насколько это возможно, чтобы люди не решились повторить этот опыт[399]. Схематический отчет, выдвигающий на первый план решительность горстки лидеров, укрепляет законность их действий, акцентирует внимание на единстве и сплоченности, а главная его цель — сделать происшедшее неизбежным и потому, как можно надеяться, окончательным. Пренебрежительное отношение к самостоятельности народного действия служит дополнительной задаче — показать, что рабочий класс не способен к самостоятельности без внешнего руководства[400]. Этот отчет, кроме того, не упускает возможности назвать по имени внутренних и внешних врагов революции, подобрав подходящие цели для выражения ненависти и мести.
Так создается и поддерживается стандартная версия истории, которая призвана закрепить именно такой исторический процесс, уничтожив свидетельства случайности. Принимавшие участие в «русской революции» обнаружили для себя этот факт несколько позже, когда революция уже свершилась. Точно так же ни один из исторических участников, скажем, Первой мировой войны или битвы при Булже, не говоря уже об эпохах Реформации и Ренессанса, не знал в момент события, что он участвует в чем-то таком, что потом войдет в историю. Поскольку в конце концов события действительно происходят по причинам, которые выясняются только в ретроспективе, то не удивительно, что результат должен казаться неизбежным. Все забывают, что это можно объяснить и совершенно иначе[401]. В этой забывчивости еще один шаг к утверждению революционного триумфа[402].
Когда такие победители, как Ленин, берутся за изложение своих теорий революции — не столько самих революционных событий, сколько официальной послереволюционной истории, рассказ, как правило, подчеркивает организованность, целенаправленность и гениальность революционного руководства и преуменьшает долю случайности[403]. Финальная ирония состояла в том, что официальная история большевистской революции писалась более 60 лет для того, чтобы подтвердить утопические директивы, высказанные в «Что делать?»
Ленинская работа «Государство и революция»
Позднего Ленина в работе «Государство и революция» часто противопоставляют Ленину периода «Что делать?» для демонстрации существенного изменения в его взглядах на отношения партии авангарда и масс. Нет сомнения, многие из интонаций Ленина в брошюре, написанной с головокружительной быстротой в августе и сентябре 1917 г. после Февральской революции и как раз перед Октябрьской революцией, трудно согласовать с текстом 1903 г. Существовали важные тактические причины, почему в 1917 г. Ленин призывал народ совершать как можно больше самостоятельных революционных выступлений. Он вместе с другими большевиками был обеспокоен тем, что многие рабочие, ставшие теперь хозяевами своих фабрик, как и многие российские горожане, теряют свой революционный пыл, позволяя временному правительству Керенского сохранить власть и заблокировать активность большевиков. Для большевиков-ленинцев буквально все зависело от дестабилизации режима Керенского, пусть даже массы не подчинятся большевистской дисциплине. Не удивительно, что даже в начале ноября перед тем, как большевики укрепились во власти, ленинские речи звучали во многом анархически: «Социализм не создается приказами сверху. Государственный бюрократический автоматизм чужд его духу; социализм живой и творческий — создание самих народных масс»[404].
При общем эгалитаристском и утопическом тоне «Государства и революции», который вторит марксистскому описанию коммунизма, поразителен уровень наполнения этого текста ленинскими высокомодернистскими убеждениями. Во-первых, у Ленина нет сомнений, что применение принудительной государственной власти — единственный путь строительства социализма. Он открыто признает необходимость насилия после захвата власти: «Пролетариату необходима государственная власть, централизованная организация силы, организация насилия и для подавления сопротивления эксплуататоров, и для руководства громадной массой населения, крестьянством, мелкой буржуазией, полупролетариями в деле «налаживания» социалистического хозяйства»[405]. Снова марксизм обеспечивает идеи и организует обучение, поскольку только оно и может сформировать сознание рабочих масс: «Воспитывая рабочую партию, марксизм воспитывает авангард пролетариата, способный взять власть и вести весь народ к социализму, направлять и организовывать новый строй, быть учителем, руководителем, вождем всех трудящихся и эксплуатируемых в деле устройства своей общественной жизни без буржуазии и против буржуазии»[406]. Предполагается, что общественная жизнь рабочего класса будет организована или буржуазией, или авангардной партией, но ни в коем случае не самими представителями рабочего класса.
В то же самое время Ленин разглагольствует о новом обществе, где политике придется исчезнуть и где фактически любому можно будет доверить управление делами. Образцом для ленинского оптимизма служили действительно огромные человеческие механизмы того времени: промышленные организации людей и большой бюрократический аппарат. В ленинском изображении развитие капитализма создало аполитичную техноструктуру, которая растет вместе с ним: «Капиталистическая культура создала крупное производство, фабрики, железные дороги, почту, телефоны и пр., а на этой базе громадное большинство функций старой «государственной власти» так упростилось и может быть сведено к таким простейшим операциям регистрации, записи, проверки, что эти функции станут вполне доступны всем грамотным людям,что эти функции вполне можно будет выполнять за обычную «заработную плату рабочего», что можно (и должно) отнять у этих функций всякую тень чего-либо привилегированного, «начальственного»[407]. Ленин вызывает в воображении образ совершенной технической рациональности современного производства. Как только «простые операции», соответствующие каждой нише в установленном распределении рабочей силы, освоены, буквально нечего больше обсуждать. Революция вытесняет буржуазию с капитанского мостика этого «океанского лайнера», водворяет на ее место передовую партию и устанавливает новый курс, но рабочие места большой команды неизменны. Следует заметить, что ленинская картина технической структуры полностью статична. Формы производства установлены раз и навсегда, а если они все-таки изменяются, то эти изменения не должны требовать особых навыков.
Утопическое обещание такого капиталистически обустроенного положения дел состоит в том, что любой может принять участие в управлении государством. Развитие капитализма породило массовидные бюрократические аппараты, а также «обучение и дисциплинирование миллионов рабочих»[408]. Взятые вместе эти огромные централизованные бюрократические аппараты были ключами к новому миру. Ленин обнаружил их в Германии под руководством Ратенау. Наука и разделение труда породили институциональный порядок технической экспертизы, где политике и раздорам не было места. Современное производство обеспечило необходимое основание для технически необходимой диктатуры. «В отношении ... важности единоличных диктаторских полномочий, — отмечал Ленин, — надо сказать, что всякая крупная машинная индустрия — то есть именно материальный источник и фундамент социализма [—]... требует безусловного и строжайшего единства воли, направляющей совместную работу сотен, тысяч и десятков тысяч людей... Но как может быть обеспечено строжайшее единство воли? Подчинением воли тысяч воле одного... Надо научиться соединять вместе бурный, бьющий весенним половодьем, выходящий из всех берегов митинговый демократизм масс с железной дисциплиной во время труда, с беспрекословным повиновением воле одного лица — советского руководителя»[409].
Ленин присоединяется ко многим капиталистическим современникам в своем энтузиазме по поводу фордовской и тейлоровской технологии производства. То, что было отклонено западными профсоюзами того времени как «недостаточность квалификации» рабочей силы, было принято Лениным как ключ к рациональному государственному планированию[410]. Для Ленина существует единственный, объективно верный и разумный ответ на все вопросы, касающиеся того, как рационально спроектировать производство или управление[411].
Ленин продолжает представлять себе в фурьеристском духе обширный национальный синдикат, который будет самостоятельно вести дела. Он видит его как техническую сеть, в ячейках которой заключены рабочие, приученные к порядку рациональностью и привычной дисциплиной. В следующем жутком отрывке, как будто взятом у Оруэлла, содержится предупреждение, возможно, анархистам или деклассированным элементам, которые станут сопротивляться его логике. В нем Ленин указывает, насколько безжалостной будет система: «Уклонение от этого всенародного учета и контроля неизбежно станет таким неимоверно трудным, таким редчайшим исключением, будет сопровождаться, вероятно, таким быстрым и серьезным наказанием (ибо вооруженные рабочие — люди практической жизни, а не сентиментальные интеллигентики, и шутить они с собой едва ли позволят), что необходимость соблюдать несложные, основные правила всякого человеческого общежития очень скоро станет привычкой»[412].
Несмотря на то, что ленинская утопия более эгалитарна и разработана в контексте диктатуры пролетариата, в ней видны соответствия с высоким модернизмом Ле Корбюзье. Социальный порядок представляется как огромная фабрика или офис — «мягко жужжащий механизм», вставил бы Ле Корбюзье, где «каждый человек живет в определенном отношении к целому». И не только Ленин и Ле Корбюзье придерживались этого взгляда, хотя, конечно, они были исключительно влиятельными. Эти соответствия служат напоминанием о том, сколь многое во взглядах левых и правых социалистов зависело от шаблона современной индустриальной организации. Сходные утопии, «мечта об авторитарном, военном, эгалитарном и бюрократическом социализме, в которой содержалось открытое восхищение достоинствами Прусского государства», можно найти у Маркса, у Сен-Симона и в научной фантастике, которая была широко популярна в то время в России, особенно перевод Эдварда Беллами «Ожидание прошлого»[413]. Высокий модернизм был политически полиморфным, он мог появиться в любом политическом обличье, даже в анархистском.
Ленин об аграрном вопросе
Чтобы составить мнение о последовательности ленинского высокого модернизма, нам нужно обратиться к его работам по сельскому хозяйству — сфере, где высокомодернистские взгляды горячо оспаривались. Основу для понимания можно получить из единственной работы «Аграрный вопрос», написанной между 1901 и 1907 гг.[414]
Этот текст содержал осуждение маломасштабного семейного фермерства и восхваление гигантских, высокомеханизированных форм современного сельского хозяйства. Для Ленина в этом был не только вопрос выбора масштаба, но и историческая неизбежность. Различие между семейным фермерством с примитивной технологией и крупномасштабным, механизированным ведением сельского хозяйства можно сравнить с различием между примитивными ручными ткацкими станками в кустарных мастерских и механизированными на больших текстильных фабриках. Первый способ производства был просто обречен. Ленинская аналогия была заимствована у Маркса, который часто использовал ее, говоря, что ручной ткацкий станок дает пример феодализма, а мощный ткацкий станок — пример капитализма. Этот образ был столь плодотворен, что Ленин возвращался к нему в другом контексте, восклицая, например, в «Что делать?», что его противники, экономисты, использовали «кустарные методы», в то время как большевики действовали как профессиональные (современные, образованные) революционеры. Крестьянские формы производства, не говоря уже о самих крестьянах, для Ленина были безнадежно отсталыми. Он считал их простыми историческими рудиментами, которые, несомненно, следовало уничтожить аграрным эквивалентом крупной машинной промышленности, как это произошло когда-то с кустарной ткацкой промышленностью. «Прошло два десятилетия, — писал он, — и машины привели мелкого производителя от одного из его последних прибежищ к техническому прогрессу, как будто говоря: имеющие уши, да услышат, имеющие глаза, да увидят, что экономный хозяин всегда должен смотреть в будущее, иначе он останется позади, потому что тот, кто не смотрит вперед, движется по истории вспять, среднего пути нет и не может быть»[415]. Здесь, как и в других своих работах, Ленин осудил все методы возделывания земли, связанные с общепринятой общинной трехпольной системой севооборота, все еще свойственной большей части России. Здесь идея общинной собственности мешала полному развитию капитализма, который, в свою очередь, был условием совершения революции. «Современная сельскохозяйственная технология, — заключал он, — требует, чтобы все древние, консервативные, варварские, невежественные и убогие методы ведения хозяйства на крестьянских наделах были преобразованы. Трехпольная система, примитивные орудия труда, патриархальная бедность земледельца, рутинные методы ведения животноводства и полнейшее дикарское игнорирование условий и требований рынка должны быть выброшены за борт»[416].
Однако приложимость логики, заимствованной у промышленности, к сельскому хозяйству сильно оспаривалась. Многие экономисты детально исследовали распределение труда, производство и расходы хозяйств сельских производителей. Возможно, некоторые из них чисто идеологически выступали за продуктивность мелкой собственности, но те, о которых идет речь, обладали багажом эмпирической очевидности и могли предъявить ее[417]. Они утверждали, что природа сельскохозяйственного производства по большей части такова, что экономическая прибыль от механизации незначительна, если сравнивать ее с прибылью от интенсификации (которая заключалась в удобрении навозом, кропотливом ведении животноводства и т. д.). Они доказывали, что прибыль от семейного хозяйства размером больше среднего также минимальна и даже отрицательна. Ленин мог бы принять все эти доводы менее серьезно, если бы они были основаны на данных о России, где отсталость сельской инфраструктуры препятствовала механизации и коммерческому производству. Но большинство сведений относилось к Германии и Австрии, развитым странам, где упомянутые мелкие фермеры вели товарное хозяйство в полном соответствии с рыночными законами[418].
Ленин намеревался опровергнуть данные об эффективности и конкурентоспособности семейного ведения сельского хозяйства. Он воспользовался противоречивостью этих эмпирических сведений и использовал публикации двух ученых, русского и немца, чтобы выступить против них же. Если данные казались неопровержимыми, Ленин восклицал, что мелкие фермеры, которые действительно выжили, смогли это сделать только потому, что они сами, их жены и дети, их коровы и лошади голодали и работали сверхурочно. Какую бы прибыль ни принесла маленькая ферма, все это приписывалось переработке и недоеданию. Хотя такие примеры «самоэксплуатации» были вполне обычны среди крестьянских семей, ленинские доводы не убеждали. Для его (и марксова) понимания способов производства выживание ремесленного ручного труда и мелкого фермерства могло быть только случайным анахронизмом. Мы уже видели, насколько эффективным и крепким может быть мелкое производство, но Ленин не сомневался относительно того, что выберет будущее. «Этот вопрос демонстрирует техническое превосходство крупномасштабного производства в сельском хозяйстве...[и] перерабатывание и недоедание мелкого крестьянина, а также его превращение в постоянного или поденного рабочего у помещика... Факты бесспорно доказывают, что в капиталистической системе положение мелкого крестьянина в сельском хозяйстве во всех отношениях аналогично положению кустарного ремесленника в промышленности»[419].
«Аграрный вопрос» позволяет также оценить дополнительный аспект ленинского высокого модернизма: его восхищение самой современной технологией, и прежде всего электричеством[420]. Его лозунг «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны» стал знаменитым. Для него и для большинства других высоких модернистов электричество имело почти таинственную притягательность, которая, как мне думается, объяснялась уникальными свойствами электричества как формы энергии. В отличие от паровой машины, водяного двигателя и двигателя внутреннего сгорания электричество было бесшумным, прецизионным и почти невидимым. Для Ленина и многих других электричество было чем-то магическим. Его важной способностью для модернизации сельской жизни было то обстоятельство, что, как только устанавливались линии передач, энергия могла быть доставлена в требуемом количестве на большие расстояния и немедленно становилась доступной везде, где в ней нуждались. Ленин ошибался, воображая, что она заменит двигатель внутреннего сгорания в большинстве сельскохозяйственных операций. «Механизмы, берущие энергию от электричества, работают более плавно и точно, и по этой причине их удобнее использовать в молотьбе, вспашке, доении, подготовке фуража»[421]. Давая энергию в руки всего народа, государство могло уничтожить то, что Маркс называл «идиотизмом сельской жизни».
Для Ленина электрификация была началом искоренения практики мелкобуржуазного землевладения и, следовательно, единственным путем уничтожения «корней капитализма» в сельской местности, которая была «основой, базисом внутреннего врага». Враг «зависит от мелкотоварного производства, и есть только один способ подорвать его, а именно, разместить экономику страны, включая сельское хозяйство, на новом техническом базисе, т. е. на современном крупномасштабном производстве. Только электричество обеспечивает такой базис»[422].
Притягательность электричества для Ленина состояла в основном в его совершенстве, его математической прецизионности. Работа человека и даже парового плуга или молотилки была несовершенна, действие же электрического механизма, напротив, казалось надежным, точным и непрерывным. Следует добавить, что с электричеством была связана также и централизация[423]. Оно создавало видимую сеть линий электропередач, идущих от центральной электростанции, которая генерировала поток энергии, распределяемой и контролируемой. Природа электричества очень подходила ленинской утопии, прекрасно подчеркивая картину централизации. Карта электрических линий от генерирующей станции представляла собой лучи, исходящие из единого центра, как в Париже (см. гл. 1), только направление транспортного потока было односторонним. Линии электропередач обеспечили бы нацию таким количеством энергии, что географические расстояния были бы преодолены. Электричество уравняло бы доступ к существенной части благ современного мира и, между прочим, дало бы свет — как в буквальном, так и в переносном смысле — народу (буквально, «темным людям»)[424]. Наконец, электричество позволяло и практически требовало планирования и расчетов. Воздействие электричества было очень похоже на воздействие социалистического государства — как надеялся Ленин.
По Ленину, во многом такая же логика развития применялась для высшего руководства авангардной партии, фабрик и ферм. Профессионалы, техники и инженеры сменили бы дилетантов на постах руководителей. Преобладала бы централизованная власть, базирующаяся на науке. Как у Ле Корбюзье, степень функциональной спецификации внутри организации, степень порядка, обеспеченного установившейся практикой и взаимозаменяемостью единиц, и уровень механизации были бы критериями высшей эффективности и рациональности. Что касается ферм и заводов, чем больше они были и чем интенсивнее было капиталовложение в них, тем лучше. В ленинской концепции сельского хозяйства можно заметить навязчивую идею машинно-тракторных станций, организации больших совхозов и, в конечном счете, коллективизации (произошедшей уже после смерти Ленина) и даже высокомодернистский дух, который вел к таким обширным схемам заселения земель, как целинная инициатива Хрущева. В то же время ленинские взгляды имеют сильные российские корни. Они имеют родовое сходство с проектом Санкт-Петербурга Петра I и громадным проектом военных поселений, основанных Алексеем Аракчеевым под покровительством Александра I в начале XIX в. — оба проекта были предназначены вывести Россию в современный мир.
Сосредоточась на ленинском высоком модернизме, мы рискуем упростить позицию исключительно сложного мыслителя, чьи идеи и действия были богаты противоречиями. Во время революции он одобрял захват общинных земель и самостоятельные действия и хотел, чтобы сельские Советы «учились на своих ошибках»[425]. В конце разрушительной гражданской войны, во время кризиса продразверстки он решил отложить коллективизацию и поощрял мелкотоварное производство и мелкооптовую торговлю. Некоторые полагали, что в своих последних письмах он был благосклоннее настроен по отношению к крестьянскому фермерству и, вероятно, не навязал бы жестокую коллективизацию, которую Сталин приказал провести в 1929 г.
Несмотря на силу этих оговорок, на мой взгляд, довольно мало причин полагать, что Ленин когда-либо отказался бы от сути своих высокомодернистских убеждений[426]. Это очевидно даже в том, как он объясняет свое тактическое отступление после Крондштатского восстания в 1921 г. и продолжающийся продовольственный кризис в городах: «Пока мы не переделаем крестьянина, ... пока крупное машинное оборудование не переделает его, мы должны убедить его в возможности ведения хозяйства без ограничений. Мы должны найти формы сосуществования с мелким хозяином, ... так как переделка мелкого хозяина, изменение всей его психологии и его привычек — задача, требующая поколений»[427]. Если это и тактическое отступление, то утверждение, что переделка крестьян займет поколения, звучит довольно либерально — во всяком случае, не как строгий приказ генерала, собирающегося скоро возобновить наступление. С другой стороны, ленинская вера в механизацию как ключ к преобразованию непокорной человеческой природы не стала меньше. Новой выглядит только скромная умеренность рассуждения — результат мощного крестьянского сопротивления — о том, насколько извилистым и долгим будет путь к современному социализированному сельскому хозяйству, но перспектива в конечном счете выглядит так же.
Люксембург: врач и акушерка революции
Роза Люксембург была больше чем просто современница Ленина. Она тоже была истовым революционером и марксистом, ее и Карла Либкнехта предательски убили в 1919 г. в Берлине по приказу ее менее революционных союзников. Джейн Джекобс критиковала Ле Корбюзье и высокомодернистское планирование города вообще, но Ле Корбюзье, конечно, никогда не слышал о Джекобс до самой своей смерти. Ленин, напротив, встречался с Люксембург. Они писали в основном для одной и той же аудитории, знали мнения друг друга, и Люксембург категорически опровергала ленинские доводы в пользу авангардной партии и ее роли в революционном процессе по отношению к пролетариату. Мы будем рассматривать в основном работы, в которых Люксембург наиболее непосредственно противостоит ленинским высокомодернистским взглядам: «Организационные вопросы Российской социал-демократии» (1904 г.), «Массовая забастовка, партия и профсоюзы» (1906 г.) и ее посмертно изданная «Русская революция» (написанная в 1918 г. и впервые изданная в 1921 г. после Кронштадтского восстания).
Наиболее резкие отличия взглядов Люксембург от ленинских заключались в том, что она верила в самостоятельный творческий потенциал рабочего класса. Ее оптимизм в работе «Массовая забастовка, партия и профсоюзы» частично обязан тому факту, что она была написана, в противоположность работе «Что делать?», после наглядного примера активности рабочих в революции 1905 г. Работа же «Организационные вопросы Российской социал-демократии» была написана до событий 1905 г. и непосредственно в ответ на работу «Что делать?». Это эссе было ключевым текстом в отказе Польской социалистической партии войти в состав Российской социал-демократической партии под ее центральным руководством[428].
Подчеркивая различия между взглядами Ленина и Люксембург, не следует упускать из виду, что по общим идеологическим вопросам они придерживались одинаковых мнений. Они разделяли, например, марксистские воззрения на противоречивость капиталистического развития и неизбежность революции. Они оба были врагами градуализма и в отношениях с нереволюционными партиями были готовы идти только на тактические компромиссы. Даже в стратегическом плане они оба приводили доводы в пользу важности авангардной партии на том основании, что авангардная партия лучше видит ситуацию в целом («все целиком»), тогда как большинство рабочих, вероятнее всего, видит только местную ситуацию и свои собственные интересы. Ни Ленин, ни Люксембург не знали того, что могло бы быть названо социологией партии, т. е. им не приходило на ум, что интересы партийной интеллигенции и рабочих могут не совпадать. Они скорее разбирались в социологии профсоюзной бюрократии, но не в социологии революционной марксистской партии.
Люксембург, к слову сказать, не лучше Ленина пользовалась сравнением с фабричным управляющим, чтобы объяснить, почему рабочий должен следовать инструкциям для достижения более значительного результата, неочевидного для него заранее. Различия проявляются только в том, до каких пределов доходит эта логика. Для Ленина абсолютно все было в руках авангардной партии, которая имела монополию на знание. Он вообразил всевидящий центр — око в небе, не меньше, — где формируются основания для строго иерархических действий, в которых пролетариату отводится роль простой пехоты или, хуже того, пешек. Для Люксембург партия могла видеть значительно дальше рабочих, однако рабочие, которыми она предположительно руководила бы, постоянно бы ее удивляли и преподавали бы ей новые уроки. Люксембург рассматривала революционный процесс как явление более сложное и непредсказуемое, чем его видел Ленин, — так же как Джекобс видела преуспевающие городские районы более сложными и полными неожиданностей, чем Ле Корбюзье. Метафоры, которые использовала Люксембург, как мы увидим, были весьма показательными. Воздерживаясь от военных, строительных и фабричных параллелей, она чаще писала о росте, развитии, накоплении опыта и учении[429].
Мысль о том, что авангардная партия могла назначать или запрещать массовую забастовку подобно тому, как командующий мог приказать своим солдатам идти на передовую или оставаться в казармах, поражала Люксембург своей нелепостью. Любая попытка таким образом проектировать забастовку была не только нереалистична, но и безнравственна. Она отвергала отношение к рабочим как к инструменту, лежащее в основе такого подхода. «Обе тенденции [назначение или запрещение забастовки] демонстрируют такое же чисто анархистское [sic] представление, что массовая забастовка есть просто техническое средство борьбы, которое может быть „разрешено“ или „запрещено“ с чьего-то позволения, согласно чьим-то знаниям и сознанию, как какой-нибудь складной нож, который кто-то хранит сложенным в кармане „на всякий случай“ или же решает открыть его и использовать»[430]. Всеобщая забастовка и революция были сложными социальными событиями, вовлекающими энергию и знания многих разных людей, а авангардная партия была только одним из его элементов этого события.
Революция как живой процесс
Люксембург рассматривала забастовки и политическую борьбу как диалектические и исторические процессы. Структура экономики и рабочей силы помогала определять форму, но не суть предоставляемых возможностей. Так, при кустарной и географически рассеянной промышленности забастовки были обычно маломасштабными и также разбросанными. Однако каждый раз забастовки сопровождались изменениями в структуре капитала. Если, например, рабочие добиваются повышения заработной платы, ее увеличение может вызвать ответные реакции в промышленности, механизации и новых структурах управления, каждая из которых будет влиять на характер следующего круга забастовок. К тому же, конечно, забастовка обычно преподала рабочим новые уроки и изменяла степень сплоченности и характер руководства[431].
Такая ориентация на процесс и человеческий материал послужила Люксембург предупреждением против узкого взгляда на тактику. Забастовка или революция не были просто целью, к которой тактика и руководство должны были быть направлены, процесс, ведущий к ней, одновременно и формировал характер рабочего. Как революция была организована, имело не менее важное значение, чем то, была ли она организована вообще, — сам процесс имел важные последствия.
Люксембург считала, что ленинское желание превратить партию авангарда в военный штаб рабочего класса и крайне нереалистично, и безнравственно. Его иерархическая логика игнорировала неизбежную самостоятельность рабочего класса (поодиночке или в группах), собственные интересы и действия которого никак нельзя запрограммировать по строгому образцу. И более того, если бы подобную дисциплину можно было просто установить, партия лишила бы себя независимой творческой силы пролетариата, которая в конце-то концов и была причиной революции. Вместо ленинского стремления к контролю и порядку Люксембург выбирала неизбежную беспорядочность, шумную и живую картину крупномасштабного социального действия.
«Вместо фиксированной и пустой схемы трезвого политического действия, выполненного по благоразумному плану, составленному самыми высокими комитетами, — писала она, явно намекая на Ленина, — мы видим яркую жизнь во плоти и крови, которую нельзя вырезать из большей картины революции»[432]. Противопоставляя свое понимание ленинскому, она последовательно выбирала сравнения со сложными органическими процессами, без которых нельзя себе представить жизнь. Идея о том, что рациональный и иерархический исполнительный комитет может развертывать пролетарские отряды по своему желанию, не только не соответствовала реальной политической жизни, но была и сама по себе мертвой и ложной[433].
В своей критике работы «Что делать?» Люксембург ясно дала понять, что ценой установления централизованной власти будет потеря творчества и инициативы снизу: «Та „дисциплина“, которую Ленин имеет в виду, внедрена в пролетариат не только фабрикой, но и бараками, современной бюрократией, всем механизмом централизованного буржуазного государственного аппарата... Ультрацентризм, защищаемый Лениным, пропитан по самой его сути бесплодным духом ночного сторожа (Nachtwachtergeist), а совсем не позитивным и творческим духом. Он заботится больше о контроле партии, а не о плодотворности, ее работы, о сужении, а не о развитии, о регламентации, а не объединении»[434].
Суть разногласий между Лениным и Люксембург легко улавливается в особенностях выразительности речи каждого. Ленин выступает как жесткий учитель, пришедший дать вполне определенные уроки, — учитель, который ощущает невнимание своих учеников и непременно хочет держать их в строгости для их же собственной пользы. Люксембург также видит это невнимание, но она принимает его как признак имеющейся энергии, как потенциально ценный ресурс, она боится, что чрезмерно строгий учитель уничтожит энтузиазм учеников и получит угрюмую, удрученную аудиторию, которую невозможно ничему научить. К слову сказать, в другой работе она доказывает, что немецкие социал-демократы своими постоянными попытками Установить строгий контроль и дисциплину деморализовали немецкий рабочий класс[435]. Ленин видит возможность влияния учеников на слабого и робкого преподавателя и порицает это как опасный контрреволюционный шаг. Люксембург, для которой работа в классе означает подлинное сотрудничество, без колебаний предполагает возможность получения учителем ценных уроков от своих учеников.
Начав рассматривать революцию как сложный естественный процесс, Люксембург поняла, что роль авангардной партии неизбежно ограничена. Такие процессы слишком сложны, чтобы быть понятыми, не говоря уже о действиях, разработанных и спланированных заранее. Глубокое впечатление произвели на нее самостоятельные народные выступления по всей России после расстрела толпы перед Зимним дворцом в 1905 г. В своем описании, которое я привожу здесь подробно, она прибегает к природным метафорам, чтобы передать глубокую убежденность в том, что централизованный контроль — иллюзия.
Как показывает Русская революция [1905 г.], массовая забастовка — это такое изменчивое явление, которое отражает в себе все фазы политической и экономической борьбы, все стадии и моменты революции. Ее точки приложения, эффективность и моменты начала непрерывно меняются. Внезапно она открывает новые широкие перспективы революции как раз там, где казалось, что она полностью зашла в тупик, и разочаровывает, когда сложилась полная уверенность, что на нее можно положиться. То она льется широким потоком по всей земле, то разделяется на гигантскую сеть тонких ручьев, то бьет из-под земли ключом, подобно свежему источнику, то разливается по земле тонким слоем... Все [формы народной борьбы] действуют одна через другую, рядом с друг другом, поперек друг другу, втекают в одну и вытекают из другой, это — вечное, движущееся, изменяющееся море проявлений[436].
Массовая забастовка не была тактическим изобретением авангардной партии, которое она могла бы использовать в подходящий момент. Она была скорее «энергичным бьющимся пульсом революции и в то же время ее наиболее мощным маховиком, ... феноменальной формой пролетарской борьбы за революцию»[437]. С точки зрения Люксембург, Ленин выглядел инженером, надеющимся сдержать мощную реку, чтобы выпустить ее при одном только всплеске обширного наводнения, которое и будет революцией. Она полагала, что «наводнение» массовой забастовки нельзя предсказать и управлять им нельзя, что профессиональные революционеры не могут повлиять на его ход, хотя могли, как это и сделал в действительности Ленин, приплыть на нем к власти. Интересно, что понимание Розой Люксембург революционного процесса дало возможность показать, как Ленин и большевики пришли к власти, лучше, чем это было сделано в утопическом сценарии работы «Что делать?» Способность быстро понять процессуальную сторону политического конфликта позволила Люксембург увидеть правильную перспективу тех событий, которые Ленин считал неудачами и тупиками. Размышляя о событиях 1905 г., она подчеркивала, что «каждая бешеная волна политического действия оставляет слой плодородного ила, из которого выстреливает тысяча ростков экономической борьбы»[438]. Аналогия с органическими процессами передавала как их самостоятельное развитие, так и определенную уязвимость. Извлекать из живой ткани пролетарского движения забастовку как особый вид борьбы было бы опасно для всего организма революции. Имея в виду Ленина, она писала: «Если умозрительная теория предлагает искусственное вскрытие массовой забастовки, чтобы добраться до „чистейшей политической забастовки“, то это вскрытие, как, впрочем, и любое другое, не постигнет явление в его живой сущности, а убьет все разом»[439]. Люксембург тогда видела рабочее движение во многом так же, как Джекобс видела город: как запутанный социальный организм, чье происхождение, динамику и будущее довольно трудно понять. Тем не менее ясно, что вметаться и рассечь рабочее движение означает убить его, точно так же, как строгое функциональное разделение города на районы делало его безжизненным чучелом.
Если Ленин подходил к пролетариату как инженер к сырому материалу, думая о том, как использовать его в своих целях, то Люксембург подходила к нему как врач. Как любой пациент, пролетариат имел свою собственную конституцию, которая ограничивала возможные внешние вмешательства. Врач должен уважать пациента и помогать ему в борьбе с болезнью в соответствии с его собственными потенциальными силами и слабостями. Наконец, индивидуальность и история болезни пациента неизбежно повлияли бы на результат. Пролетариат нельзя переделать до основания и аккуратно втиснуть в предопределенный проект. Но главной, постоянно возвращающейся темой критики Люксембург Ленина и большевиков была образовательная политика, которой мешали их диктаторские методы и недоверие к пролетариату. Они мешали развитию зрелого самостоятельного рабочего класса, необходимого для революции и строительства социализма. Таким образом, она обвинила и немецких, и русских революционеров в том, что они вместо эго пролетариата выставляют эго авангардной партии — подмена, игнорирующая тот факт, что цель состояла в создании сознательного рабочего движения, а не в использовании пролетариата в качестве инструмента. Как проникнутый доверием к своему подопечному и сочувствующий ему опекун, она предвидела возможность заблуждений как часть процесса познания. «Однако ловкий акробат, — говорит она, имея в виду социал-демократическую партию, — не в состоянии увидеть, что истинный субъект, кому предназначена роль режиссера, есть коллективное эго рабочего класса, настаивающее на своем праве делать ошибки и самому учиться исторической диалектике. Мы должны, наконец, честно признать, что ошибки, совершенные настоящим революционным рабочим движением, с точки зрения истории бесконечно более плодотворны и ценны, чем непогрешимость наилучшего из всех возможных „центральных комитетов“»[440].
Почти пятнадцатью годами позже, через год после большевистского захвата власти в октябре 1917 г., Люксембург обвиняла Ленина точно в тех же выражениях. Ее предупреждения о направлении, в котором двигалась диктатура пролетариата, сделанные сразу после революции, выглядят пророческими.
Она была уверена, что Ленин и Троцкий полностью извратили понимание диктатуры пролетариата. Для нее она означала господство всего пролетариата, который требовал самых широких политических свобод для всех рабочих (но не для вражеских классов), чтобы они могли использовать свое влияние и мудрость для строительства социализма. Это отнюдь не означало, как предлагали Ленин и Троцкий, что тесный круг партийных лидеров будет от имени пролетариата осуществлять диктаторскую власть. Предложение Троцкого не созывать учредительного собрания ввиду изменений обстоятельств сразило Люксембург — лекарство оказалось хуже, чем сама болезнь.
Только активная общественная жизнь могла исправить недостатки выборных органов. Концентрируя абсолютную власть в нескольких руках, большевики «закрыли выход фонтану политического опыта и источнику этого восходящего развития [достижению более высоких стадий социализма] подавлением общественной жизни»[441].
Бесспорно, тут было не только различие в тактике, но и фундаментальное разногласие в вопросе о природе социализма. Ленин действовал так, как если бы дорога к социализму была уже подробно размечена и задача партии состояла в использовании железной дисциплины партийного аппарата для того, чтобы революционное движение придерживалось этой дороги. Люксембург верила в нечто противоположное этому — что будущее социализма должно быть открыто и разработано в подлинном сотрудничестве рабочих с их революционным государством. Для построения социализма не было ни «готовых рецептов», ни «решения в какой-либо программе социалистической партии или учебнике»[442]. Открытость, которая характеризовала социалистическое будущее, была не недостатком, а скорее признаком его превосходства как диалектического процесса над собранием стандартных формул утопического социализма. Построение социализма происходило на «новой территории. Повсюду тысячи проблем, и только накопленный опыт даст возможность для исправления ошибок и открытия новых путей. Только нестесненная в своем течении жизнь распадается на тысячу новых форм и импровизаций, зажигает творческую силу, сама исправляет все ошибочные попытки»[443].
Ленинские декреты и террор, а также то, что Люксембург назвала «диктаторской мощью фабричного надзирателя», лишили революцию этой народной творческой силы и опыта. Пока рабочий класс в целом не участвует в политических процессах, добавляет она предупреждающе, «социализм будет устанавливаться декретами из нескольких официальных кабинетов дюжиной интеллектуалов»[444].
Взглянув вперед, на закрытый и авторитарный порядок, который сразу же после революции начал устанавливать Ленин, отметим, что предсказания Люксембург оказались хоть и пугающими, но точными: «Подавление политической жизни по всей стране при Советах убило ее вполне. Без всенародных выборов, без неограниченной свободы печати и собраний, без свободной борьбы мнений жизнь затухает в каждом общественном учреждении... Общественная жизнь постепенно засыпает... На практике руководит только дюжина выдающихся личностей [партийных лидеров], а элита рабочего класса приглашается поаплодировать речам лидеров и единодушно одобрить выдвинутые резолюции — вроде бы снизу, усилиями клики,... настоящая диктатура в буржуазном смысле»[445].
Александра Коллонтай и «Рабочая оппозиция» Ленину
Александра Коллонтай, находясь в рядах большевиков, критиковала их после революции во многом так же, как это делала Люксембург. Революционная активистка, глава женского отдела Центрального Комитета (Женотдел), к началу 1921 г. тесно связанная с «Рабочей оппозицией», Коллонтай была занозой в рядах ленинской партии. Ленин расценил резко критический памфлет, который она написала как раз перед X съездом партии в 1921 г., как предательский акт. Этот съезд открылся сразу после организованного подавления Кронштадтского восстания рабочих и моряков и в разгар восстания Махно на Украине. Атака на партийных лидеров в такое тревожное время расценивалась как предательское обращение к «базовым инстинктам масс».
Существовала прямая связь между Люксембург и ее российской коллегой. На Коллонтай в начале XX в. произвела глубокое впечатление работа Люксембург «Социальная реформа или революция», кроме того, она встречалась с Люксембург на совещании социалистов в Германии. Хотя памфлет Коллонтай вторил большинству критических работ Люксембург по поводу централизованной и авторитарной социалистической практики, его исторический фон был другим. Коллонтай излагала свою позицию, будучи членом «Рабочей оппозиции», состоявшей из свободно избранных делегатов Всероссийского съезда профсоюзов — тех самых профсоюзов, которые непосредственно осуществляли планирование и производство. Александр Шляпников, близкий соратник Коллонтай, и другие деятели профсоюзного движения были встревожены усилением доминирующей роли технических специалистов партии, бюрократии и партийного центра, а также привилегированным положением рабочих организаций. Можно еще было понять методы управления по законам военного времени во время Гражданской войны. Но теперь, когда Гражданская война была окончена, направление, в котором шло социалистическое строительство, оказалось у опасной черты. Коллонтай со своей стороны привнесла в профсоюзное движение богатство практического опыта, необходимого для улучшения работы с государственными органами в интересах работающих женщин, для которых организовывались ясли и столовые. В конце концов, «Рабочая оппозиция» была объявлена вне закона, а Коллонтай заставили замолчать, но она успела оставить в назидание потомкам свою пророческую критику[446].
Памфлет Коллонтай резко обрушивался на партийное государство, которое она сравнивала с авторитарным школьным учителем почти в тех же выражениях, что и Люксембург. Прежде всего она утверждала, что отношения между Центральным Комитетом и рабочими стали абсолютно односторонними и приказными. На профсоюзы смотрели как на простые «связующие нити» или приводные ремни от партии к рабочим, от них ждали «воспитания масс» — как от учителя, чью программу и поурочные планы сначала проверяли и редактировали, а потом только позволяли использовать в работе с учениками. Она обвиняла партию в том,что ее педагогическая теория устарела, в ней нет места для индивидуальности ученика. «Когда начинаешь перелистывать страницы стенограмм речей наших видных лидеров, удивляешься неожиданным проявлениям их педагогической активности. Каждый автор предлагает самую совершенную систему воспитания масс. Но во всех этих системах «обучения» нет условий для свободы эксперимента, для проявления творческих способностей тех, кто обучается. В этом отношении все наши педагоги отстали от времени»[447].
Есть некоторые сведения о том, что работа Коллонтай в интересах женщин имела непосредственное отношение к ее деятельности в «Рабочей оппозиции». Как Джекобс обладала своеобразным взглядом на функционирование города благодаря своим обязанностям домохозяйки и матери, так и Коллонтай видела партию преимущественно как защитницу женщин, работа которых редко принималась всерьез. Она обвиняла партию в том, что та отрицала возможности женщин в организации «творческих проблем в сфере производства и развития творческих способностей» и ограничивала их «узкими задачами ведения хозяйства, обязанностями по дому и т. д.»[448]. Ее собственные переживания по поводу снисходительного отношения к ней как представителю женского отдела кажутся напрямую связанными с ее обвинением партии в том, что она обращается с рабочими как с младенцами, а не как с самостоятельными и творчески зрелыми взрослыми. В том же пассаже, где она упрекала партию в том, что та считает женщин пригодными только для ведения домашнего хозяйства, она высмеяла Троцкого — на съезде шахтеров он хвалил рабочих, которые добровольно и самостоятельно поменяли витрины, подчеркивая тем самым, что он хотел ограничить деятельность рабочих только самыми простыми вспомогательными задачами.
Как и Люксембург, Коллонтай полагала, что социализм невозможно построить только одним Центральным Комитетом, каким бы он ни был гениальным. Профсоюзы не были простыми инструментами или приводными ремнями строительства социализма, они в значительной степени были основателями и созидателями социалистического способа производства. Коллонтай сжато сформулировала фундаментальное различие: «Рабочая оппозиция» видит в профсоюзах управляющих и созидателей коммунистической экономики, в то время как Бухарин вместе с Лениным и Троцким оставляют им только роль школ коммунизма и ничего более»[449]. Коллонтай разделяла убеждение Люксембург, что практический опыт работы на фабрике совершенно необходим для специалистов и технических работников партии. Коллонтай вовсе не хотела умалить роль специалистов и оргработников, она признавала ее важной, но эффективно работать они могли только в подлинном сотрудничестве с профсоюзами и рабочими. Ее представление о том, какие формы это сотрудничество могло бы принять, похоже на образ отношений крестьян и работников сельскохозяйственной службы, чьи заказы эта служба выполняла бы. Такие технические центры, связанные с промышленным производством, были бы организованы по всей России, но задачи, которые ставились перед ними, и услуги, которые они обеспечивали бы, непосредственно отвечали бы спросу производителей[450]. Специалисты должны служить производителям, а не диктовать им свои условия. В довершение Коллонтай предложила, что человек, который имеет под своим началом специалистов, но у которого отсутствует практический опыт, а партийный стаж начинается после 1919 г., должен быть снят с должности, по крайней мере до тех пор, пока он не поработает физически.
Коллонтай, как и Люксембург, ясно видела социальные и психологические последствия недооценки самостоятельной инициативы рабочих. Отталкиваясь от конкретных примеров — заготовка дров, закладка столовой, открытие детских ясель, она показывала, как рабочим мешали на каждом шагу бюрократическими задержками и крючкотворством: «к каждой самостоятельной мысли или инициативе относились как к „ереси“, как к нарушению партийной дисциплины, как к попытке посягнуть на прерогативы центра, который должен „предвидеть“ и „декретировать“ все и вся». Нанесенный вред был связан не только с тем, что специалисты и бюрократия, вероятнее всего, принимали плохие решения. Такое отношение к рабочим имело два других последствия. Во-первых, оно выражало «недоверие к творческим способностям рабочих», которые оказывались недостойными «провозглашенных идеалов нашей партии». Во-вторых, и самое главное, оно душило моральный и творческий дух рабочего класса. В своей неудовлетворенности работой специалистов и чиновников «рабочие стали циничными и заявили: „Пусть [эти] чиновники сами заботятся о нас“. А в результате случайные и близорукие чиновники контролируют работу унылых рабочих, проклинающих тот день, когда они пришли на эту фабрику»[451].
Отправная точка Коллонтай, как и Люксембург, состояла в предположении о характере задач, которые возникают при проведении революций, и о создании новых форм производства. Для них обеих такие задачи похожи на плавание по маршрутам, которых еще нет и не может быть на карте. Могут быть какие-то приближенные способы навигации, но не может быть никаких планов сражений, составленных заранее: многочисленные неизвестные в уравнении делают простое решение невозможным. На более техническом языке такие цели могут быть достигнуты только через стохастический процесс последовательных приближений, проб и ошибок, через эксперимент и опытное знание. Вид знания, требующегося в таких попытках, не дедуктивный вывод всего на свете из первопричины, а скорее то, что греки классического периода называли metis — понятие, к которому мы еще вернемся. Обычно его неправильно переводят как «ловкость», но metis лучше понимать как вид познания, которое может быть приобретено только через долгую практику в аналогичных, но не идентичных задачах, требующих постоянной адаптации к изменяющимся обстоятельствам. Именно к этому виду знания призывала Люксембург, когда характеризовала строительство социализма как освоение «новой территории», требующее «импровизации» и «творчества». Именно к этому виду знания обращалась Коллонтай, когда упорно утверждала, что партийные лидеры совершали ошибки, что они нуждались в «каждодневном опыте» и «практической работе с основным классовым коллективом» тех, «кто на самом деле в одно и то же время производит и организует производство»[452].
Люксембург использовала аналогию, которую признал бы правильной любой марксист. Она спрашивала: мыслимо ли, чтобы даже самые умные управляющие феодальным поместьем смогли сами изобрести капитализм? И отвечала, конечно, нет, потому что их знания и навыки были напрямую привязаны к феодальному производству, точно так же, как технические специалисты ее времени получили свои первые уроки в рамках капиталистической структуры. Для будущего в настоящем просто не существует прецедента.
Повторяя для риторического эффекта мнение, которое выражали и Люксембург, и Ленин, Коллонтай утверждала, что «коммунизм невозможно установить декретом. Он может быть создан только в процессе практического научения, возможно, через ошибки, но только с помощью творческих сил самого рабочего класса». Роль специалистов и должностных лиц существенна, но «только те, кто непосредственно связан с производством, могут внести в него что-то по-настоящему новое»[453].
Для Ленина партия авангарда — машина для организации революции, а затем для построения социализма — задач, которые (по предположению) в основном решены. Для Ле Корбюзье дом — машина для жилья, а городской проектировщик — специалист, чьи знания говорят ему, как должен быть построен город. Для Ле Корбюзье люди не имеют значения для процесса городского планирования, хотя в результате этого процесса должен возникнуть город, в котором этим людям будет удобно жить. Ленин не может делать революцию без пролетариата, но он кажется ему войском, которое надо направлять. Конечно, задачи революции и научного социализма решаются ради рабочего класса. Каждая из этих задач имеет единственный ответ, который может быть найден специалистами и, следовательно, управляющим центром, который может и должен принять верное решение. В противоположность этому Коллонтай и Люксембург рассматривают задачи, решение которых заранее неизвестно. Результаты неуверенных попыток, множество экспериментов и начинаний лучше всего укажут, какие линии атак окажутся успешными, а какие останутся бесплодными. Революция и социализм будут лучше всего продвигаться, как и город Джекобс, если они являются совместным творчеством специалистов и одаренных дилетантов. В конце концов, нет никакого строгого различия между средством и целью. Авангардная партия Люксембург и Коллонтай не делает революцию и не строит социализм в прямом смысле, как, скажем, фабрика производит технические оси. Таким образом, работа авангардной партии не может быть подобающим образом оценена, как оценивали бы фабрику по ее производительности: сколько осей определенного качества она выпускает с данным количеством рабочих, при данных капиталовложениях и так далее, независимо от того, каким образом достигается результат. К тому же авангардная партия Люксембург и Коллонтай одновременно производит определенную разновидность рабочего класса — творческий, сознательный, компетентный и способный на великие дела рабочий класс, а это — предпосылка любых других свершений. При правильном взаимодействии авангардной партии с рабочим классом способ достижения цели так же важен, как и пункт назначения. Если это взаимодействие односторонне, авангардная партия может достичь своих революционных целей с помощью средств, которые поразят ее основную цель.
Часть 3. Реализация проектов заселения сельской местности и сельскохозяйственного производства
Понятность объекта является условием эффективности направленного на него воздействия. Любое сколько-нибудь существенное вмешательство в жизнь общества — вакцинация населения, производство товаров, трудовая мобилизация, налогообложение лиц и их имущества, проведение кампаний по борьбе с неграмотностью, призыв на военную службу, проведение в жизнь санитарных норм, поимка преступников, введение всеобщего школьного образования — требует разработки наглядных единиц измерения. Этими единицами могут быть граждане, деревни, деревья, поля, дома или люди, сгруппированные по возрасту, в зависимости от типа воздействия на общество. Какими бы единицами измерения ни приходилось оперировать, они должны быть выбраны так, чтобы их можно было распознать, наблюдать, регистрировать, подсчитывать, группировать и проверять. Уровень требуемых знаний должен приблизительно соотноситься с размером вмешательства. Иными словами, чем больше масштаб предполагаемого вмешательства, тем больше должна быть четкость его осуществления.
К середине XIX в. полного расцвета достигло явление, которое, вероятно, имел в виду Прудон, когда говорил: «Быть управляемым — значит подвергаться слежке, инспектированию, шпионству, регулированию, индоктринации, поучению, перечислению и проверке, прикидке, оценке, цензуре, предписанию... Быть управляемым в каждом действии,сделке, движении, быть замеченным, зарегистрированным, подсчитанным, оцененным, предупрежденным, не допущенным, улучшенным, восстановленным, исправленным»[454].
Кроме того, многое было достигнуто в искусстве управления современным государством, и Прудон сожалел об этом. Стоит подчеркнуть, что это «многое» трудно досталось и было само по себе не очень значительным. Ведь большинство государств «моложе», чем общества, которыми они претендуют управлять. Государства сопоставляются по типам поселений, социальных отношений и производства, не говоря уже о естественной окружающей среде, которая в значительной степени отразилась на своеобразии государственных планов[455]. В результате появляется разнообразие, сложность и неповторимость социальных форм, структура которых (зачастую преднамеренно) трудна для понимания.
Представьте на мгновение образцы таких городских поселений, как Брюгге или medina старого средневосточного города, упомянутого ранее (см. гл. 2). Каждый город, каждый район и каждый квартал уникальны, все это — историческая векторная сумма миллионов замыслов и действий. Хотя их формы и функции, несомненно, имеют логику, эта логика не определяется единым общим замыслом. Их сложность трудно передать на карте. Кроме того, описание, даваемое любой картой, ограничено во времени и пространстве. Карта одного района не поможет в описании своеобразной запутанности другого, а описание, адекватное сегодня, через несколько лет не будет соответствовать действительности.
Если государство ограничивается минимальными целями, ему может и не потребоваться большой объем знаний об обществе. Как лесной житель, который, подбирая в большом лесу только попадающиеся по дороге дрова, не нуждается в детальном знании этого леса, так и государство, чьи интересы ограничиваются сбором нескольких лишних телег зерна и дополнительных призывников, не нуждается в очень точной и подробной карте. Однако, если государство имеет серьезные намерения, т. е. если ему требуется собрать столько зерна и трудовых ресурсов, сколько оно может собрать, даже рискуя вызвать голод или восстание, или если оно хочет иметь грамотное, квалифицированное и здоровое население, или если оно желает, чтобы все пользовались одним и тем же языком или поклонялись одному богу, тогда оно должно стать гораздо более осведомленным и гораздо более настойчивым. Каким же образом государство берет бразды правления обществом в свои руки?
Здесь и в двух последующих главах я буду особенно интересоваться логикой, скрытой за крупномасштабными попытками переустроить сверху сельскую жизнь и производство. Наблюдаемый из центра, с королевского двора или с позиции государственного чиновника, этот процесс часто описывался как «цивилизационный»[456]. Я предпочитаю рассматривать его как попытку приручения, одомашнивания, своего рода социальной перепланировки, созданной для того, чтобы сделать сельскую местность, ее продукцию и жителей более доступными для обозрения центром. В этих попытках приручения некоторые элементы кажутся если не универсальными, то по крайней мере очень общими, их можно назвать «закреплением оседлости», «концентрированием» и «радикальным упрощением» как расселения, так и обработки земель.
Исследуем подробнее две печально известные схемы упрощения в области сельского хозяйства — коллективизацию в советской России и деревни уджамаа в Танзании, чтобы определить как политическую логику разработки этих проектов, так и причины их многочисленных ошибок в качестве производственных схем. Но сначала рассмотрим пример из истории Юго-Восточной Азии, который раскрывает общность целей, присущую проектам доколониальных, колониальных и независимых режимов, а также возросшую способность современного государства реализовать подобные проекты запланированного заселения и производства.
Демографический процесс в доколониальной Юго-Восточной Азии был таков, что решение о контроле земли самой по себе, если только это не было стратегически важным устьем, перешейком или проливом, редко принималось в государственной структуре. Контроль населения — по грубым подсчетам, пять человек на квадратный километр в 1700 г. — значил куда больше. Ключ к успешному управлению государством обычно представлял собой способность привлекать и держать в пределах разумного радиуса существенную часть производительного населения. При относительной редкости населения и легкости его перемещения контроль пахотной земли был бессмысленным, если на ней не было людей, обрабатывающих ее. Доколониальное государство, таким образом, старалось попасть в промежуток между тем уровнем налогов и требований, который поддерживал амбиции данного монарха, и тем, после которого ускорялась массовая эмиграция населения из страны. Доколониальные войны чаще велись за захват пленных с последующим поселением их около правящего двора, чем за расширение территории. Растущее производительное население, селившееся вокруг столицы, было более надежным показателем мощи королевства, чем физическое пространство, которым владел король.
Доколониальное государство было очень заинтересовано в оседлости населения — в создании постоянных и долговременных поселений. Чем больше концентрация людей, производящих прибавочный продукт, тем легче присваивать зернои рабочую силу, тем легче привлекать к военной службе. На очень грубом уровне эта детерминистская географическая логика представляет собой просто применение стандартных теорий поселения. Как достаточно полно продемонстрировали Иоханн Генрих фон Тюнен, Вальтер Кристаллер и Дж. Вильям Скиннер, экономика переселений при прочих равных условиях воспроизводит повторяющиеся географические образцы расположения рынка, специализации культур и административной структуры[457]. Политически присвоение рабочей силы и зерна подчиняется во многом такой же географической логике, предпочитающей концентрацию, а не рассеянность населения, и отражающей логику присвоения, основанную на транспортных затратах[458]. В этом контексте не удивительно, что большинство классических трудов об управлении государством посвящено методам привлечения и удержания населения на месте в обстановке, когда люди могут спастись бегством за границу или поселиться под крылом другого ближайшего государя. Выражение «голосовать ногами» имело буквальный смысл в большинстве стран Юго-Восточной Азии[459].
Традиционное тайское государственное управление успешно использовало совершенно особую методику для уменьшения побегов и прикрепления простых граждан к государству или к владельцам. В Таиланде применялась система татуировок простых граждан символами, поясняющими, кто кому «принадлежит». Такая система татуировок свидетельствует, что для выявления и закрепления популяции подданных, склонных «голосовать ногами», требовались исключительные меры. Побег был настолько обычным явлением, что большое число охотников зарабатывало на жизнь, прочесывая леса в поисках беглецов, чтобы возвратить их законным владельцам за щедрое вознаграждение[460]. С подобными же проблемами сталкивались католические монахи в первые годы испанского владычества на Филиппинах. Тагалы, которые были переселены для работы под надзором по латиноамериканской модели, часто сбегали из-за тяжелого труда. Их называли remontados, т.е. крестьяне, которые уходили «назад в горы», где они пользовались большей самостоятельностью.
Вообще доколониальную и колониальную Юго-Восточную Азию было бы полезно описывать в терминах государственного и негосударственного пространства. В первом случае, если определять это очень приблизительно, подданные селились довольно плотно в полупостоянных общинах, производя прибавочное зерно (обычно рис-сырец) и пополняя рабочую силу, которые относительно легко присваивались государством. Во втором случае население было рассеяно, практиковало подсечно-огневую систему земледелия или чередование возделываемых земель (переложную систему), вело более смешанную экономику (например, выращивало разнообразные культуры или полагалось на собирательство) и было весьма подвижным, чем и спасалось от государственного присмотра. Государственные и негосударственные пространства просто не существовали раньше экологических и географических установлений, которые способствовали образованию государств или препятствовали ему. Главная цель потенциальных государей состояла в создании, а затем и расширении государственных зон путем постройки ирригационных сооружений, захвата пленных в войнах и принуждения их к поселению, кодификации их религии и т.д. Классическое государство стремилось концентрировать население в пределах легкой досягаемости, изымая и надежно доставляя в столицу зерно, облагая воинской повинностью и тем самым обеспечивая приток мужской силы для поддержания государственной безопасности в случае войны и проведения общественных работ.
Проницательная попытка Эдмунда Лича разобраться в границах Бирмы косвенным образом следовала этой логике в реконструкции ее традиционного государственного устройства. Он предложил рассматривать доколониальное Бирманское государство не как физически смежные территории, как мы теперь воспринимаем современные страны, а как сложную совокупность лоскутков, следующую совершенно противоположной логике. Нам нужно, настаивал он, представлять это королевство с помощью горизонтальных топографических слоев. По этой логике он представлял Бирму совокупностью всех оседлых производителей риса-сырца, живущих в долинах в пределах досягаемости центрального правления. Эти долины мы будем называть, как предложено, государственными зонами. Следующий горизонтальный слой местности, скажем пятьсот на полторы тысячи футов, дает совершенно другую экологию: его жители занимаются переложным земледелием, живут более рассеяно и потому менее надежные подданные. Они не считались неотъемлемой частью королевства, хотя могли регулярно посылать дань центральному двору. Еще более высокие возвышенности составили бы другие экологические, политические и культурные зоны. Лич, следовательно, как раз и предложил рассматривать как «королевство» все относительно густонаселенные места жительства рисоводов, находящиеся в пределах досягаемости столицы, а остальные, даже относительно близкие к центру, — как «негосударственные зоны»[461].
Роль государственного управления в этом примере состоит в увеличении производительного и оседлого населения в государственных зонах с одновременным сбором дани в негосударственных зонах или, по крайней мере, нейтрализацией их[462]. Эти не имеющие гражданства зоны всегда играли потенциально подрывную роль, как символически, так и практически. С точки зрения центра эти области и их жители были примерами грубости, беспорядка и варварства, на фоне которых можно было оценить любезность, упорядоченность и опытность центра[463]. Само собой разумеется, такие области служили прибежищем беглых крестьян, мятежников, бандитов и претендентов на трон, которые часто угрожали королевству.
Конечно, различная высота природных зон — только один фактор среди многих, которые могли бы характеризовать отличие негосударственных зон от государственных. Как правило, они проявляют одну (или больше) из следующих отличительных особенностей: они относительно недоступны (дикая природа, отсутствие или запутанность дорог, неприветливость жителей), население их рассеянное или кочующее, эти места неперспективны для капиталовложений[464]. Таким образом, болота и топи (кто-то подумает об Арабских болотах на границе Ирана и Ирака), постоянно меняющиеся рукава дельт рек, горы, пустыни (предпочитаемые кочевыми берберами и бедуинами), море (убежище для так называемых морских цыган южной Бирмы) и вообще все границы служили «негосударственными зонами» в том смысле, который я вложил в этот термин[465].
Современные системы развития в Юго-Восточной Азии или в любом другом месте требуют создания государственных сфер, где правительство может преобразовать общество и экономику тех, кто должен быть «развит». Такое преобразование распространено повсеместно и зачастую протекает болезненно для жителей таких мест. В содержательном докладе Анны Лоуэнхопт Тсинг о попытках индонезийского правительства захватить кочевых мератус (горных жителей острова Калимантан) описывается поразительный в этом смысле случай. Мератус живут, как она подчеркивает, в таком месте, которое «до сих пор избегало доступности государственному взору, требуемому моделью развития». Кочевые охотники-собиратели, занимающиеся одновременно переложным земледелием, объединенные в постоянно изменяющиеся родовые общины, широко рассеянные по рассматриваемой территории и являющиеся в глазах остальных индонезийцев язычниками, мератус представляют собой трудный случай. Индонезийские чиновники попробовали сосредоточить их в запланированных деревнях вдоль главных дорог. Скрытая цель состояла в создании прикрепленного и сконцентрированного населения, которое чиновники, отвечающие за управление изолированных поселений, могли бы видеть и инструктировать при поездке по району[466]. Оседлость мератус была предпосылкой государственного надзора и развития, тогда как менталитет мератус как народа требовал «беспрепятственного передвижения»[467].
Недоступность мератус в смысле государственного развития в глазах чиновников была признаком их прискорбной отсталости. Предполагаемые цивилизаторы описывали их как «еще не готовых», «еще не организованных» (belum di-ator), как «еще не обращенных B Bepy» (belum berugama), их методы возделывания земли представлялись ведением «беспорядочного сельскоro хозяйства» (pertanian yang tidak ter-atur).
В свою очередь, мератус быстро поняли сущность замыслов, которые имело в отношении их правительство. Их попросили поселиться вдоль основных дорог через лес, с одним местным начальником для надзора, «чтобы правительство могло видеть людей». Мератус были уверены, что группы домов, в которых им предложили поселиться, предназначались «для показа чиновникам, если те явятся с визитом»[468]. Рассуждения индонезийского правительства о развитии, прогрессе и цивилизации народа мератус были лишь прикрытием сводного проекта упрощения и концентрации.
Логическим заключением усилий резко разграничить государственные и негосударственные сферы реально может стать революция. Четко определенные, легко проверяемые и патрулируемые государственные зоны, такие как форты, вооруженные поселения или лагеря для интернированных, нужны при угрозе войны. Современные примеры можно найти в так называемых новых деревнях в Малайзии в период чрезвычайного положения после Второй мировой войны, которое было введено специально для изоляции мелких китайских собственников и коренного населения, производящего каучук, чтобы воспрепятствовать обеспечению людьми, продовольствием, наличными деньгами и поставками значительного китайского партизанского движения вдали от внутренних районов страны. В организованных поселениях, позже послуживших образцом «стратегических деревушек» во Вьетнаме, принужденные к повиновению жители были расквартированы в одинаковых пронумерованных домах, выстроенных прямыми рядами[469]. Передвижение населения в деревне и за ее пределами строго проверялось. Людям достаточно было сделать лишний шаг, чтобы оказаться в одном из концентрационных лагерей, построенных в военное время для создания и поддержания четкой, ограниченной и сконцентрированной государственной зоны, изолированной от внешнего мира настолько, насколько это возможно. Там прямой контроль и дисциплина были важнее, чем присвоение продуктов труда. В недавние времена предпринимались беспрецедентные попытки, направленные на то, чтобы охватить негосударственные зоны влиянием государства. Во всяком случае этим пытались объяснить многочисленное использование химреактива «Орэндж» для уничтожения больших лесных массивов в период Вьетнамской войны, делая тем самым местность доступной для наблюдения и безопасной (для правительственных сил, разумеется).
Концепция государственных зон, соответственно измененная для условий рыночной экономики, может также помочь разрешить очевидный парадокс в колониальной аграрной политике в Юго-Восточной Азии. Как объяснить в колониальных условиях решительное предпочтение плантаций мелким фермам? Почва, конечно, не может существенно влиять на выбор формы ведения хозяйства. Мелкие арендаторы, как показывает история, могли соревноваться с плантаторами по выпуску больших объемов продукции почти любой культуры, за исключением, может быть, сахарного тростника[470]. Время от времени колониальные государства обнаруживали, что мелкие производители благодаря низким затратам и гибкому использованию рабочей силы семьи могут продавать продукцию дешевле, чем плантаторы.
Я уверен, что парадокс будет в значительной степени разрешен, если рассматривать «эффективность» плантации как единицы налогообложения (налоги на прибыль и различные экспортные пошлины), трудовой дисциплины, надзора и политического контроля. Возьмем, например, производство каучука в колониальной Малайзии. В начале резинового бума в первом десятилетии XX в. британские чиновники и инвесторы не сомневались, что производство каучука на плантациях, где имелось лучшее заводское оборудование, лучшая научная организация труда и более доступная рабочая сила, окажется более производительным и выгодным, чем организованное мелкими арендаторами[471]. Обнаружив свою ошибку, чиновники все равно упорно настаивали на своем предпочтении производства каучука на плантациях, что обходилось довольно дорого экономике колонии. Позорная система Стивенсона в Малайзии в период мирового спада экономики представляла собой явную попытку ограничить мелкого арендатора и сохранить убыточное производство резины на плантациях. В противном случае разорились бы многие плантации.
Дело в том, что, защищая частный сектор, колонизаторы соблюдали интересы своих соотечественников, но это была только одна из причин, объясняющих их политику. Если бы эта причина была главной, можно было бы ожидать политики свертывания независимости страны. Как мы вскоре увидим, этого не произошло. Плантации, хотя и менее производительные, чем мелкое землевладение, были гораздо удобнее в качестве единиц налогообложения. Владельцев больших, легально находящихся в собственности производств было легче контролировать и облагать налогом, чем множество мелких производителей, которые сегодня здесь, а завтра там, и чья земельная собственность и прибыль скрыты от государства. Поскольку плантации специализировались на отдельных культурах, очень просто было оценить их производство и прибыль. Второе преимущество производства каучука на плантациях состояло в том, что оно обычно обеспечивало централизованные формы проживания рабочих и гораздо лучшее их подчинение политическому и административному контролю. Одним словом, для властей плантации были предпочтительнее, чем малайзийские kampung, которые имели свою собственную историю, руководство и смешанную экономику.
Аналогичную логику можно применить к введению федеральных схем землепользования в независимой Малайзии. Почему в 60-е и 70-е годы XX в. это государство решило организовать большие, дорогостоящие, подвергаемые бюрократической проверке населенные пункты, когда через границу уже активно прокладывали путь многочисленные добровольные переселенцы? Пионерские поселения не стоили государству ничего, однако основывали жизнеспособные домашние предприятия, выращивая и продавая урожай. Гигантские предприятия по производству резины и пальмового масла имели мало смысла как экономические проекты, установленные правительством. Они были чрезвычайно дорогими в организации, расход капитала на каждого поселенца был намного большим, чем тот, который вложил бы в дело любой бизнесмен.
Однако с политической и административной стороны эти большие, подчиняющиеся централизованному планированию и централизованно управляемые правительственные системы имели многочисленные преимущества. В те времена, когда еще были свежими впечатления малайзийских правителей от революции, возглавляемой коммунистической партией, плановые поселения имели преимущества стратегических деревень. Они были построены в соответствии со схемой простой сетки и были сразу понятны новым чиновникам. Дома были пронумерованы последовательно, а жители зарегистрированы и контролировались гораздо чаще, чем в открытых приграничных районах. Малазийские поселенцы могли быть и действительно были тщательно отобраны по возрасту, умениям, политической благонадежности; деревенские жители государства Кеда, где я работал в конце 70-х годов XX в., понимали, что, если они хотят быть отобранными для планового поселения, им нужна рекомендация от местного деятеля правящей партии.
Административные и экономические условия малайзийских поселенцев были сравнимы с условиями «товарищеских городов» времен ранней индустриализации, где каждый работал на той же работе, получал зарплату от того же хозяина, жил в общежитии и отоваривался в той же самой фабричной лавке. Пока культуры на плантациях не созрели, поселенцам выплачивалась заработная плата. Их продукция сбывалась через государственные каналы, они могли быть уволены за нарушение любого из большого числа правил, установленных чиновниками. Экономическая зависимость и прямой политический контроль означали, что такие схемы могли регулярно воспроизводиться для обеспечения избирательного большинства правящей партии. Коллективный протест был редок, и обычно администрация имела санкции для его подавления. Само собой разумеется, что поселения Федерального управления земельного развития (FELDA) позволяли государству контролировать разнообразие экспортных культур, проверять производство и технологический процесс обработки, а также устанавливать цены производителя для получения дохода.
Логическое обоснование существования плановых поселений всегда представлялось публике как забота об организованном развитии и социальных службах (таких, как обеспечение здравоохранения, улучшение санитарных условий, современное жилье, образование, очистка воды и инфраструктура). Публичная риторика не была преднамеренно неискренней, однако она обманчиво умалчивала о разнообразии путей, с помощью которых организованное развитие этого типа обслуживало важные цели обеспечения безопасности и политической гегемонии, что было невозможно поддерживать в автономных приграничных поселениях. Схемы FELDA были «мягкими» гражданскими версиями новых деревень, задуманными как часть противомятежной политики. Дивиденды, которые они платили, приносили меньше экономической прибыли, чем остальные государственные зоны.
Государственные планы прикрепления населения к определенному месту и запланированного расселения редко выполнялись так, как предполагалось, — будь то в Малайзии или в любом другом месте. Как и в случае научного леса или города-сетки, результат обычно получался совершенно иной, нежели тот, к которому стремились изобретатели, несмотря на хорошо налаженный контроль. Не следует, однако, забывать и тот факт, что влияние этих преобразований, к тому же изменяемых местной ситуацией, зависит от того, на смену чему они приходят, а не только от того, в какой степени они соответствуют своей собственной риторике.
Концентрация людей в запланированных поселениях никогда не могла создать то, что имели в виду государственные проектировщики, но она всегда разрывала и разрушала единство существовавших ранее сообществ, не имевших отношения к государству. Эти сообщества, нежелательные для государства по своим нормативным основаниям, вытеснялись, хотя они имели и хотели сохранить свою собственную уникальную историю развития, общественные связи, мифологию и способность к совместному действию. Поселение, образованное государством, по определению должно было сформировать свои источники единства и совместных действий с самого начала. Кроме того, это новое сообщество было лишено способности к перемещению и, следовательно, легче поддавалось внешнему управлению сверху[472].
6. Советская коллективизация, капиталистические мечты
Строители-подрядчики советского общества были больше похожи на Нимейера, проектировавшего Бразилиа, чем на барона Хаусманна, перестраивавшего Париж. Сочетание поражения в войне, экономического кризиса и революции породило в России ситуацию, очень похожую на расчищенный бульдозером пустырь, о каком мог только мечтать строитель государства. В результате получилась такая разновидность ультравысокого модернизма, который в своей отваге напоминал об утопических аспектах своей предшественницы — Французской революции.
Здесь не место подробно обсуждать советский высокий модернизм, да я и не самый осведомленный гид[473]. Моя цель — подчеркнуть культурные и эстетические элементы в советском высоком модернизме. Это, в свою очередь, подготовит почву для разбора прямой связи между советским и американским высоким модернизмом, которая заключалась в пристрастии к гигантским индустриальным фермам. В некоторых важных отношениях советский высокий модернизм не отличается резко от российского абсолютизма.
Эрнст Геллнер доказывал, что из двух аспектов эпохи Просвещения один утверждал суверенитет человека и автономность его интересов, а другой рекомендовал рационально организованную власть специалистов. Именно второй привлекал правителей «отсталых» государств. Он заключает, что эпоха Просвещения пришла в Центральную Европу как «скорее централизующая, чем освобождающая сила»[474].
Таким образом, в ленинском высоком модернизме сильный исторический отзвук нашло то, что Ричард Стайтс называет «административным утопизмом» русского самодержавия и его советников в XVIII и XIX вв. Этот проявилось в преемственности систем организации населения (крепостные, солдаты, рабочие, чиновники), в работе учреждений, «основанных на иерархии, дисциплине, регламентации, строгом порядке, рациональном планировании, упорядочении окружающей среды и уровней благосостояния»[475]. Санкт-Петербург Петра Великого, воплощение этой мечты в образе города, был размещен согласно строгому прямолинейно-радиальному плану на совершенно чистом месте. В соответствии с проектом его прямые бульвары были в два раза шире, чем самое высокое здание, которое, естественно, располагалось в геометрическом центре города. Фасад, высота и материал каждого здания отражали свое общественное назначение и место в иерархии, указывая на социальный статус его жителей. По сути, физическое расположение города было четкой картой его соответствующих социальных структур.
Санкт-Петербург имел много городских и сельских подобий. В правление Екатерины Великой князь Григорий Потемкин создал ряд образцовых городов (таких, как Екатеринослав) и поселений. Следующие два царя, Павел I Александр I, унаследовали страсть Екатерины к прусскому порядку и рациональности[476]. Их советник Алексей Аракчеев учредил образцовое поместье, в котором крестьяне носили униформу и выполняли сложные инструкции по содержанию и обслуживанию поместья, включая ведение «книги наказаний», содержащей записи о нарушениях режима. Это поместье было организовано на основе более смелого плана сети широко разбросанных и самостоятельных военных поселений, в которых к концу 1820-х годов уже проживало 750 тыс. человек. Эта попытка создать новую Россию, в которой не было бы беспорядка, подвижности населения вообще и постоянной смены приграничного населения, быстро сошла на нет в результате общественного сопротивления, коррупции и неэффективности. В любом случае задолго до того, как большевики пришли к власти, исторический пейзаж уже был засорен обломками крушения многих неудачных экспериментов авторитарного социального планирования.
Ленин и его союзники смогли выполнить свои высокомодернистские планы начиная почти с нуля. Война, революция и последующий голод привели к распаду дореволюционного общества, особенно в городах. Общий крах индустриального производства вызвал массовый отток населения из городов и фактический откат к бартерной экономике. Последовавшая четырехлетняя Гражданская война еще более основательно разрушила социальные связи и дала возможность большевикам, находившимся в трудном положении, попрактиковаться в методах «военного коммунизма»: реквизициях, законах военного времени, принуждении.
Работая на выровненном социальном ландшафте и упиваясь возможностью считаться, в соответствии с высокомодернистскими амбициями, пионерами первой социалистической революции, большевики мыслили глобальными категориями. Почти все, что они планировали, от городов и проектов отдельных зданий (Дом Советов) до больших строительных проектов (Беломорский канал) и позже больших индустриальных проектов первой пятилетки (Магнитогорск), не говоря уже о коллективизации, отличалось монументальными масштабами. Шейла Фицпатрик удачно назвала эту страсть к огромным размерам «гигантоманией»[477]. Сама же экономика была задумана как хорошо отлаженный механизм, где каждый будет просто производить товары по инструкции и в количестве, предписанном государственным статистическим управлением, как это предначертал Ленин.
Однако преобразование физического мира не было единственным пунктом в большевистской повестке дня. Они стремились к культурной революции и созданию нового человека. Представители советской интеллигенции были самыми преданными приверженцами этого аспекта революции. В деревнях проходили кампании по поддержке атеизма и борьбе с христианскими обрядами. Под большой словесный гром и шум были изобретены новые «революционные» похороны и брачные церемонии, настоятельно предложен ритуал «Октябрины» как альтернатива крещению[478]. Поощрялась кремация — рациональная, чистая и экономически выгодная процедура. Вместе с отделением церкви от государства прошла огромная и широко популярная кампания по ликвидации безграмотности. Архитекторы и социальные проектировщики изобрели новые коммунальные места проживания, разработанные для замены буржуазной модели семьи.
Общественное питание, прачечные и государственные услуги по присмотру за детьми обещали освободить женщин от традиционного разделения труда. Размещение жилья было явно предназначено для «социальной концентрации». Вперед выступил «новый человек» — большевистский специалист, инженер или чиновник, чтобы представить новый кодекс социальной этики, которая иногда называлась просто культурой. Превознося технологию и науку, эта культура ставила на первое место точность, ясность, деловитую прямоту, вежливую скромность и хорошие, неподчеркнутые манеры[479]. Такое понимание культуры, а также партийное стремление соответствовать духу времени, осознавать его (была даже такая лига «Время»), быть эффективным в работе, соблюдать режим работы, регулируемый по минутам, были блистательно и карикатурно изображены Евгением Замятиным в романе «Мы» и позже стали источником вдохновения Джорджа Оруэлла в его романе «1984».
Стороннего наблюдателя этой революции в культуре и архитектуре особенно поражает стремление всем вместе непосредственно осязать визуальные и эстетические измерения нового мира. Вероятно, наиболее показательные формы этого нового искусства можно увидеть в том, что Стайтс называет «фестивали-смотры», организованные культурным импресарио раннего Советского государства Анатолием Луначарским[480]. Он устраивал зрелища под открытым небом, в которых революция воспроизводилась в таком масштабе, что должна была казаться настоящей: с пушками, отрядами солдат, прожекторами, кораблями на реке, четырьмя тысячами актеров и тридцатью пятью тысячами зрителей[481]. В то время как действительная революция протекала во всей обычной неразберихе реальной жизни, ее изображение отличалось военной четкостью, а актеры были организованы во взводы и оснащены семафорами и полевыми телефонами. Подобно массовым физкультурным упражнениям, публичное зрелище выполняло заказ, имеющий целью и основной сюжетной линией изображение событий, якобы происходивших в прошлом, и предназначенных для того, чтобы поразить зрителя, а вовсе не отразить исторические факты[482].
Если в военных поселениях Аракчеева можно увидеть попытку создать желаемое по приказу, то, возможно, революция, изображенная Луначарским на сцене, была воплощением представлений о желаемых отношениях между большевиками и толпой пролетариев. Чтобы представить события в нужном свете, особых усилий не потребовалось. Когда сам Луначарский пожаловался, что из-за первомайских празднований приходится разрушать церкви, Лазарь Каганович, председатель Моссовета, ответил: «А моя эстетика требует, чтобы процессии демонстрантов от шести районов Москвы вливались в Красную площадь одновременно»[483]. В архитектуре, манерах, городском дизайне и в общественных обрядах заметно преобладал акцент на видимом, рациональном и дисциплинирующем внешнем фасаде[484]. Стайтс предполагает, что существует обратное отношение между этой внешней видимостью порядка и цели и анархией, которая на самом деле правила обществом: «Как и всегда бывает с утопиями, организаторы описали свой проект в рациональных, соразмерных терминах, математическим языком планирования, контрольных цифр, статистики, планов и точных команд. Как и в случае военных поселений, которым этот утопический план смутно подражал, его рациональный фасад прикрывал океаны нищеты, беспорядка, хаоса, коррупции и причудливости форм, которые он принес»[485].
Возможно, смысл утверждения Стайтса состоит в том, что при некоторых обстоятельствах то, что я называю миниатюризацией порядка, занимает место реальности. Фасад, эта маленькая, легко управляемая область порядка и подчинения, может превратиться в самоцель, внешняя сторона может выступать как представитель всей действительности. Конечно, миниатюризация и эксперименты в малом масштабе имеют важное значение в изучении больших явлений. Авиационные модели, построенные пропорционально размерам объекта и турбулентности потоков, — важные этапы проектирования новых самолетов. Но когда эти две стороны перепутаны — когда, скажем, генерал путает парадный плац с полем битвы, — последствия непременно бедственны.
Советско-американский фетиш: индустриальное сельское хозяйство
До обсуждения теории и практики советской коллективизации следует признать, что модернизация сельского хозяйства в огромном, даже национальном масштабе была частью убеждений, которые разделяли социальные инженеры и сельскохозяйственные проектировщики во всем мире[486]. Они были убеждены в том, что воплощают общее стремление к этой цели. Подобно CIAM, они поддерживали контакты друг с другом с помощью журналов, на профессиональных конференциях и выставках. Самые крепкие связи, полностью не утерянные даже во время «холодной войны», были между американскими агрономами и их российскими коллегами. Они работали в совершенно различных политических и экономических условиях, при этом русские завидовали американскому уровню капиталовложений, особенно в области механизации хозяйств, а американцы — политическим возможностям советского планирования. Степень их сотрудничества в создании нового проекта крупномасштабного рационального индустриального сельского хозяйства можно оценить следующим кратким перечислением их взаимодействий.
Высокий накал энтузиазма в связи с применением индустриальных методов в сельском хозяйстве Соединенных Штатов наблюдался примерно с 1910 по конец 1930-х годов. Основными приверженцами их были молодые сельскохозяйственные специалисты, находившиеся под влиянием тех или иных течений их прародительской дисциплины — промышленной инженерии, а более конкретно — под влиянием доктрины Фредерика Тейлора, проповедующего повременное изучение производственных операций. Тейлоровские принципы научной оценки физического труда, имеющие целью свести его к простым, повторяющимся операциям, которым мог быстро научиться даже неквалифицированный рабочий, могли быть достаточно успешны на фабрике, но их приспособление к разнообразным и изменяющимся требованиям сельского хозяйства было сомнительно[487]. Поэтому сельскохозяйственные инженеры, пересмотрев понятие сельского хозяйства как «фабрики продовольствия и волокна», и обратились к тем сторонам хозяйственной деятельности, которые было легче регламентировать[488]. Они пытались более рационально расположить корпуса ферм, стандартизировать механизмы и инструменты и механизировать обработку основных культур.
Профессиональное чутье сельскохозяйственных специалистов привело их к попытке скопировать, насколько это было возможно, черты современной фабрики. Это побудило их настаивать на увеличении размеров типичного хозяйства, так, чтобы можно было организовать массовое производство стандартной сельскохозяйственной продукции, механизировать свои операции и тем самым, как предполагалось, значительно уменьшить стоимость единицы продукции[489].
Как мы увидим далее, промышленная модель применима не ко всему сельскому хозяйству в целом, а только к некоторым его видам, тем не менее она применялась без исключения ко всему — как вера, а не как научная гипотеза, которую надо подвергнуть критическому рассмотрению. В ведущем секторе промышленности все определяло модернистское доверие к внушительным масштабам централизации производства, стандартизированной массовой продукции и механизации, и казалось, что те же принципы сработают не хуже и в сельском хозяйстве. Много сил пришлось приложить, чтобы проверить это убеждение на практике. Возможно, самым смелым оказалось хозяйство Томаса Кемпбелла в штате Монтана, начатое — или, лучше сказать, основанное — в 1918 г.[490] Оно было индустриальным в нескольких аспектах. При продаже акций хозяйства акционерное общество рекламировало его как «индустриальное чудо», два миллиона долларов с населения помог собрать финансист Дж. П. Морган. Это гигантское хозяйство по производству пшеницы в штате Монтана занимало девяносто пять акров земли, большая часть которой арендовалась у четырех местных индейских племен. Несмотря на частную инвестицию предприятие никогда не получило бы землю без помощи и субсидий от Министерства внутренних дел и от Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки (USDA).
Объявив, что ведение такого хозяйства приблизительно на 90% является инженерным делом и только на 10% — собственно сельским хозяйством, Кемпбелл приступил к стандартизации как можно большего числа операций. Он вырастил пшеницу и лен, две выносливые культуры, нуждающиеся только в небольшом уходе между посадкой и урожаем[491]. Земля в его ведении была сельскохозяйственным аналогом выглаженного бульдозером участка под Бразилиа. Эта естественно изобильная девственная почва не нуждалась в удобрениях. Топография также не ставила лишних препятствий: местность была плоской, без лесов, ручьев, каменьев, которые могли препятствовать плавному ходу машин по ее поверхности. Другими словами, выбор самых простых, наиболее стандартизируемых культур и аренда очень подходящего сельскохозяйственного участка были засчитаны в пользу применения индустриальных методов. В первый год Кемпбелл купил тридцать три трактора, сорок сноповязалок, десять молотилок, четыре комбайна и сто вагонов, большую часть года в хозяйстве работали приблизительно пятьдесят человек, а в страду он нанимал еще две сотни[492].
Здесь не место для хроники накопления состояния корпорации сельского хозяйства штата Монтана — во всяком случае, Дебора Фицджеральд уже блестяще выполнила эту работу[493]. Достаточно отметить, что засуха на втором году и прекращение государственной финансовой поддержки в последующий год привели к кризису, стоившему Моргану миллион долларов. Помимо погоды и цен перед хозяйством Кемпбелла стояли и другие проблемы: различия в почве, текучесть рабочей силы, недостаток квалифицированных изобретательных работников, не нуждающихся в особом руководстве. Хотя корпорация и просуществовала до смерти Кемпбелла в 1966 г., она не доказала, что индустриальные хозяйства превосходят семейные по эффективности и прибыльности. Индустриальные хозяйства действительно имели достоинства по сравнению с мелкими, но они были другого плана. Их огромный размер давал им преимущества в доступе к кредиту, политическому влиянию (относительные налоги, дополнительная материальная поддержка и предотвращение лишения прав в случае просрочки платежей), маркетинге. Потери в квалификации работников и качестве труда восполнялись значительной политической и экономической помощью.
В 1920-х и 1930-х годах было организовано довольно много крупных индустриальных ферм, которые управлялись по научным принципам[494]. Некоторые из них стали пасынками экономической депрессии, оставившей банкам и страховым компаниям много хозяйств, которые они не могли продать. «Цепочки ферм», содержавшие шесть сотен хозяйств со вспомогательными службами, каждое из которых занимается одним видом деятельности (одно, скажем, опоросом свиноматок, другое — их вскармливанием, а в условиях современного «контрактного хозяйства» — и птицеводством), были весьма обычны, и покупка их была рискованным вложением капитала[495]. Они оказались не более конкурентоспособными с семейными хозяйствами, чем корпорация Кемпбелла. К, слову сказать, в них было столько вложено, что, учитывая их высокие фиксированные затраты в платежных ведомостях и процент на капитал, эти хозяйства становились уязвимыми при неблагоприятных кредитных условиях и более низких продажных ценах на тех территориях, где они были расположены. А семейная ферма могла потуже затянуть пояс или использовать другие крайние меры для выживания.
Наиболее поразительным для примирения американской мелкособственнической системы с гигантскими по масштабам хозяйствами и научным централизованным управлением было предложение Мордехая Езекиэла и Шермана Джонсонав 1930 г. Они выдвинули идею «национальной корпорации сельского хозяйства», которая объединит все фермы по вертикали, чтобы стать «способной развозить сельскохозяйственное сырье по всем индивидуальным хозяйствам страны, устанавливать цели производства и нормы, распределять машины, рабочую силу и капиталовложения и перевозить продукцию хозяйств из одного региона в другой для обработки и использования. Обладая поразительным подобием индустриальному миру, этот организационный план предлагал своего рода гигантскую конвейерную ленту»[496]. Езекиэл, без сомнения, находился под впечатлением своей недавней поездки по российским колхозам, которые, как и вся российская экономика, были поражены депрессией. Джонсон и Езекиэл были практически единственными в своем призыве к централизованному индустриальному и широкомасштабному сельскому хозяйству, что объяснялось не экономическим кризисом, а их уверенностью в неизбежности высокомодернистского будущего. Довольно показательно следующее выражение этой веры: «Коллективизация стоит на повестке дня истории и экономики. С позиции политики мелкий фермер или крестьянин является тормозом прогресса. Формально он так же отошел в прошлое, как и механики-кустари, которые когда-то собирали автомобили вручную в небольших деревянных сараях. Русские первыми ясно поняли это и приспособились к исторической необходимости»[497].
За этими восхищенными ссылками на Россию было меньше политической идеологии и больше разделяемой веры в высокий модернизм. Эту веру укрепляла и импровизированная высокомодернистская обменная программа. Многие российские агрономы и инженеры приехали в Соединенные Штаты, которые они считали Меккой индустриального сельского хозяйства. Их образовательное путешествие по американским хозяйствам почти всегда включало посещение сельскохозяйственной корпорации Кемпбелла и встречи с Уилсоном, который в 1928 г. возглавлял факультет сельскохозяйственной экономики в государственном университете штата Монтана, а позже стал высокопоставленным чиновником в Министерстве сельского хозяйства при Генри Уоллесе. Русские были так восхищены хозяйством Кемпбелла, что обещали предоставить ему миллион акров земли, чтобы он в Советском Союзе продемонстрировал свои методы ведения сельского хозяйства[498].
Не менее оживленным было движение и в обратном направлении. Советский Союз приглашал американских специалистов для оказания помощи в разработке различных отраслей советского индустриального производства, включая производство тракторов и другой сельскохозяйственной техники. К 1927 г. Советский Союз уже закупил 27 тыс. американских тракторов. Многие из американских визитеров, как Езекиэл, восхищались советскими совхозами, которые к 1930 г. создавали впечатление возможности крупномасштабной коллективизации сельского хозяйства. Американцев впечатляли не только размеры совхозов, но и тот факт, что технические специалисты — агрономы, экономисты, инженеры, статистики — казалось, развивали российское производство по рациональным и эгалитарным направлениям. Обвал рыночной экономики на Западе в 1930 г. укрепил привлекательность советского эксперимента. Гости, проехавшие по разным направлениям Россию, вернулись в свою страну, полагая, что увидели будущее[499].
Как доказывают Дебора Фицджеральд и Льюис Файер, привлекательность коллективизации для американских сельскохозяйственных модернистов имела мало общего с марксистской верой или привлекательностью самого советского образа жизни[500]. «Она объяснялась тем, что советская идея выращивать пшеницу в индустриальных масштабах и индустриальным способом была аналогична американским предложениям о том, какое направление следует выбрать американскому сельскому хозяйству»[501]. Советская коллективизация продемонстрировала американским наблюдателям огромный проект, лишенный политических неудобств из-за американских демократических учреждений, «т.е. американцы рассматривали гигантские советские хозяйства как огромные экспериментальные станции, с помощью которых можно было испытать большинство радикальных идей увеличения сельскохозяйственного производства, особенно пшеницы. Многие стороны дела, о которых им хотелось узнать больше, просто не могли быть опробованы в Америке частично потому, что это слишком дорого стоило, частично потому, что у них не было в распоряжении фермерского участка подходящего размера, а частично потому, что многие фермеры и хозяйства были бы обеспокоены смыслом этого экспериментирования»[502]. Надежда была на то, что советский эксперимент будет значить для американской индустриальной агрономии приблизительно то же, что значил проект управления ресурсами долины Теннеси для американского регионального планирования: испытательный полигон и возможная модель для выбора.
Хотя Кемпбелл не принял советского предложения создать обширное демонстрационное хозяйство, другие сделали это. М.Л. Уилсону, Гаролду Уэйру (который имел большой опыт работы в Советском Союзе) и Ги Риджину было предложено спланировать огромное механизированное хозяйство, специализирующееся на пшенице и располагающееся приблизительно на 500 тыс. акрах целинной земли. Уилсон писал своему другу, что это было бы самое большое механизированное хозяйство по производству пшеницы в мире. В гостиничном номере Чикаго за две недели 1928 г. они распланировали все: расположение хозяйства, рабочую силу, потребность в машинах, севооборот и жестко регламентированный график работы[503]. Тот факт, что, по их мнению, такое хозяйство могло быть запланировано в чикагском гостиничном номере, подчеркивает их основное допущение абстрактных ключевых решений и свободных от контекста технических взаимосвязей. Фицджеральд проницательно объяснила это: «Даже в США эти планы были бы слишком оптимистичными, поскольку они основаны на нереалистической идеализации природы и человеческого поведения. И поскольку планы показывали, что делали бы американцы, имей они миллионы акров ровной земли, много разнорабочих и обязательство правительства не жалеть расходов для поддержания целей производства, планы были предназначены для какого-то абстрактного теоретического места. Это сельскохозяйственное пространство, которое не было ни Америкой, ни Россией, ни каким-то другим реально существующим местоположением, повиновалось только законам физики и химии, не признавая никаких политических или экономических зависимостей»[504].
Гигантский совхоз, носящий имя «Верблюд», основанный ими около Ростова-на-Дону, на расстоянии тысячи миль к югу от Москвы, занимал 375 тыс. акров земли, которые предполагалось засеять пшеницей. Как экономический эксперимент этот совхоз оказался горьким провалом, хотя в первые годы он действительно производил огромные количества пшеницы. Причины подобной неудачи представляют для нас меньший интерес, чем тот факт, что большинство этих причин можно свести к понятию контекста — конкретной ситуации данного хозяйства, с которой оно не совладало. Хозяйство в отличие от составленного плана не было гипотетическим, абстрактным, вымышленным, а оказалось непредсказуемым, сложным и своеобразным, с собственной уникальной комбинацией почв, социальной структурой, административной культурой, погодой, политическими ограничениями, механизмами, дорогами, а также навыками работы и привычками его служащих. Как мы увидим, по типу провала это напоминало Бразилиа, типичный пример амбициозных высокомодернистских схем, для которых местное знание, практика и ситуация рассматриваются как несущественные или в лучшем случае раздражающие препятствия, которые следует обойти.
Коллективизация в советской России
Здесь, Федор Федорович, ведь не механизм лежит, здесь люди живут, их не наладишь, пока они сами не устроятся. Я раньше думал, что революция — паровоз, а теперь вижу, нет...
Андрей Платонов. Чевенгур
Коллективизация советского сельского хозяйства была чрезвычайным, но показательным примером авторитарного высокомодернистского планирования. Она представляла собой беспрецедентное преобразование сельской жизни и производства, навязанное грубой силой, находящейся в распоряжении властей. Кроме того, чиновники, руководившие этим обширным преобразованием, ничего не знали об экологических, социальных и экономических условиях, что и подписало приговор сельской экономике. Они мчались вслепую.
Между 1930 и 1934 гг. советское правительство фактически вело войну в сельской местности. Сталин, поняв, что не может положиться на местные Советы в «ликвидации кулака» и коллективизации, послал в деревню 25 тыс. проверенных в сражениях городских коммунистов и пролетариев, имеющих полномочия реквизировать зерно, арестовывать сопротивляющихся и коллективизировать. Он был убежден, что крестьянство старалось подорвать основы Советского государства. В ответ на персональное письмо от Михаила Шолохова (автора «Тихого Дона»), тревожно сообщавшего о том, что крестьяне на Дону находятся на грани голодания, Сталин ответил: «Уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего) провели «итальянскую забастовку» (итальянку), саботаж! Пытались сорвать поставку хлеба в города и Красную Армию. То, что саботаж был тихим и внешне безобидным (без кровопролития) не меняет того факта, что уважаемые хлеборобы вели по существу «молчаливую» войну против Советской власти. Войну голода, дорогой товарищ Шолохов»[505].
Число людей, потерянных в той войне, до сих пор остается предметом дискуссий, но, бесспорно, потери были ужасны. Как указывают некоторые современные российские источники, приблизительная оценка одних только списков убитых в результате «раскулачивания» и кампаний по коллективизации, а также умерших от последовавшего голода «по самым скромным оценкам» дает от 3 до 4 млн, а на самом деле — более 20 млн человек. Оценки были бы еще выше, если бы стал доступным какой-нибудь документ, заслуживающий большего доверия, что-нибудь вроде нового архивного материала. Число смертей показывает, что уровень социального разрушения и насилия превышает тот, который был в Гражданскую войну, следовавшую непосредственно за революцией. Миллионы людей бежали в города или к границе, был значительно расширен позорный Гулаг, в сельской местности бушевали открытый бунт и голод, и более половины всего имевшегося в стране домашнего скота и тягловой силы было вырезано[506].
К 1934 г. государство «выиграло» войну с крестьянством. Если когда-либо победа в войне и заслуживала по праву определение «пирровой», то как раз эта. Совхозы (государственные хозяйства) и колхозы (коллективные хозяйства) потерпели неудачу в выполнении всех конкретных задач, поставленных Лениным, Троцким, Сталиным и большинством большевиков. Они провалили задачи подъема уровня производства зерна и создания изобилия дешевых пищевых продуктов для городских промышленных рабочих. Они не сумели стать технически эффективными и творчески работающими хозяйствами, о которых мечтал Ленин. Даже в сфере электрификации, ленинском критерии обновления, только один из 25 колхозов имел электричество накануне Второй мировой войны. Коллективизация сельского хозяйства никоим образом не создала «новых людей» в сельской местности и не уничтожила культурного различия между селом и городом. В течение следующих 50 лет урожаи многих культур с гектара были застойными или фактически ниже уровней, зарегистрированных в 1920-х годах или даже перед революцией[507].
На некотором другом уровне коллективизация, странным образом сплачивая государство, была определенным успехом. Она предоставила грубый инструмент для достижения двойной цели традиционной государственной власти: управления и политического контроля. Хотя, возможно, советский колхоз и потерпел неудачу в производстве большого количества пищевых продуктов, зато он служил прекрасным средством, с помощью которого государство могло указывать, что сеять, как оплачивать работы селян, находить сбыт любому количеству производимого зерна и держать в политическом повиновении сельских жителей[508].
Большим достижением советского государства — если только это можно так назвать — в сельскохозяйственном секторе, прежде особенно неблагоприятном для регулирования и управления, была разработка социального и экономического ландшафта и создание на нем институциональных форм и производственных единиц, более приспособленных для контроля, управления и руководства сверху. В сельском обществе, которое унаследовало (и какое-то время поощряло) советское государство, приспешники царизма, крупные землевладельцы и чиновники-аристократы были уничтожены и заменены мелкими землевладельцами, зажиточными крестьянами, ремесленниками, частными торговцами, а также мобильными разнорабочими и деклассированными элементами[509]. Подобно ученым-лесоводам, большевики, поставленные перед лицом шумного, свободного и «безначального» сельского общества, трудноуправляемого и политически малоактивного, приступили к переделке своего окружения, преследуя несколько простых целей. На унаследованном пространстве они создавали новый ландшафт больших иерархических управляемых государством хозяйств, которым указывалось сверху, из центра, что сеять, спускались нормы поставок оборудования, население которых по закону было лишено мобильности. Изобретенная система прослужила почти 60 лет, постоянно затрачивая огромные средства на воспроизведение застоя, деморализации и экологической катастрофы.
Все это время коллективизированное сельское хозяйство было менее обязано государственному плану, чем импровизациям, теневым рынкам, бартеру и изобретательности, которые частично компенсировали его неудачи. Точно так же, как «неофициальная Бразилиа», не обозначенная в официальных планах, появилась и сделала город жизнеспособным, в советской России появился набор неформальных методов, находящихся вне официальной командной экономики, а часто и вне советского законодательства, чтобы обойти часть колоссальных затрат и свойственной системе халатности. Другими словами, коллективизированное сельское хозяйство никогда не работало по сетке своих производственных планов и поставок.
Из нашего краткого отчета, кажется, ясно, что коллективизация сама по себе не была всецело делом Сталина, хотя он и несет ответственность за ее исключительную стремительность и жестокость[510]. Коллективизированное сельское хозяйство всегда было неотъемлемой частью большевистского плана будущего, и большая битва за ее претворение в жизнь в конце 1920-х годов вряд ли могла иметь какой-нибудь другой результат в свете решения неотступно следовать принудительному проекту индустриализации. Партийная высокомодернистская вера в большие коллективистские системы долго еще продолжала существовать после безрассудных импровизаций начала 1930-х годов. Эта вера, претендующая на собственную эстетику и научность, отчетливо прослеживается в еще одной сельскохозяйственной высокомодернистской фантазии: в хрущевском плане освоения целинных земель, начатом много позже смерти Сталина и после публичного осуждения его преступлений в период коллективизации. Удивительно, как долго продержались эта вера и эти структуры, несмотря на очевидность их многочисленных неудач.
Первый раунд: большевистское государство и крестьянство
Иногда мне кажется, что, если бы я мог убедить каждого говорить «приводить в порядок» каждый раз, когда он хочет употребить слово «освободить», и «мобилизация» вместо слов «реформа» или «прогресс», мне бы не пришлось писать пространные книги о взаимодействии правительства и крестьян в России.
Джордж Йени. Принуждение к мобилизации
В своей обстоятельной книге Йени писал о дореволюционной России, но то же самое он мог бы написать и о большевистском государстве. До 1930 г. в ленинской и царской аграрной политике было больше сходства, чем различия. Та же вера в реформу сверху и в большие механизированные фермы, открывающие путь к продуктивному сельскому хозяйству. И увы, тот же самый весьма высокий уровень невежества относительно сельской экономики во всей ее сложности, доводящий власть до рейдов в сельскую местности для захвата зерна силой. Хотя эти черты сходства продолжали существовать даже после социальной ломки 1930-х годов, новым в движении к коллективизации была готовность революционного государства полностью переделать социальный ландшафт в аграрном секторе, чего бы это ни стоило.
Сельское общество большевистского государства оказалось более скрытным, сопротивляющимся, автономным и враждебным, чем то, с которым сталкивалась царская бюрократия. Если царские чиновники провоцировали открытое неповиновение и уклонение своими «жестокими методами московитов, собирающих дань» в течение Первой мировой войны[511] то были веские причины ожидать, что большевикам будет еще тяжелее в сельской местности при насильственном отборе зерна.
Сельская местность была враждебна большевикам, это факт, но эти чувства были более чем взаимны. Для Ленина, как мы видели, Декрет о земле, дарующий крестьянам землю, которую они и так захватили, был стратегическим маневром, чтобы купить спокойствие в сельской местности на период укрепления власти; он не сомневался, что мелкая крестьянская собственность в конце концов должна быть отменена в пользу больших коллективных хозяйств. Троцкий же считал, что чем скорее будет преобразовано и «урбанизировано» то, что он называл «Россией икон и тараканов», тем лучше. И для многих рядовых большевиков, лишь недавно ставших городскими, упразднение «темного и отсталого мира крестьянина» было «существенной частью их рождающейся личной причастности к рабочему классу»[512].
Крестьянство фактически было terra incognita для большевиков. Во время революции по всей России партия насчитывала всего 494 члена из «крестьян» (возможно, большинство из них представляла сельская интеллигенция)[513]. Большинство сельских жителей никогда не видели большевиков, хотя они могли быть хорошо наслышаны о декрете, подтверждающем собственность крестьянина на землю, которая и так была им захвачена. Единственной партией, имевшей приверженцев на селе, была партия социалистов-революционеров, благодаря своим популистским корням критиковавших ленинские авторитарные взгляды.
Под влиянием революционного процесса сельское общество стало более скрытным, а следовательно, и труднее поддающимся налогообложению. Уже прошел стремительный захват земли, ретроспективно названный «земельной реформой». После провала наступления в Австрии во время войны и последовавшего массового дезертирства большая часть земель мелкопоместного дворянства и церкви, как и «царской земли», фактически была захвачена крестьянством. У богатых крестьян, ведущих независимое хозяйство («хуторяне» столыпинской реформы), обычно насильно урезали землю до средних деревенских норм, и вообще сельское общество подверглось радикальному уплотнению. Самые богатые были выселены, и многие из бедноты впервые в своей жизни стали мелкими собственниками. Согласно одним данным, число безземельных сельских разнорабочих в России понизилось наполовину, а собственность крестьян в среднем повысилась на 20% (на Украине — на 100%). В итоге 248 млн акров земли крупных и мелких землевладельцев было конфисковано, почти всегда по местной инициативе, и отдано в крестьянскую собственность, которая теперь в среднем составляла около 70 акров на хозяйство[514].
С точки зрения чиновника — налогового или военного на призывном пункте — ситуация была почти непостижима. В каждой деревне разительно изменился статус землевладения. Предшествующие отчеты о землевладении, если они вообще существовали, были полностью непригодны в качестве руководства. Каждая деревня была во многих отношениях своеобразна, и, даже если ее и можно было в принципе сейчас «нанести на карту», мобильность населения и суматоха военного времени всегда почти гарантировали, что через полгода или даже раньше карта придет в негодность. Следовательно, сочетание мелкой земельной собственности, общественного землевладения и постоянных изменений, пространственных и временных, создавали непреодолимый барьер для любой, даже прекрасно отлаженной налоговой системы.
Еще два последствия революции в сельской местности доставляли трудности государственным чиновникам. Перед 1917 г. большие крестьянские хозяйства и крупные землевладельцы производили почти три четверти зерна, поступающего в продажу для внутреннего использования и на экспорт. Именно этот сектор экономики кормил города. Теперь его не было. Большое число оставшихся земледельцев большую часть своего урожая потребляли сами. Оставшуюся часть обычно не отдавали без борьбы. Новое, более равномерное распределение земли означало, что попытка изымать что-либо вроде царского «оброка» приведет большевиков к конфликту с мелкими и средними крестьянами[515].
Вторым и, возможно, решающим последствием революции было усиление решимости и способности крестьянских общин противостоять государству. Каждая революция создает временный вакуум власти, когда власть предыдущего режима разрушена, а революционный режим еще не утвердился по всей территории. Поскольку большевики были в основном горожанами и вели продолжительную войну, вакуум власти в большинстве сельских районов был заполнен необычным образом. Орландо Фиджес напоминает, что впервые деревни, хоть и в стесненных обстоятельствах, были свободны в устройстве своих дел[516]. Как мы уже знаем, сельские жители обычно силой выгоняли или поджигали мелкопоместное дворянство, захватывали землю (включая права обобществлять землю и леса) и насильно удерживали единоличников в коммунах. Деревни вели себя как автономные республики, хорошо относившиеся к красным, пока те утверждали местную «революцию», но стойко сопротивлявшиеся вооруженному сбору зерна, домашнего скота или мужчин, годных для военной службы. В этой ситуации крестьяне воспринимали неоперившееся большевистское государство (которое предъявлялось, как оно это часто делало, вооруженным грабежом) как колонизатора, угрожающего их недавно полученной автономии, ведущего войну за сельскую местность.
При политической атмосфере, существовавшей в сельской России того времени, даже правительство, имеющее детальную информацию о сельскохозяйственной экономике, поддержку на местах и сноровку в дипломатии, испытало бы большие трудности. Большевикам же недоставало всех этих трех условий. Налоговая система, основанная на доходе или состоянии, была возможна только при наличии имеющей силу кадастровой карты и современной переписи, но ни одного из этих документов не существовало. Кроме того, доход хозяйства, зависящий от урожая и цен, сильно различался от года к году, поэтому любой налог с дохода должен был быть исключительно чувствительным к этим условиям. Помимо того, новому государству было необходимо эффективное руководство — кадры, так как царский государственный аппарат из местных чиновников, дворянства и специалистов в финансах и агрономии, которые все же справлялись со сбором налогов и зерна в период войны, хоть и в недостаточном объеме, оказался в значительной степени разрушенным. Прежде всего большевикам не хватало местных деревенских информаторов, которые могли бы помочь им найти дорогу во враждебном и непонятном окружении. Сельские Советы, которые, как предполагалось, будут играть эту роль, обычно возглавляли крестьяне, больше верные местным интересам, чем центру. Альтернативный орган — комитет сельской бедноты (комбед), представляющий сельский пролетариат в местных классовых битвах, — или был безоговорочно на стороне жителей, или втягивался в частые яростные конфликты с сельским Советом[517].
Непостижимость сельского мира для многих большевистских чиновников была результатом не просто их городского социального происхождения и сложности ситуации в деревне, но и осознанной местной политикой, проверенной в более ранних конфликтах деревни с мелкопоместным дворянством и государством. Местная община издавна уменьшала в отчетах пахотную землю и приписывала население, чтобы представить себя бедной и неспособной платить налоги настолько, насколько это было возможно[518]. В результате такого обмана в переписи 1917 г. площади пахотной земли в России было скрыто примерно на 15%. В дополнение к лесной земле, пастбищам и целине, которые крестьяне распахали ранее под зерновые, не отчитываясь о ней, теперь они были сильно заинтересованы в том, чтобы скрыть большую часть земли, которую они только что отобрали у помещиков и дворянства. Сельские Советы, конечно же, вели записи передаваемых в собственность участков земли, организуя общественные бригады по вспашке, распределяя пастбища и т. д., но ни одна из этих ведомостей не была доступна ни чиновникам, ни комбеду. Популярное высказывание того времени прекрасно отражало ситуацию: крестьянин «приобретал землю по декрету» (т. е. по Декрету о земле), но «жил тайно».
Как же государство в столь трудном положении находило дорогу в этом лабиринте? Где было возможно, большевики старались организовать крупные государственные или коллективные хозяйства. Многие из них были просто «потемкинскими колхозами», предназначенными для того, чтобы придать видимость законности существующим методам. Там же, где не было жульничества, такие хозяйства показали политическую и административную привлекательность радикального упрощения землевладения и налогооблагаемой единицы в сельской местности. Вывод Йенио логичности такого хода дел абсолютно точен:
С технической точки зрения намного легче было пахать большие площади земли, не обращая внимания на индивидуальные различия, чем закреплять участок за каждой семьей, измерять ее площадь традиционным крестьянским способом и затем с трудом перекраивать разрозненные полосы в объединенную землю хозяйства. К тому же столичный администратор предпочитал контролировать и облагать налогами большие производственные единицы и не хотел иметь дело с отдельными фермерами... Коллективные хозяйства имели двойную привлекательность для истовых аграрных реформаторов. Они представляли социальный идеал для риторических целей и в то же самое время, казалось, упрощали технические проблемы земельной реформы и государственного контроля[519].
В сумятице 1917—1921 гг. удалось провести немного подобных аграрных экспериментов, но все они потерпели горькую неудачу. Однако все это было пустяком в сравнении с кампанией всеобщей коллективизации, проведенной десятилетием позже.
Не сумев переустроить деревенский уклад, большевики обратились к тем же методам принудительного сбора дани, которыми пользовались их царские предшественники во время войны. Однако термин «военное положение» все-таки выражает подчинение каким-то законам, что напрочь отсутствовало в существовавшей практике. Вооруженные банды (отряды) — некоторые имеющие полномочия, а другие сформировавшиеся спонтанно из числа голодных горожан — грабили сельскую местность в период хлебного кризиса весной и летом 1918 г., выгребая все, что можно. Установленные чисто формально нормы поставок зерна, представлявшие собой «механические бухгалтерские цифры, порожденные ненадежной оценкой пашни и предположениями о хорошем урожае», с самого начала были «вымышленными и невыполнимыми»[520]. Сбор зерна скорее напоминал грабеж и воровство, чем покупку и доставку. По одной из оценок, эта ситуация породила более чем 150 отдельных бунтов против конфискации зерна государством. С тех пор, как большевики в марте 1918 г. переименовали себя в коммунистическую партию, многие мятежники заявляли, что они за большевиков и Советы (их они связывали с Декретом о земле) и против коммунистов. Ленин, упоминая крестьянские восстания в Тамбове, на Волге и на Украине, заявил, что они представляли собой большую угрозу, чем все белые, взятые вместе. Отчаянное крестьянское сопротивление выкашивало голодом города[521], и в начале 1921 г. партия впервые обратила оружие против восставших моряков и рабочих Кронштадта. С этого момента осажденная партия объявила тактическое отступление, отказавшись от политики «военного коммунизма», и начала проводить новую экономическую политику (нэп), поощрявшую свободную торговлю и мелкую собственность. Фиджес отмечает, что «победив белую армию, поддержанную восемью западными державами, большевистское правительство капитулировало перед собственными крестьянами»[522]. Это была победа голода. Количество смертей от голода и эпидемий в 1921—1922 гг. почти сравнялось с общими потерями в Первой мировой и Гражданской войне, вместе взятыми.
Второй раунд: высокий модернизм и поставки
Сочетание высокомодернистской веры в то, как должно выглядеть сельское хозяйство в будущем, и более чем внезапного кризиса государственной формы присвоения подтолкнуло большевиков к политике развернутого и решительного наступления коллективизации зимой 1929—1930 гг. Сосредоточившись на этих двух вопросах, мы вынуждены оставить другие (а их множество) захватывающие проблемы: человеческие потери в коллективизацию, борьбу с «правой» оппозицией во главе с Бухариным, и вопрос о том, намеревался ли Сталин ликвидировать украинцев и украинскую культуру.
Нет сомнений, что Сталин разделял ленинскую веру в индустриальное сельское хозяйство. Цель коллективизации, как он сказал в мае 1928 г., была в «переходе от мелких, отсталых и разрозненных крестьянских хозяйств к объединенным, большим общественным хозяйствам, обеспеченным машинами, оснащенным научными данными и способным произвести большее количество зерна для рынка»[523].
В 1921 г. эта мечта была отложена. Существовала некоторая надежда, что постепенно расширяющийся государственный сектор в 1920-х годах сможет обеспечить почти треть потребности зерна для страны. Вместо этого коллективизированный сектор (как государственные хозяйства, так и коллективные), поглощавший 10% рабочей силы, производил удручающие 2,2% валового продукта[524]. Когда Сталин решился на программу индустриализации, потерпевшую впоследствии крах, было ясно, что существующий социалистический сельскохозяйственный сектор не может обеспечить ни быстро увеличивающихся в числе городских рабочих продовольствием, ни страну зерновым экспортом, необходимым для финансирования импортируемой технологии для индустриального развития. Середняки же и зажиточные крестьяне, многие из которых впервые разбогатели в период новой экономической политики, имели зерно, в котором так нуждался Сталин.
Начиная с 1928 г. официальная политика реквизиций ввергла государство в противоборство с крестьянством. Спущенная сверху оптовая цена на зерно составляла одну пятую от рыночной, а поскольку сопротивление крестьян было упорно, власти вернулись к использованию полицейских методов[525]. Когда поставки зерна стали нерегулярными, те, кто отказывался сдать требуемое (и кто вместе с противостоящими коллективизации были названы кулаками, независимо от их экономического положения), были арестованы и высланы или уничтожены, а все принадлежавшее им зерно, инвентарь, земля, домашний скот проданы. В приказах ответственных за поставку зерна оговаривалось, что следует устраивать собрания бедных крестьян, чтобы показать, будто инициатива шла снизу. Принятое в конце 1929 г. решение проводить силой «тотальную» (сплошную) коллективизацию было логическим следствием войны за зерно, а не тщательно спланированной политической инициативой. Исследователи единодушны в одном: наиважнейшей целью коллективизации было обеспечить конфискацию зерна. Фицпатрик начинает свою научную работу о коллективных хозяйствах следующим утверждением: «Главная цель коллективизации состояла в увеличении государственных поставок зерна и уменьшении способности крестьянства придерживать зерно от сбыта на рынке. Крестьянам с самого начала была очевидна эта цель, так что наступление коллективизации зимой 1930 г. стало кульминационным моментом в более чем двухгодичной ожесточенной борьбе за зерновые поставки между крестьянством и государством»[526]. Мнение Роберта Конкеста совпадает с этим: «Коллективные хозяйства по существу были механизмом, разработанным для извлечения зерна и других продуктов»[527].
Большинство крестьян, судя по их решительному сопротивлению и, насколько нам известно, по их взглядам, видело это в том же свете. Конфискация зерна угрожала их существованию. Изображенный в романе Андрея Платонова о коллективизации крестьянин понимает, что конфискация зерна отрицает предшествующую земельную реформу: «Это — хитрое дело. Сначала вы раздаете землю, потом отбираете зерно вплоть до последнего зернышка. Вы можете удушить на земле подобным образом! У мужика не остается ничего с земли кроме горизонта. Кого вы дурачите?»[528] Безусловно, это было так, потому что крестьянство могло потерять тот небольшой запас социальной и экономической самостоятельности, которого оно добилось с момента революции. Даже беднейшие крестьяне боялись коллективизации, потому что «это повлекло бы за собой отказ от земли и инвентаря, работу вместе с другими семьями по указаниям начальства, не временную, как в армии, а навсегда — это означает казарменное положение на всю жизнь»[529]. Не имея сколько-нибудь значимой поддержки села, Сталин послал 25 тыс. «уполномоченных» (членов партии) из городов и с фабрик, чтобы любой ценой «уничтожить крестьянские коммуны и заменить их коллективной экономикой, подчиняющейся государству»[530].
Авторитарная теория высокого модернизма и практика крепостничества
Если движение к «сплошной» коллективизации непосредственно вдохновлялось стремлением партии раз и навсегда захватить землю и выращенный на ней урожай, то это намерение было пропущено через линзы высокого модернизма. Расходясь во мнениях относительно способов достижения этого, большевики действительно были уверены, что точно знают, как в результате должно выглядеть сельское хозяйство, их понимание было столь же зримым,сколь и научным. Современное сельское хозяйство должно быть крупномасштабным — чем больше, тем лучше, оно должно быть высокомеханизированным и управляться в соответствии с научными тейлористскими принципами. Самое главное, земледельцы должны походить на высококвалифицированный и дисциплинированный пролетариат, а не на крестьянство. Сталин сам, еще до практических неудач, дискредитировавших веру в гигантские проекты, одобрял коллективные хозяйства («фабрики зерна») площадью от 125 тыс. до 250 тыс. акров, как в описанной ранее американской системе[531].
Абстракциям утопической мечты соответствовало во всех отношениях безумное, нереалистическое планирование. При наличии карты, сделав несколько допущений относительно масштаба и условий механизации, специалист мог разработать любой план и осуществить самую поверхностную привязку к местным условиям. Вернувшийся в Москву с Урала сельскохозяйственный чиновник писал в своем докладе в марте 1930 г.: «На инструктировании районного Исполнительного Комитета двенадцать агрономов в течение двадцати дней составляли эксплутационно-производственный план для несуществующей районной коммуны, ни разу не оставив своих кабинетов и не выехав в поле»[532]. Когда еще одно бюрократическое чудовище в Великих Луках на западе страны оказалось слишком громоздким, планировщики просто уменьшили масштаб, ничем больше не пожертвовав в абстрактном творении. Они разделили план в 80 тыс. га на тридцать два равных квадрата по 2500 га каждый, по одному квадрату на колхоз. «Квадраты были отмечены на карте без какой-либо ссылки на существующие деревни, поселения, реки, холмы, болота или какие-то другие демографические и топографические характеристики земли»[533].
Чисто семиотически невозможно понять как изолированный идеологический фрагмент эту модернистскую мечту о сельском хозяйстве. Она всегда видится как отрицание ныне существующего сельского мира. Колхоз означает замену деревни, машины — замену конных плугов и ручного труда, пролетаризированные рабочие — замену крестьян, научное сельское хозяйство — замену народных традиционных методов и суеверий, образование — замену невежества и бескультурья, а изобилие — замену существованию впроголодь. Провозглашение коллективизации означало конец крестьянству и его образу жизни. Установление социалистической экономики повлекло за собой культурную революцию; «темный» народ, крестьяне, который, возможно, представлял собой самую многочисленную, сохранившуюся в прежнем состоянии, трудноустранимую угрозу большевистскому государству, должен был быть заменен разумными, трудолюбивыми, отказавшимися от религии, прогрессивно мыслящими колхозными рабочими[534]. Размах коллективизации был таков, чтобы стереть крестьянство и законы его жизни с лица земли, тем самым уничтожая различие между деревней и городом. В основе всего плана, конечно, лежало предположение, что в централизованной экономике большие коллективные хозяйства будут действовать как заводы, выполняя государственные заказы по зерну и другим сельскохозяйственным продуктам. И, чтобы поставить на этом точку, государство конфисковало примерно 63% всего урожая 1931 г.
С точки зрения центрального планировщика, большое преимущество коллективизации состояло в контроле государства над данными о том, сколько каждой зерновой культуры было посеяно. Зная потребности страны в зерне, мясе, молочных продуктах и т. д., государство теоретически могло закладывать эти нужды в свои инструкции коллективному сектору. Но на практике посевные планы, навязанные сверху, часто были совершенно нереальны. Земельные отделы, занимавшиеся планами, мало знали о культурах, которые они рекомендовали сеять, не имели сведений, необходимых для выращивания их в данном месте, например о местной почве. Однако им приходилось определять нормы, и они делали это с усердием. Когда в 1935 г. А. Яковлев, возглавляющий сельскохозяйственный отдел Центрального Комитета, призывал к управлению коллективными хозяйствами «местные кадры», которые «действительно знали бы свои поля», он имел в виду, что нынешние руководители этого не знали[535]. Мы улавливаем проблески истинной картины бедствий в период больших чисток в 1936—1937 гг., когда кое-какая крестьянская критика колхозных ответственных лиц даже поощрялась, чтобы обнаружить «вредителей». Одному колхозу дали приказ распахать луга и пастбища, без которых колхозники не могли прокормить свой скот. Другой получил указания удвоить площадь, предназначенную для сена, за счет частных участков и неплодородных земель[536].
Планировщики определенно предпочитали монокультурность и доведенное до конца строгое разделение рабочей силы. Все регионы и, конечно, отдельные колхозы, постепенно специализировались, скажем, на пшенице, разведении скота, хлопке или картофеле[537]. Например, один колхоз обычно занимался выращиванием фуража для крупного рогатого скота или свиней, а другой — их разведением. Логика существования таких колхозов и региональной специализации труда была приблизительно та же, что и функциональных городских зон. Специализация сократила количество информации, которое приходилось учитывать агрономам, зато увеличила объем текущей административной работы, а следовательно, власть и информированность центральных должностных лиц.
Осуществление поставок следовало логике централизации. Принимая во внимание в первую очередь потребности плана, а потом оценку урожая, обычно весьма нереальную, механически распределялись планы норм для каждой области, района и колхоза. Нотом каждый колхоз доказывал, что его норма завышена, и просил снизить ее. Из своего горького опыта колхозы знали, что фактическое выполнение плана только поднимало планку на следующем круге поставок. В этом отношении колхозы были в более ненадежном положении, чем промышленные рабочие, которые все же получали заработную плату и продовольственные карточки вне зависимости от того, выполнила фабрика свой план или нет. Для колхозников, однако, выполнение плана могло означать голод. Действительно, большой голод в 1933—1934 гг. можно назвать только голодом коллективизации и поставок. Те же, кто противился коллективизации, затрудняли ее, рисковали навлечь на себя ужасную участь кулаков и врагов народа.
Для большинства крестьян авторитарный трудовой режим колхоза означал не только опасность голодной смерти, но и отмену многих свобод, которые они приобрели со времени освобождения от крепостного права в 1861 г. Они сравнивали коллективизацию с крепостничеством, которое еще помнили старики. Работник одного из первых совхозов выразился следующим образом: «Совхозы вынуждают крестьянина всегда работать; они заставляют крестьян полоть поля. И нам даже не дают хлеба и воды. К чему все это приведет? Это похоже на барщину [феодальная трудовая повинность]»[538]. Крестьяне начали поговаривать, что Всесоюзная коммунистическая партия (ВКП) стояла за второе крепостное право, или «второе крепостничество»[539]. Сравнение не было просто формой речи: сходство с крепостничеством было явное[540]. Членов колхоза обязывали работать на государственной земле по крайней мере половину времени за просто смешную заработную плату, выплачиваемую наличными или как-нибудь по-другому. Они в значительной степени зависели от своих небольших частных участков, где выращивали необходимые продукты (кроме зерна) в оставшееся свободное время[541]. Количественный план поставки и цена за колхозную продукцию устанавливались государством. Колхозники должны были ежегодно вносить налоги за работы по строительству дорог и выплачивать стоимость перевозок. К тому же от них требовалось сдавать установленное количество молока, мяса, яиц и других продуктов со своих личных участков. Чиновники, как феодальные князьки, имели привычку использовать труд колхозников для своих частных дел и, обладая чуть ли не по закону деспотической властью, оскорблять, наказывать или высылать крестьян. Как при крепостном праве, крестьяне были юридически прикреплены к месту. Паспортный режим, пересмотренный в целях очистки городов от «нежелательных и не приносящих пользы жителей», не позволял крестьянам бежать из деревень. Принимались законы, не разрешающие им держать огнестрельное оружие, нужное для охоты. Наконец, в начале 1939 г. колхозников, живущих за пределами деревень (обитателей хуторов), часто на своих старых усадьбах, насильственно заставили переехать в деревни. Это последнее переселение затронуло более полумиллиона крестьян.
В итоге трудовые законы, режим собственности и порядок поселения действительно напоминали нечто среднее между плантацией или поместным сельским хозяйством, с одной стороны, и феодальным рабством, с другой.
В качестве громадного государственного проекта революционного преобразования коллективизация знаменита как тем, что она разрушила, так и тем, что она создала. Первоначальной причиной коллективизации было не только сокрушение сопротивления зажиточных крестьян и захват их земли, но и демонтаж части общества, с помощью которого это сопротивление оказывалось, — сельского мира. В период революции крестьянская коммуна организовывала захваты земель, руководила их использованием, управляла всеми местными делами и сопротивлялась навязанным поставкам[542]. Партия имела все основания полагать, что колхозы, основанные на традиционной деревенской общине, просто усилили бы сопротивление крестьян. Разве деревенские Советы не ускользали от контроля государственных органов? Из этого следовало, что огромные колхозы, которые, как целое, не сохраняли деревенской структуры, получали решительное преимущество. Ими могло руководить правление, состоящее из партийных кадров и специалистов. Тогда в каждом отделении, на которые было разбито хозяйство, специалист мог называться управляющим, «как и в старые времена [при крепостном праве], как сказано в [одном] .. отчете»[543]. В конечном счете, везде, кроме приграничных районов, преобладали практические соображения, и большинство колхозов в границах их земель приблизительно соответствовало ранним крестьянским коммунам.
Однако колхоз был не просто вывеской, под которой пряталась традиционная коммуна. Изменилось почти все. Все основные моменты самостоятельной жизни были устранены. Исчезли трактиры, сельские ярмарки и базары, церковь, местная мельница, а вместо них появились колхозная контора, клуб и школа. Негосударственные общественные места сменили государственные конторы управляющих органов, хотя и местных.
Концентрацию, четкость и централизацию социальной организации и производства можно видеть на карте государственного хозяйства в селе Верхняя Троица, что находится в Тверской области (рис. 28)[544]. Большая часть деревни была вытеснена из центра и перемещена в окрестности (11 на рис. 28)[545]. Около центра были сгруппированы двухэтажные жилые дома, по шестнадцать квартир в каждом (13—15 на рис. 28; см. также рис. 29), а местная администрация и магазин, школа и клуб, все общественные учреждения, управляемые государством, находились близко к центру нового плана. Даже учитывая преувеличенный формализм карты, видно, что жизнь в государственном хозяйстве очень отличается от свободного и автономного существования в деревне до коллективизации; на фотографии прежнего переулка наглядно видна эта резкая разница (см. рис. 30).
Сравнивая эти изменения с перепланировкой Хаусманна физической географии Парижа, предпринятой с целью сделать структуру города более четкой и облегчить государственное управление, следует признать, что большевистский демонтаж сельской России был более тщательным. Вместо темного и упрямого мира они создали колхоз. Вместо многочисленных мелких хозяйств они породили отдельную местную экономическую единицу[546]. С установлением иерархического государственного хозяйства отчасти самостоятельная мелкая буржуазия была заменена подчиненными власти служащими. Вместо сельского хозяйства, где вопросы планирования, сбора урожая и торговли решались индивидуально, партийное государство построило сельскую экономику, где все эти решения принимались централизованно.
Вместо технически независимого крестьянства было создано крестьянство, непосредственно зависящее от государства в поставках комбайнов и тракторов, удобрений и семян. Крестьянские хозяйства, чьи урожаи, доход и прибыль было нелегко определить, сменили подразделения, идеальные для простого и прямого подчинения. Вместо разнообразных общин с их собственными уникальными историями развития и методами ведения хозяйства появились единообразные единицы отчетности, приспособленные для административной сетки в масштабе страны. Предполагаемая логика управления мало чем отличалась от схемы управления в фирме «Макдоналдс»: модульные, одинаково устроенные единицы, производящие одинаковую продукцию по общей технологии и с одним и тем же рабочим режимом. Эти единицы было легко дублировать, не обращая внимания на природные условия, а инспекторы, приезжающие для оценки их деятельности, имеют одну и ту же четкую шкалу оценки, результаты которой заносятся в стандартный бланк.
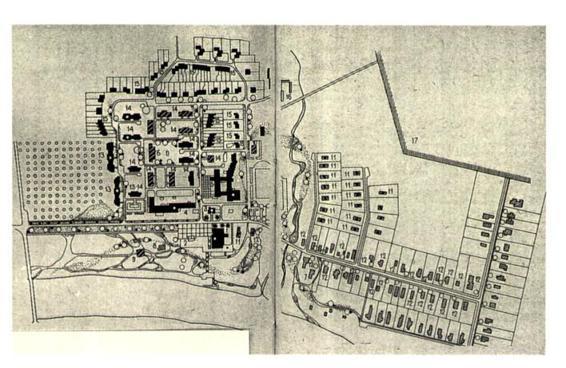


Чтобы более всесторонне оценить эти 60 лет коллективизации, требуются и архивные материалы, только теперь ставшие доступными, и большая компетентность, чем моя. Но даже случайного исследователя коллективизации должно поразить, насколько значительна была неудача реализации каждой из ее высокомодернистских целей, несмотря на огромные инвестиции в машинное оборудование, инфраструктуру и агрономические исследования. Как это ни парадоксально, успехи ее лежали в области традиционного управления государством. Даже борясь с неустойчивостью сельского хозяйства, застойными урожаями и экологическими бедствиями, государство сумело прибрать к рукам достаточное количество зерна, чтобы обеспечить быструю индустриализацию[547]. Ценой больших человеческих жертв государство также смогло устранить социальную основу организованного общественного сопротивления сельского населения. Но тем не менее государство оказалось неспособным реализовать свою мечту о больших, эффективных, научно организованных хозяйствах, производящих высококачественную продукцию для рынка.
Созданные государством колхозы имели некоторое отношение к современному сельскому хозяйству — они представляли его фасад, но без сущности. Хозяйства были высокомеханизированы (по мировым стандартам) и управляемы людьми, имеющими ученые степени в агрономии и технике. Показательные хозяйства действительно достигали больших урожаев, хотя часто при чрезмерных затратах[548]. Но ни одно из них не смогло замаскировать неудачи советского сельского хозяйства. Отметим здесь три источника этих неудач, к которым позже обратимся снова[549]. Во-первых, отобрав у крестьян их (относительную) независимость и самостоятельность, а также землю и посевной материал, государство создало по существу класс закрепощенных чернорабочих, которые всеми возможными способами тормозили дело и оказывали сопротивление. Во-вторых, унитарная административная структура и всемогущество центрального планирования произвели довольно неуклюжий механизм, крайне безразличный к информации с мест или к местным условиям. Наконец, ленинская политическая структура Советского Союза не дала сельскохозяйственным чиновникам никакого стимула приспосабливать свои хозяйства к реальной жизни или начинать вести переговоры со своими сельскими подчиненными. Сама способность государства заново закрепощать сельских производителей, разрушать их уклад и навязывать свою волю достаточно объясняла неудачу государства в осуществлении высокомодернистского сельского хозяйства, о котором мечтал Ленин.
Государственные образцы контроля и присвоения
Описывая историю советской коллективизации, я осмелюсь высказать несколько откровенных умозрительных идей относительно институциональной логики авторитарного высокого модернизма. Затем попробую объяснить, почему такие массивные социальные бульдозерные сглаживания могли работать вполне терпимо для одних целей, но при попытке освоить другие, увы, проваливались — проблема, к которой мы вернемся в дальнейшем.
Безудержное движение к коллективизации стимулировалось безотлагательной целью захвата достаточного количества зерна для быстрого проведения индустриализации[550]. При сдаче урожаев 1928 и 1929 гг. частично сработали угрозы и давление, но каждый ежегодный виток поставок выявлял больше уклонений и сопротивления со стороны крестьянства. Советскому государству было нелегко противостоять исключительно разнообразному населению, состоящему из объединенных в коммуну мелких собственников, чьи экономические и социальные усилия были непонятны властям. Это обстоятельство дало некоторые стратегические преимущества крестьянству, ведущему скрытную партизанскую войну (перемежающуюся открытым бунтом) против государственных притязаний. При существующем режиме собственности государство в каждом новом году могло ожидать только кровопролитной битвы за зерно без всякой гарантии на успех.
Сталин выбрал этот период времени для нанесения решающего удара. Он навязал селу четко разработанную структуру, более удобную для подчинения, контроля и преобразования, ведущегося центром. Социальная и экономическая структура, которую он имел в виду, была, конечно, индустриальной моделью сельского хозяйства будущего — большие и механизированные хозяйства, работающие подобно промышленным линиям и координируемые государственным планированием.
При такой встрече «новейшего государства» со «старейшим классом» первое попыталось переделать последний в некое приемлемое подобие пролетариата. В сравнении с крестьянством пролетариат был более организованным классом и не только из-за своего центрального места в марксистской теории. Режим работы пролетариата устанавливался заводскими часами и созданными человеком методами производства. В случае новых индустриальных проектов, например большого металлургического комплекса в Магнитогорске, плановики могли начать фактически с нуля, как в Бразилиа. Крестьяне, напротив, представляли смесь мелких индивидуальных семейных предприятий. Образ их жизни и социальная организация имели более глубокие исторические корни, чем у пролетариата.
Одной из целей коллективизации было уничтожить такие экономические и социальные единицы, которые сопротивлялись контролю со стороны государства, и затолкать крестьянство в институциональную смирительную рубашку государственного образца. Новый установленный порядок коллективных хозяйств был совместим с государственными целями присвоения и направленного развития. В условиях, близких к гражданской войне в сельской местности, решением явилась некая смесь военной оккупации и «усмирения» с «социалистическим преобразованием»[551].
Я уверен, что можно сказать нечто более общее об «избирательном сродстве» между авторитарным высоким модернизмом и определенными институциональными механизмами[552]. Мои слова будут довольно приблизительными, но все-таки смогут послужить отправной точкой. Идеология высокого модернизма воплощает догматическое предпочтение определенного социального устройства. Авторитарные высокомодернистские государства делают следующий шаг: пытаются, и часто успешно, навязать эти предпочтения своему народу. Большинство из них можно свести к критериям обозримости, подчинения и централизации контроля. И они будут насаждаться, потому что эти институциональные механизмы могут легко направляться из центра, их достаточно просто облагать налогом (в самом широком смысле налогообложения). Эти скрытые цели мало чем отличаются от целей управления государством премодерна[553]. В конце концов, обозримость является предпосылкой не только подчинения, но и авторитарного преобразования. Различие заключается в абсолютно новом масштабе претензий и вмешательств, на которые притязает высокий модернизм. Принципы стандартизации, центрального контроля и доступности обзору со стороны центра могут быть приложены и к другим сферам; те, что упомянуты в таблице, только предположительны. Например, в образовании самая недоступная взгляду со стороны образовательная система — это неформальное обучение, недоступное стандартизации, полностью определяющееся взаимоотношениями учителя и ученика. Наиболее четкая и доступная система походила бы на описание Ипполита Тэна обучения во Франции в XIX в., когда «министр просвещения мог испытать чувство гордости от того, что, посмотрев только на свои часы, он уже мог точно сказать, какую страницу Вергилия разбирают все школьники Империи в данный момент»[554]. При более подробном исследовании пришлось бы заменить дихотомии более сложными схемами (например, свободное общинное землевладение менее прозрачно и труднее облагается налогами, чем ограниченное общинное землевладение, которое, в свою очередь, менее четкое, чем частная собственность, а последняя, в свою очередь, менее доступна взору государства, чем государственная собственность). И это вовсе не совпадение, что более понятная и доступная форма может быть быстрее преобразована в источник ренты — как частной собственности, так и монополистической ренты государства.
| Объекты | Недоступные | Доступные |
| Поселения | Временные поселения первобытных охотников, кочевников, земледельцев, осваивающих новую землю, пионеров и цыган | Постоянные деревни, поместья, плантации оседлых людей |
| Незапланированные города и кварталы: Брюгге в 1500 г., medina Дамаска, предместье Сан-Антуан. Париж, 1800 г. | Запланированные сетки городов и кварталов: Бразилиа, Чикаго | |
| Экономические единицы | Мелкая собственность, мелкая буржуазия | Крупная собственность |
| Мелкие крестьянские хозяйства | Крупные хозяйства | |
| Ремесленное производство | Фабрики (пролетариат) | |
| Мелкие магазины | Крупные коммерческие предприятия | |
| Неформальная экономика «без записей» | Формальная экономика «С учетными записями» | |
| Вид собственности | Свободная общинная, общественная собственность | Коллективное хозяйство |
| Частная собственность | Государственная собственность | |
| Местные отчеты | Национальная кадастровая опись | |
| Вода | Местное потребительское использование, местные ирригационные системы | Централизованные плотины, ирригационное управление |
| Транспорт | Децентрализованные сети | Централизованное движение |
| Энергия | Коровьи лепешки и хворост, собранные в данном месте или местные электрические генераторы | Большие электростанции в городских центрах |
| Идентификация | Нерегулируемые местные обычаи записи имен | Постоянные фамилии |
| Отсутствие государственной документации на граждан | Национальная система идентификационных карт, других документов или паспортов |
Пределы авторитарного высокого модернизма
В каких же случаях механизмывысокого модернизма работают, а в каких они могут потерпеть неудачу? Для неудачного выступления советского сельского хозяйства как эффективного производителя продуктов питания было задним числом найдено много разных причин, имеющих мало общего с высоким модернизмом: ошибочные теории Трофима Лысенко, навязчивые идеи Сталина, воинская повинность в период Второй мировой войныи даже погода. Понятно, что централизующие высокомодернистские решения могут быть наиболее эффективными, беспристрастными и подходящими для решения многих задач. Освоение космоса, планирование транспортной сети, контроль наводнений, производство самолетов и другие проекты могут потребовать гигантских организаций, координируемых ежеминутно всего лишь несколькими специалистами. Контроль эпидемий или загрязнения требует центра, укомплектованного специалистами, получающими стандартную информацию от сотен объектов и перерабатывающими ее.
Но, конечно, эти методы не подходят для решении таких задач, как приготовление вкусной пищи или выполнение хирургической операции. Эту проблему мы будем подробно рассматривать в гл. 8, но некоторые ценные, наводящие на размышления данные можно собрать по крупицам из практики советского сельского хозяйства. Если говорить о культурах, очевидно, что колхозы были эффективны при выращивании зерновых культур, особенно наиболее важных: пшеницы, ржи, овса, ячменя и кукурузы. Они были совершенно нерезультативны при производстве другой продукции: фруктов, овощей, мелкого домашнего скота, яиц, молочных продуктов и цветов. Наибольшее количество этой продукции обеспечивали крохотные частные участки членов колхоза даже при высоком уровне коллективизации[555].
Систематические различия между этими категориями культур помогает объяснить, почему условия их выращивания могут различаться. Возьмем в качестве примера пшеницу, которую я назову «пролетарской культурой», и сравним ее с красной малиной, которую я считаю предельно «мелкобуржуазной культурой». Пшеница хорошо подходит для экстенсивного крупномасштабного сельского хозяйства и механизации. Можно сказать, что пшеница для коллективизированного сельского хозяйства — это то же самое, что норвежская ель для научного леса, управляемого из центра. После посадки она не требует большого ухода вплоть до урожая, когда комбайн может срезать и смолоть зерно за одну операцию,а затем засыпать его в грузовики, направляющиеся в зернохранилища или к железнодорожным вагонам. Относительно сильная культура в земле, пшеница остается стойкой и после сбора урожая. Она сравнительно легко хранится в течение продолжительного времени, мало портится. Напротив, кустам красной малины нужна особая почва, чтобы они были плодородными; их надо ежегодно обрезать; сбор ягоды происходит в несколько приемов, и для него какую-либо машину невозможно приспособить. После сбора при наилучших условиях малина хранится только несколько дней. Ягоды испортятся в течение нескольких часов, если упаковать их слишком плотно или хранить при слишком высокой температуре. Фактически каждая стадия выращивания малины требует тщательности и быстроты, иначе все усилия будут напрасными. Поэтому нет ничего удивительного в том, что фрукты и овощи — мелкобуржуазные культуры — обычно не выращивались на колхозных полях, а скорее производились индивидуальными хозяйствами как побочная продукция. Коллективный сектор в сущности уступал эти культуры тем, кто имел личную заинтересованность, стимул и садоводческие навыки в их успешном выращивании. В принципе ими могут заниматься централизованные предприятия, но только такие, которые продуманно внимательны к уходу за культурой, а также к работникам, которые ухаживают за нею. Обычно такие культуры выращиваются в семейных хозяйствах. Они меньше по размеру, чем фермы по выращиванию пшеницы, и настоятельно требуют постоянной квалифицированной рабочей силы. В таких ситуациях небольшие семейные предприятия, говоря на языке неоклассической экономики, имеют сравнительное преимущество.
Другое отличие производства пшеницы от производства малины заключается в том, что выращивание пшеницы включает только небольшое число операций, а учитывая крепкость зерна, есть некий резерв времени на обработку. Урожай пострадает не сильно. Производители малины, учитывая, что успешное культивирование этой культуры сложное, а ягоды нежные, должны уметь приспосабливаться, быть исключительно проворными и трудолюбивыми. Другими словами, успешное выращивание малины требует больше знаний о выращиваемой культуре и опыта. Понимание этих различий будет необходимо для рассмотрения танзанийского примера, к которому мы обратимся сейчас, и позже — для исследования особенностей местного знания.
7. Принудительное переселение в деревни в Танзании: эстетика и миниатюризация
Кампания по организации деревень уджамаа в Танзании с 1973 до 1976 гг. была грандиозной попыткой прикрепления большинства сельского населения к постоянному месту жительства в деревнях, планировка которых, дизайн жилищ и местные экономические структуры частично или полностью разрабатывались правительственными чиновниками из центра. Танзанийский эксперимент мы будем исследовать по трем причинам. Во-первых, по большинству оценок, эта кампания была самым крупным принудительным переселением, предпринятым к тому времени в независимой Африке: было перемещено, по крайней мере, 5 млн танзанийцев[556]. Во-вторых, благодаря международному интересу к эксперименту и относительно открытому характеру политической жизни в Танзании имеется достаточно большое количество документов о процессе виллажизации — принудительном переселении в деревни. Наконец, кампания в значительной степени была проектом, направленным на увеличение благосостояния населения, а не этнической чисткой либо выселением в карательных целях или в целях военной безопасности, что часто случалось в других местах: например, в Южной Африке при апартеиде происходили принудительные перемещения и заселение племен в резервации. По сравнению с советской коллективизацией кампания по организации деревень уджамаа была крупномасштабным социальным проектом, реализованным сравнительно нерешительным и слабым государством.
Анализ множества крупномасштабных переселений дает почти такие же результаты. В танзанийском примере важную идеологическую роль играют китайская и российская модели (как и марксистско-ленинская риторика), но они были не единственными источниками вдохновляющих идей при реализации такого рода проектов[557]. Можно также исследовать массовые принудительные перемещения людей при политике апартеида в Южной Африке, которые были более жестокими и экономически разрушительными. Можно проанализировать любое число многочисленных крупномасштабных капиталистических систем производства, часто сопровождавшихся значительными перемещениями населения при содействии международной помощи развивающимся странам[558]. Джулиус Ньерере, глава танзанийского государства, переселял своих сограждан на новое постоянное место жительства способами, которые были, как мы увидим далее, поразительно похожими на колониальную политику, а его идеи о масштабе механизациии о экономике сельского хозяйства входили неотъемлемой частью в развернутое международное обсуждение того времени. На рассуждения о модернизации сельского хозяйства сильно повлияли модель управления ресурсами в долине Теннеси, интенсификация капиталовложений в сельское хозяйство в Соединенных Штатах и уроки экономического развития после Второй мировой войны[559].
В отличие от советской коллективизации танзанийская виллажизация не замышлялась как тотальная война с сельским населением. Ньерере настоятельно предостерегал против использования административного или военного принуждения, указывая, что никого не следует заставлять силой, против желания, переезжать в новую деревню. Разрушения и жестокость программы Ньерере, какой бы трагичной ни была она для своих жертв, не могут стоять в одном ряду с разрушениями, причиненными Сталиным. Но даже имея это в виду, приходится признать, что кампания уджамаа была принудительной и часто жестокой. Кроме того, этот проект провалился как с экологической, так и с экономической точки зрения.
Даже в этой «более мягкой» версии авторитарного высокого модернизма заметны некоторые неистребимые черты фамильного сходства. И первая из них — логическая схема «усовершенствования». Как в естественном лесу, образ общественной жизни в Танзании и способы поселения были недоступны для обозрения государством и препятствовали узко понятым государственным целям. Только радикальное упрощение картины поселений позволило бы государству приобщить граждан к таким благам цивилизации, как образование, медицина и чистая вода. Вряд ли единственной целью государственных чиновников было простое административное удобство — но это уже следующий пункт. Тонко скрытым подтекстом виллажизации была также реорганизация человеческих сообществ в целях преобразования их в более удобные объекты политического управления — государство хотело облегчить введение новых форм коллективного сельского хозяйства, пользующихся его поддержкой. В этом отношении существуют поразительные параллели между тем, что предлагали Ньерере и Танзанийский Африканский Национальный Союз (TANU), и программой сельского хозяйства и поселений, начатой колониальными режимами в Восточной Африке. Эти параллели указывают на нечто, присущее всем проектам современных развивающихся государств.
Однако вне этого второго критерия бюрократического управления лежит еще одно, третье, сходство, которое не имеет ничего общего с эффективностью. Я полагаю, что у программы виллажизации в Танзании (как и у советской коллективизации) было мощное эстетическое измерение. Определенные визуальные представления о порядке и эффективности могли бы иметь важное значение в некоем первоначальном контексте, но здесь они были оторваны от своих истоков. Высокомодернистские планы часто блуждают в виде этакого сжатого визуального образа эффективности, представляющего собой не научные суждения, которые можно проверить, а квазирелигиозную веру в наглядный символ порядка. Как предположила Джекобс, эти символы могут восприниматься как реальное явление, как видимый глазом порядок. То, как выглядят предметы, становится более важным, чем то, как они работают и срабатывают ли вообще; или, лучше сказать, допущение состоит в том, что если что-то выглядит правильно, то в силу этого факта оно и работает хорошо. Важность таких представлений проявляется в тенденции миниатюризации, т. е. создания таких микросред насквозь просматриваемого порядка, как образцовые деревни, демонстрационные проекты, новые столицы и т. д.
В итоге деревни уджамаа, подобно советским колхозам, оказались экономическими и экологическими неудачами. По идеологическим причинам строители нового общества не обращали никакого внимания на местное знание и местные методы земледелия и скотоводства. Они также прошли мимо наиболее значимого факта социального строительства: его эффективность зависит от доверия и сотрудничества реальных личностей. Если люди посчитают новое устройство жизни угрожающим их достоинству, их планам и представлениям, то будь оно трижды эффективно, они сумеют сделать его неэффективным.
Колониальное высокомодернистское сельское хозяйство в Восточной Африке
Колониальное государство не просто стремилось создать под своим контролем чрезвычайно ясную и отчетливую картину жизни — условием этой отчетливости было наличие серийного номера на всем и на всех.
Бенедикт Андерсон. Воображаемые сообщества
Колониальное правление всегда осуществляется в интересах колонизатора, что в сельском обществе обычно проявляется как стимулирование производства в интересах рынка. Для этого применяются разнообразные средства, такие как подушный налог, выплачиваемый наличными деньгами или ценными культурами, поддержка частных плантаций и белых поселенцев, которые ими владеют. Во время Второй мировой войны и особенно после нее Британия начала составлять планы крупномасштабных проектов развития колоний и привлекать требуемую для этого рабочую силу в Восточную Африку. Во время войны в порядке воинской повинности было мобилизовано почти 30 тыс. разнорабочих для работы на плантациях (особенно сизаля), но это были еще цветочки. Послевоенные проекты, часто имевшие довоенные аналоги, были претенциознее: грандиозные проекты организации производства земляного ореха (арахиса), а также различных сортов риса, табака, хлопка, разведения крупного рогатого скота и прежде всего тщательно разработанные планы сохранения плодородия почвы, которые требовали определенных, строго регламентированных методов. Неотъемлемой частью многих проектов были переселение и механизация[560]. В большинстве своем эти проекты не имели ни популярности, ни успеха. Одно из стандартных объяснений привлекательности TANU в сельской местности как раз и состояло в указании на широко распространенное народное недовольство колониальной аграрной политикой, особенно принудительной консервацией мер измерения и такими инструкциями по содержанию скота, как уменьшение его поголовья и обработка от паразитов[561].
Наиболее основательным объяснением логики, лежащей в основе таких проектов «колониализма всеобщего благосостояния», является исследование Уильяма Бейнерта хозяйства соседнего Малави (в то время Ньясаленд)[562]. И хотя экология в Малави была другой, основные линии ее аграрной политики мало отличались от принятых в остальных колониях Англии в Восточной Африке. Нас в данном случае больше всего поражает, до какой степени условия колониального режима подошли независимому и гораздо более законному социалистическому государству Танзания.
Отправной точкой колониальной политики были абсолютная вера в то, что чиновники считали «научным сельским хозяйством», и полный скептицизм к существующим аграрным методам африканцев. Как сказал один провинциальный сельскохозяйственный служащий в долине Чири: «У африканцев нет ни знаний, ни навыков, ни оборудования для диагностирования проблем эрозии почвы, при этом они не могут спланировать корректирующие меры, основывающиеся на научном знании, и здесь, я думаю, мы правильно принимаем решения»[563]. И хотя мнение служащего было, без сомнения, совершенно искренним, нельзя не обратить внимание, что оно оправдывало значимость аграрных специалистов по сравнению с простыми практиками и их полномочия.
Идя в ногу с плановой политикой того времени, специалисты стремились разработать тщательно продуманные проекты — «полную схему развития» и «всестороннюю схему использования земли»[564]. Но эти планы наталкивались на серьезные препятствия: подробный перечень изощренных мер использования земли трудно было навязывать населению, состоящему из земледельцев, хорошо знающих ограничения окружающей среды и уверенных в правильности собственных методов ведения хозяйства. Подталкивание вызывало только протест и уклонение. Именно в таких ситуациях использовалась политика переселений. Идея освоения новых земель или перекупка земельных владений у белых поселенцев позволяли чиновникам закладывать на чистом месте компактные деревни и объединенные индивидуальные участки. Завербованных можно было перемещать на подготовленные и устроенные участки, призванные заменить разрозненное проживание и повсеместно распространенные сложные формы землевладения. Чем больше было деталей, разработанных проектировщиками, т. е. чем больше было построено или спроектировано хижин, разграничено участков, расчищено и вспахано полей, выбрано (а иногда и посажено) растений, тем больше было шансов управлять проектом и вести его в соответствии с разработанным планом.
Планирование нижней долины Чири по этим направлениям не было чисто научным упражнением, разъясняет Бейнерт. Разработчики проекта предложили набор технических решений в духе современного сельского хозяйства, из которых только очень немногие были оправданы в местных условиях. Кроме того, они сформировали набор эстетических стандартов, которые явно были рождены на умеренном Западе и символизировали собой упорядоченное и производительное сельское хозяйство[565]. Разработчики старались воплотить то, что Бейнерт назвал «техническим представлением о принципиально возможном»:
Они возводили заградительные насыпи и плотины на реках более низкого уровня, их воображение было почти художественным: они видели долину полей правильной формы, аккуратно окаймленных грядами, между длинными и прямыми контурами дамб, расположенных ниже ливневых водооттоков и закрытых лесами. Эта была мечта о прямоугольных очертаниях, которые сделают окружающую среду восприимчивой к управлению, содействующей техническому преобразованию и контролю над крестьянским сельским хозяйством и, вероятно, подобная мечта соответствовала их чувству запланированной красоты. Именно такое решение, по их мнению, сделало бы возможным правильное производство. Но, движимые техническими убеждениями и воображением, они были безразличны к результатам своего вмешательства в крестьянское общество и культуру[566].
Эстетический порядок, устанавливаемый в сельском хозяйстве или в лесном пейзаже, столь же хорошо распространялся на человеческие поселения[567]. Ряды образцовых деревень, расположенных равномерно вдоль прямоугольной сетки полей и связанных между собой дорогами, стали бы центрами технических и социальных служб. Сами поля выстраивались так, чтобы облегчить периодическое чередование засушливых земель, предполагаемое схемой. Фактически проект долины Чири представлял собой миниатюрную версию проекта управления ресурсами долины реки Теннеси, укомплектованной дамбами вдоль реки и участками, отмеченными для интенсивного капиталовложения в предприятия по переработке продуктов. В соответствии с планами архитекторов была построена трехмерная модель нового Городка, чтобы показать в миниатюре, как будет выглядеть весь проект в целом после завершения[568].
Планы людских поселений и использования земли в нижней долине Чири «почти полностью провалились». Это предвещало полный провал всего проекта организации деревень уджамаа. Местные земледельцы, например, сопротивлялись общей колониальной инструкции по предупреждению эрозии почвы. Как показали последние исследования, в местных условиях их сопротивление было вполне оправданным как экономически, так и экологически. Заградительные насыпи из песчаной земли оказались неустойчивыми и способствовали образованию больших размытых оврагов в сезон дождей и быстрому высыханию почвы в засушливый сезон и, в свою очередь, нашествию белых муравьев на корни сельскохозяйственных культур. Потенциальные поселенцы отвергали строгую регламентацию их жизни по планам правительства, «образцовое поселение с коллективным ведением хозяйства» не привлекало добровольных мигрантов, его приходилось преобразовывать в государственные хозяйства по выращиванию кукурузы с использованием оплачиваемой рабочей силы. Запреты на ведение хозяйства на плодородных болотистых местах (dimba) отпугивали добровольцев. Позже чиновники признали, что ошибались они, а не крестьяне.
Проект нижней долины Чири потерпел неудачу по двум основным причинам, решающим для нашего понимания пределов высокомодернистского планирования. Во-первых, проектировщики использовали модель сельскохозяйственного окружения, стандартизированную для всей долины. Именно это допущение позволило дать общее и, очевидно, долговременное указание всем земледельцам о постоянной смене засушливых земель. Это указание было статическим решением в динамичной и разнообразной среде, оно как бы замораживало ее. Крестьяне же, напротив, обладали гибким набором методов, зависящих от времени наступления и продолжительности дождей, микроскопического состава местной почвы и т. д. — методов, которые в определенном смысле были уникальны для каждого фермера, каждого участка земли и для каждого сельскохозяйственного сезона. Во-вторых, проектировщики стандартизировали образ самих земледельцев, полагая, что все крестьяне будут желать приблизительно одного и того же: одинакового набора культур, одинаковых методов работы и одинаковых доходов. Это предположение не сочеталось с такими ключевыми моментами, как размер и состав семьи, побочные занятия, распределение рабочей силы, а также потребности и вкусы, обусловленные культурой. У каждой семьи были свои ресурсы и свои цели, влияющие на их ежегодную сельскохозяйственную стратегию так, что их не смог бы предусмотреть никакой, даже самый тщательный проект. Что касается проекта, то он нравился своим изобретателям как с эстетической точки зрения, так и по точности и последовательности, оцененной в собственных строгих параметрах. Однако проект опирался на своего рода муляжи социальной и физической среды, и это с самого начала обрекало его на неудачу. Одновременно, как это ни странно, быстрое развитие поселений продолжалось не по указке правительства — успешное, на добровольных началах и без какой-либо финансовой поддержки. Эти неорганизованные, стихийные, но более производительные поселения в силу своего незаконного положения на государственной земле подвергались всяческим нападкам и строго порицались, правда, без большого практического эффекта.
Плачевная неудача претенциозного проекта по организации производства арахиса в Танганьике сразу после окончания Второй мировой войны также поучительна как генеральная репетиция массовой виллажизации[569]. Это была совместная авантюра Объединенной африканской компании (филиал «Юнилевер») и колониального государства, в которой намечалось очистить не менее 3 млн акров земли от кустарника, обработать ее и получить более полумиллиона тонн арахиса для переработки в растительное масло на экспорт. Этот проект был задуман во время послевоенного прилива истовой веры в экономическое превосходство командной экономики на базе больших капиталистических фирм. К 1950 г., когда было очищено меньше 10% площади этой земли, урожай орехов оказался плохой, и проект был заброшен.
Причин такой неудачи было много. Выращивание арахиса — один из легендарных примеров того, за что не следует браться развивающимся странам. По крайней мере две из этих причин относятся и к провалу проекта в нижней долине Чири, и к более позднему провалу крупномасштабной виллажизации. Во-первых, проект был узко агрономичным и абстрактным. На неизвестную территорию распространялись очень общие данные, например, о времени, необходимом для расчистки земли трактором, количестве удобрений и пестицидов для получения планируемого урожая с акра земли и т. д. Не было детализированной карты почв, прогнозирования осадков или топографической карты, а также не проводились никакие эксперименты. Полевая разведка была расписана не более чем на девять недель, и большая часть ее выполнялась с воздуха! Общие данные оказались ошибочными, поскольку не учитывали особенностей данного местоположения: глинистой почвы, уплотнявшейся в сезон дождей; нерегулярности ливней; болезней культур, для которых не было устойчивых к этим болезням разновидностей; неправильно выбранного оборудования для обработки почвы.
Второй предпосылкой, обусловившей неудачу проекта, была «слепая вера в механизмы и крупномасштабную операцию»[570]. Основатель проекта Фрэнк Сэмюэл следовал девизу: «Ни одна операция, для которой имеется механическое оборудование, не должна выполняться вручную»[571]. Сам проект по существу представлял собой полувоенную операцию, возможно, скроенную по образцу военных действий и разработанную так, чтобы она была технически автономной. Уровень абстрактности плана напоминает тот, который в 1928. г. был разработан для советского колхоза по выращиванию пшеницы Уилсоном, Уэйром и Риггином в чикагском гостиничном номере (см. гл. 6). Проект выращивания арахиса намеренно не принимал во внимание африканских мелких фермеров, под него стремились создать колоссальное индустриальное хозяйство под европейским руководством. Проект мог бы отражать относительные цены, скажем, на равнинах Канзаса, но только не в Танганьике. Если бы был хоть какой-нибудь урожай, его бы выращивали даже при чрезвычайно невыгодных условиях. Капиталистический высокий модернизм утопического типа, вдохновивший арахисовый проект, не лучше подходил Танзании, чем образ виллажизации и коллективизм социалистического производства, вдохновлявшие Ньерере.
Деревни и «усовершенствованное» сельское хозяйство в Танзании перед 1973 г.
Большинство танзанийского сельского населения находилось, если говорить о доступности государственному взору и возможности присвоения продуктов труда, вне досягаемости. По приблизительным оценкам, 11 из 12 млн сельских жителей обитали «рассеянно» и автономно по всей территории. За исключением плотно заселенных областей в прохладной и влажной горной местности, где выращивалось и сбывалось на рынке значительное количество кофе и чая, большая часть населения занималась ведением хозяйства для собственного пропитания. Многое из того, что можно было продать, они предлагали на местных рынках, как правило, избегая государственного надзора и налогообложения. Цель колониальной политики, а затем и независимого государства Танзания (вначале поддержанной Всемирным банком) состояла в собирании как можно большего числа граждан в стабильные постоянные поселения и содействии тем формам сельского хозяйства, которые произведут больше прибавочной продукции для рынка и особенно для экспорта[572]. Какие бы стратегии ни выбирала эта политика: частного хозяйствования или обобществленного, она была предназначена для того, чтобы, по словам Горана Хайдена, «взять крестьян в плен»[573]. Конечно, националистический режим TANU был более разумным, чем колониальный. Но не следует забывать, что многое в популярности TANU в сельских районах опиралось на инерцию сопротивления обременительным и принудительным аграрным инструкциям колониального государства[574].
Как и в России, крестьянство воспользовалось преимуществами независимости во время междуцарствия, чтобы либо игнорировать политику, проводимую столицей, либо оказать ей неповиновение. Вначале основной целью Ньерере и TANU была виллажизация. Организация деревень преследовала по крайней мере три цели: организацию общественных служб, создание более продуктивного, более современного сельского хозяйства и поддержку коллективных, социалистических форм кооперации. Ньерере подчеркнул важность деревенского образа жизни еще в 1962 г. в своем торжественном обращении к парламенту Танзании при вступлении в должность:
Если кто-то спросит меня, почему правительство хочет, чтобы мы жили в деревнях, ответ будет простой: пока мы сами не сможем обеспечить себя всем необходимым, мы должны обрабатывать нашу землю и поднимать уровень жизни. Мы не сможем пользоваться тракторами, мы не сможем обеспечить школами наших детей, мы не сможем строить больницы или очищать питьевую воду, основать небольшое производство, вместо всего этого нам придется продолжать жить в зависимости от городов. Даже имея достаточное количество электроэнергии, мы ни за что бы не смогли бы доставить ее каждой отдельной ферме[575].
К 1967 г. Ньерере тщательно разработал особый, социалистический аспект кампании по преобразованию деревенского уклада и изложил его в политическом документе, названном «Социализм и сельское развитие». Ему было ясно, что если развитие капитализма будет продолжаться по существующему образцу, то в Танзании в конечном счете разовьется класс состоятельных «кулаков» (русский термин, модный тогда в кругах TANU) — фермеров, которые превратят своих соседей в оплачиваемых разнорабочих. Предполагалось, что деревни уджамаа (т. е. социалистические кооперативы) построят сельскую экономику по-иному. «Мы в Танзании предлагаем, — разъясняет Ньерере, — уходить от такого положения, когда нация индивидуальных производителей-крестьян постепенно принимает стимулы и отношения капиталистической системы. Вместо этого мы постепенно должны стать нацией деревень уджамаа, где люди работают небольшими коллективами, которые кооперируются в объединенные предприятия»[576].
Для Ньерере деревенский образ жизни, создание общественных служб, коллективное сельское хозяйство и механизация представляли единое и неделимое целое. Распыленность фермеров не позволяла обеспечить им образование и медицинскую помощь, они не могли обучаться современным методам сельского хозяйства, не могли даже просто сотрудничать, не переехав сначала в деревни. Ньерере объявил: «Первое и существенно необходимое условие, которое надо выполнить, если мы хотим использовать трактора для сельхозработ, состоит в том, чтобы поселиться в правильных деревнях... В противном случае мы не сможем это делать»[577]. Прежде всего модернизация требовала концентрации физических лиц в стандартизированных подразделениях, которые государство могло бы обслуживать и которыми могло бы руководить. Нет ничего удивительного в том, что слова «электрификация» и «трактора», символизирующие развитие, постоянно были в употреблении у Ньерере — как и у Ленина[578]. Я полагаю, что здесь вводится в игру мощный эстетизм модернизации. Современное население должно жить в сообществах с определенной физической планировкой — и не просто в деревнях, а в правильных деревнях.
В отличие от Сталина Ньерере сначала настаивал на том, чтобы создание деревень уджамаа шло постепенно и было полностью добровольным. Он представлял себе, что несколько семей передвинут свои дома, чтобы стать ближе друг к другу, и засеют поблизости свои поля, после чего смогут основать коллективное хозяйство. Успех привлек бы остальных. «Социалистические коллективыне могут быть сформированы силой, — провозглашал он, — а только при согласии членов; задача руководства и правительства состоит не в том, чтобы принуждать к этому пути развития, а только объяснять, помогать и принимать участие»[579]. Позже, в 1973 г., увидев общее сопротивление виллажизации на правительственных условиях, Ньерере изменил свое мнение. К тому времени семена принуждения уже были посеяны как политизированной, авторитарной бюрократией, так и самим Ньерере, который был убежден, что крестьяне не знают, что хорошо для них. Таким образом, после только что провозглашенного отрицания «насилия» Ньерере допускает, что «возможно — а иногда необходимо — настаивать на том, чтобы все фермеры в данном районе выращивали на определенной площади определенную зерновую культуру, пока они не осознают, что это создает для них более уверенную жизнь, тогда их не придется принуждать выращивать ее»[580]. Крестьян, которых невозможно было убедить действовать в их же собственных интересах, тогда приходилось заставлять.
Та же логика воспроизводится в отчете Всемирного банка за 1961 г. в связи с первым пятилетним планом государства Танганьика. Этот отчет был пронизан стандартной дискуссией века о необходимости преодоления привычек и предрассудков отсталого и упрямого крестьянства. В отчете прозвучало сомнение, можно ли одним только убеждением добиться цели. Его авторы надеялись, что «социальное соревнование, сотрудничество и расширение общественных служб» преобразуют существующие отношения между крестьянами, но они грозно предупреждали, что там, «где стимулы, соревнование и пропаганда окажутся неэффективными, будет применяться давление или принудительные меры соответствующего вида»[581].
В 1960-х годах появилось множество различных по типу сельских поселений с разными способами хозяйствования. Несмотря на их огромное разнообразие — были совместные предприятия государства и иностранных фирм, государственные или полугосударственные, а были прямо-таки народные предприятия, большинство из них были сочтены нерентабельными и закрыты (по указу или ввиду явной несостоятельности). Три аспекта этих способов ведения хозяйства кажутся особенно важными для понимания того, почему в 1973 г. разразилась тотальная кампания виллажизации.
Первым аспектом было стремление к созданию экспериментальных систем. Сам по себе такой подход имел смысл, так как политические деятели перед осуществлением своих честолюбивых планов могли узнать, что будет работать, а что нет. Однако многие такие проекты претворились в своеобразные демонстрационные хозяйства, поглощающие огромные количества дефицитного оборудования, фондов и персонала. Некоторые из этих дорогостоящих миниатюризаций прогресса и модернизации какое-то время поддерживались. Для одного большого эксперимента, в котором участвовало около трех сотен поселенцев, удалось приобрести четыре бульдозера, девять тракторов, вездеход, семь грузовиков, кукурузную мельницу, электрический генератор, а во главе этого хозяйства стояли 15 управленцев и специалистов, в нем были заняты 150 разнорабочих и 12 ремесленников[582]. В некотором смысле это был показательный пример современного хозяйства, озабоченного тем, чтобы кто-нибудь не заметил его явную (и фантастическую) несостоятельность и то, что оно никак не соответствовало ситуации в Танзании.
Второй аспект, который послужил прообразом танзанийского эксперимента, сводился к тому, что при однопартийном правлении, при традиции авторитарного администрирования и наличии диктатора (хотя и довольно великодущного, но стремящегося к успешным результатам)[583] естественная бюрократическая неразбериха оказалась чрезмерной. При выборе участков для новых поселений часто руководствовались не экономической логикой, а определением «белых пятен» на карте (предпочтительно около дорог), где можно было выгрузить поселенцев[584].
В район, расположенный к западу от озера Виктория, внезапно нагрянули член парламента и пять технических специалистов (1970 г.), чтобы разработать четырехлетний план (1970—1974 гг.) для всех деревень уджамаа этого района. Очевидно, они находились под большим давлением и пытались угодить вышестоящим начальникам, обещая гигантский подъем в развитии и производстве, которые оказались «крайне нереалистичными и абсолютно вне пределов любого возможного развития сельского производства»[585]. Планы, опубликованные без каких-либо реальных консультаций, были основаны на абстрактных предположениях об использовании машин, рабочего времени, обработки почвы и новых методов выращивания растений — все это мало отличалось от арахисового проекта или советского колхоза, рожденного в чикагском гостиничном номере.
Наконец, там, где оказывалось самое большое давление, направленное на создание новых деревень, активисты и чиновники TANU не считались с предупреждением Ньерере о неприменении насилия. Поэтому, когда в 1970 г. Ньерере решил, что все население Додомы (склонный к засухе район в центральной Танзании) следует переселить в течение 14 месяцев, чиновники развернули эту деятельность очень быстро. Рассчитывая на всеобщие горестные воспоминания о голоде в районе в 1969 г., они дали понять, что только живущие в деревнях уджамаа в случае голода получат помощь. Тех же, кто уже жил в деревнях уджамаа, но с числом семей, меньшим предусмотренного минимума (в 250 семей), часто вынуждали объединяться. В новых поселениях коллективные участки располагались согласно теории, как и трудовой распорядок и посевной план. Так, сельскохозяйственного чиновника, потребовавшего, чтобы в одной деревне в районе Додомы без всякого обсуждения было принято официальное решение об увеличении в одной деревне общественного поля до 170 акров (за счет поглощения прилегающих частных участков), выгнали с деревенского собрания, выразив тем самым редко встречавшийся открытый протест. За это старосту этой деревни освободили от должности и поместили под полицейский надзор, а председателя районного TANU, тоже дружественно относившегося к этой деревне, сняли с работы и посадили под домашний арест. Пример с Додома предрекал возможный ход развития событий.
Чтобы не было никаких сомнений по поводу того, что виллажизация подразумевала центральный контроль, а не просто создание деревни и коллективное ведение хозяйства, была поставлена точка в назидательной судьбе Ассоциации развития Рувума (RDA)[586]. RDA представляла 15 коллективистских деревень, разбросанных на сотни миль друг от друга в Сонги, отдаленном и бедном районе юго-западной части страны. В отличие от большинства деревень уджамаа эти поселения были непосредственно созданы молодыми местными активистами TANU, которые в 1960 г., намного раньше провозглашенной в 1967 г. политики Ньерере, начали организовывать в каждой деревне собственные формы коллективных хозяйственных предприятий. Вскоре Ньерере выделил одну из деревень, Литова, объявив ее образцом места, где можно посмотреть сельский социализм в действии[587]. Ее школа, мукомольный и рыночный кооперативы были предметами зависти соседних деревень. Учитывая высокий уровень покровительства и финансовой поддержки, оказанной жителям, трудно сказать, насколько в действительности экономичными были эти предприятия. Однако члены RDA предвидели объявленную Ньерере политику исключительно местного контроля и неавторитарного сотрудничества. Кроме того, крестьяне не испугались государственной власти. Одержав победу над многими местными партийными чиновниками и изучив деревенскую кооперацию на собственном опыте, они вовсе не собирались втягиваться в бюрократическую партийную рутину. Когда каждой семье в этих деревнях было дано задание вырастить по одному акру табака для огневой сушки — культуры, которую они считали трудоемкой и неприбыльной, они открыто выразили протест через свою организацию. В 1968 г. после визита высокопоставленных деятелей центрального комитета TANU организация RDA была официально запрещена, ее имущество конфисковано, а функции переданыпартии и чиновничьему аппарату[588].
Отказ деревни подчиняться центральным партийным предписаниям оказался роковым для нее, несмотря на то, что это вполне соответствовало целям, провозглашенным Ньерере.
«Приказано жить в деревнях»
Своим указом от декабря 1973 г.[589] Ньерере закончил период виллажизации, отмеченный лишь спорадическими (но оттого не более правомочными) случаями насилия, и направил государственную машину на принудительную всеобщую виллажизацию[590]. Каким бы сдерживающим ни было влияние его публичного осуждения использования силы, теперь оно свелось на нет и вполне проявилось желание партии и бюрократического аппарата поскорее достичь тех целей, которые Ньерере и преследовал. В конце концов, как объяснил Джума Мвапаху, чиновник, ответственный за принудительное поселение в районе Шиньянга, виллажизация была в интересах народа: «Операция 1974 г. [плановые деревни] была целиком принудительной. Как доказывал Ньерере, переход был обязательным,так как Танзания не могла сидеть сложа руки, видя, как большинство ее граждан ведут жизнь, подобную смерти. Поэтому государству пришлось принять на себя роль «отца», чтобы быть уверенным, что его народ выберет для себя лучшую, более обеспеченную жизнь»[591]. Новые деревни и коллективное сельское хозяйство были официальными приоритетами политики по крайней мере с 1967 г., но результаты разочаровывали. Теперь пришло время настаивать на проживании в деревне, заявил Ньерере, как на единственном пути, способствующем развитию и увеличению производства. Официальным термином, используемым после 1973 г., стало выражение «плановые» деревни (а не деревни уджамаа), по-видимому, чтобы отличить их как от деревень коллективного производства (уджамаа), потерпевших неудачу, так и от незапланированных поселений и ферм.
Проводимая кампания под названием «Операция плановых деревень» вызывала в народном сознании образы военных действий. Так оно и было на самом деле. Уточненный руководством оперативный план состоял из шести стадий: «обучить [или „политизировать“] народ, найти подходящий участок, проверить местоположение, спланировать деревню, четко разграничивая землю, обучить должностных лиц методологии уджамаа и переселить людей»[592]. Эта последовательность действий была неизбежной и принудительной. Учитывая «сокрушительный» характер кампании, обучение не подразумевало согласия людей, а только сообщение им факта, что они должны переехать и почему это в их интересах. Кроме того, был задан бешеный темп. Генеральная репетиция в районе Догома в 1970 г. позволила планирующим командам затрачивать один день на деревню; при новой кампании число планировщиков даже уменьшилось.
Стремительный темп операции был следствием не только административной спешки. Планировщики чувствовали, что шок от молниеносного переселения будет иметь удобный для их целей эффект, поскольку оторвет крестьян от их традиционной среды и связей и поставит в новые условия, где удастся без особого труда переделать их в современных производителей, следующих инструкциям специалистов[593]. Конечно, в широком смысле целью принудительного переселения всегда является дезориентация, а затем и переориентация. Колониальные системы основания государственных хозяйств или частных плантаций, а также многочисленные планы создания класса прогрессивных мелких фермеров-землевладельцев были действенными лишь при допущении, что перестройка существующих порядков и окружающей трудовой обстановки существенно преобразует людей. Ньерере любил противопоставлять свободный и независимый ритм работы традиционных земледельцев твердой и взаимообусловленной дисциплине завода[594]. Плотно заселенные деревни с совместным производством подвигали бы танзанийское население в направлении к этому идеалу.
Понятно, что танзанийские крестьяне отказывались переезжать в новые поселения, спланированные государством. Их прошлый опыт давал им право на скептицизм. Как земледельцы и пастухи, они в своих поселения или во многих случаях периодических передвижениях точно и отлаженно адаптировались к зачастую скудной окружающей среде, хорошо знакомой им. Предписанное государством перемещение населения грозило уничтожить смысл этой адаптации. Выбором участков руководило административное удобство, а не экологические соображения: они нередко оказывались вдали от топлива и воды, а численность населения часто превышала разумные возможности земли. Как предвидел один из специалистов, «пока виллажизация не будет сопряжена с созданием мощной инфраструктуры для новой технологии, поддерживающей окружающую среду, переселение само по себе может привести к обратным результатам в экономическом смысле и разрушить экологический баланс, который поддерживается традиционным способом поселения. Центр поселения будет переполнен... людьми и домашними животными, это вызовет эрозию почвы; овраги и пылевые вихри обычно появляются в таких ситуациях, когда человеческая инициатива внезапно перенапрягает возобновляемые возможности земли»[595].
При сопротивлении населения и военно-бюрократической организации программы насилие было неизбежно. Почти все угрозы оказались универсальными. Решившимся снова переехать было объявлено, что продовольственная помощь будет оказана только тем, кто переедет мирно. Милиция и армия были мобилизованы для содействия транспортировке и принуждения к согласию на переезд. Переселенцев предупреждали, что власти просто снесут их дома, если они не будут разобраны и погружены на правительственные грузовики. Чтобы предотвратить возвращение этих насильственно перемещенных людей, многие дома действительно сжигались. Вот типичное описание студента из бедного района Кигома (таких сообщений тогда из Танзании поступало много): «Применялись сила и жестокость. Полиции и некоторым правительственным чиновникам были даны все полномочия. Например, в Катаназуза в Калинзи... полиции пришлось применять силу. В некоторых местах, где крестьяне отказывались упаковывать свои вещи и садиться в грузовые автомобили Операции, их дома сжигались или сносились. Разрушение домов было засвидетельствовано в деревне Ньянге. Это было обычным делом для того времени. И крестьянам пришлось безоговорочно переехать. В некоторых деревнях виллажизация была очень грубой»[596]. Осознав бесполезность открытого сопротивления, крестьяне начали делать запасы, чтобы при первой возможности убежать из новых деревень[597].
Такие продвинутые общественные службы, как поликлиники, водоснабжение и школы, предлагались только тем, кто переедет мирно. Иногда люди действительно переезжали спокойно, хотя и требовали письменного контракта с должностными лицами на организацию обещанных им служб до переезда. Очевидно, определенные стимулы были более типичны для ранней добровольной стадии виллажизации, чем для поздней принудительной. В некоторых же районах чиновники просто обозначили многие существующие деревни как запланированные, оставив их без изменений. Основанием для исключения служила как экономическая, так и политическая логика. Богатые, плотно заселенные области, вроде района к западу от озера Виктория и Килиманджаро, были в основном избавлены от виллажизации по трем причинам: фермеры там уже жили в густонаселенных деревнях, выращиваемые ими товарные культуры были существенны для государственных доходов и экспорта, а часть населения этих районов представляла собой бюрократическую элиту. Некоторые критики предполагали, что чем больше была доля правительственных чиновников в некоторых областях, тем позже (и несистематичнее) проводилась их виллажизация[598].
Когда Ньерере узнал, что убеждение применялось мало, а насилие было распространено повсеместно, он был озабочен, осудил отказ предоставить крестьянам компенсацию за их разрушенные хижины и обратил внимание на то, что некоторые чиновники перевезли людей в места, не подходящие для работы и проживания.
«Несмотря на нашу официальную политику и все наши демократические установки, некоторые руководители не прислушиваются к народу, — признавал он. — Они находят, что намного легче просто указывать людям, что надо делать»[599]. Было бы «абсурдным ссылаться на эти случаи как на типичные для виллажизации»[600], не говоря уже том, чтобы отказаться от кампании вообще. Ньерере хотел, чтобы местные власти были хорошо информированы, были ближе к людям и более убедительны в проведении государственной политики. Он не хотел, как и Ленин, чтобы они шли на поводу у людских желаний. Не удивительно — и в этом едины все источники, что фактически все деревенские собрания проводились однотипно: в виде лекций, разъяснений, инструктажей, нагоняев, предупреждений и сообщений о перспективах. Объединенные сельские жители, как ожидалось, станут тем самым «ратифицирующим общественным органом» (по удачному определению Солли Фолка Мура), призванным от имени народа легитимизировать решения, принимаемые совсем в другом месте[601]. Весьма далекая от народной легитимизации кампания виллажизации создавала отчужденное, скептически настроенное, деморализованное и не желающее сотрудничать крестьянство, которое будет дорого стоить Танзании и в материальном смысле, и политическом[602].
«Устремленные вперед» люди и их посевные культуры
Запланированные деревни следовали не только бюрократической, но и эстетической логике. Ньерере и его планировщики имели свое представление о том, как должна выглядеть современная деревня. Такие визуальные идеи становились мощным тропом. Так, слово «устремленность» стало символом для всех современных форм движения: экономных, четких, эффективных и осуществляемых с минимальным сопротивлением движению вперед. Политики и администраторы, спеша нажиться на символическом капитале, стоящем за этим термином, объявляют, что они делают устремленной эту организацию или ту корпорацию, позволяя воображению публики дополнить деталями бюрократический эквивалент устремленного вперед автомобиля или реактивного самолета. Таким образом, термин, который имеет специфическое, контекстное значение в одной области (аэродинамике), становится обобщающим там, где его значение чисто умозрительно и эстетично, а не научно. Кроме этого, как мы увидим, эстетика новой деревни являлась отрицанием прошлого, прежде всего, конечно, в административном смысле.
То, что увидел Ньерере при посещении новых деревень в районе Шиньянга (северо-запад Танзании)в начале 1975 г., было довольно типично для бюрократической спешки и равнодушия[603]. Некоторые из деревень представляли собой «одну длинную улицу зданий, растянувшуюся на мили, как вагоны поезда»[604]. Ньерере посчитал, что это просто результат «демпинга» переселенцев. Но в таких линейных деревнях был свой смысл и своя любопытная логика. Администраторы любили располагать новые деревни по обочинам основных дорог, чтобы легче было добираться с проверкой[605]. Поселение вдоль обочин не имело экономического смысла, но оно демонстрировало, что распространение государственного контроля над крестьянством важнее другой, также государственной цели — подъема сельскохозяйственного производства. Как понял когда-то Сталин, крестьянство, захваченное в плен, не становилось производительным.
Визуальная эстетика правильной новой деревни соединяла в одно целое элементы административного порядка, опрятности и четкости, как полагается при картезианском подходе. Эта современная административно-хозяйственная единица как будто выражала суть дисциплинированного и производительного крестьянства. Один проницательный наблюдатель, сочувствующий целям виллажизации, отметил общее явление. «Новый подход, — объяснял он, — соответствовал бюрократическому стилю мышления и тому, что бюрократия может делать эффективно: переселять крестьян в новые «современные» поселения, т. е. в поселения с домами, стоящими близко друг к другу, прямыми рядами, вдоль дорог, с полями вокруг центральной деревни, организованной блоками хозяйств — каждый блок содержит индивидуальные деревенские участки с определенным типом культуры, что легко доступно для контроля сельскохозяйственного чиновника Организации содействия развитию и для возможности обработки государственными тракторами»[606].
Поскольку практика создания деревень повторялась, административный образ современной деревни становился все более кодифицированным — этот знакомый протокол мог воспроизвести любой бюрократ. «Первой реакцией руководителей района Западного Озера, когда их направили для реализации уджамаа в районе, была мысль о переселении. Создание новых поселений имело несколько преимуществ. Их можно было прекрасно контролировать и с самого начала легко организовать приятным и упорядоченным образом, предпочитаемым бюрократией, с домами и shamba [сады, фермы], расположенными прямыми линиями и т. д.»[607]. Реконструкция исторического происхождения этой картины современной сельской жизни была бы захватывающим описанием, хотя и отклоняющимся от наших целей.
Без сомнения, она обязана кое-чем колониальной политике и, следовательно, виду современного европейского сельского пейзажа. Известно также, что на Ньерере произвело сильное впечатление то, что он увидел в своих поездках по Советскому Союзу и Китаю. Самое важное, однако, состоит в том, что современная плановая деревня в Танзании была последовательным, пункт за пунктом, отрицанием всей существующей сельской практики, которая включала: чередование земледелия и скотоводства; поликультурность посевов; проживание населения довольно далеко от главных дорог; власть рода и происхождения; маленькие, рассеянные поселения с хаотично построенными домами; распыленное и непроницаемое для государства производство. Логика этого тотального отрицания брала верх над здравым смыслом и экологическими или экономическими соображениями.
Кюллективное сельское хозяйство и интенсивное производство
Концентрация танзанийцев в деревнях казалась с самого начала необходимым шагом в установлении новых форм сельскохозяйственного производства, где главную роль будет играть государство. Первый пятилетний план был определен этой задачей.
Хотя усовершенствование [в противоположность преобразованию] и может вносить вклад в увеличение производства ... зонах [с редкими и нерегулярными дождями], оно не может во всех случаях соответствовать существенному его подъему из-за рассеянного проживания фермеров, истощения почвы в результате практики сжигания кустарника и значительных трудностей в сбыте продукции. Политика, которую правительство решило проводить во всех этих зонах, состояла в перегруппировке и переселении фермеров на более подходящие земли, установлении там системы частной или общественной собственности и вводе инспектируемого севооборота, а также смешанных форм хозяйствования, чему благоприятствует почвенное изобилие[608].
Население, сконцентрированное в плановых деревнях, должно было постепенно переходить к выращиванию товарных культур (определенных аграрными специалистами) на общественных полях механизмами, принадлежащими государству. Их жилье, местная администрация, сельскохозяйственные методы и, что наиболее важно, их дневной распорядок труда регламентировались государственными властями.
Кампания принудительной виллажизации сама по себе имела такое разрушительное влияние на сельскохозяйственное производство, что у государства не было возможности сразу продвинуть вперед полномасштабное коллективное хозяйство. С 1973 по 1975 г. понадобился огромный импорт продовольствия[609]. Ньерере объявил, что на 1,2 млн шиллингов, потраченных на импорт продовольствия, можно было бы приобрести по корове для каждой танзанийской семьи. По грубым оценкам, 60% новых деревень были расположены на бесплодной земле, не подходящей для постоянного возделывания, а плодородные участки были удалены на большие расстояния. Беспорядок самого переезда и слишком медленное приспособление населения к новой экологической обстановке способствовали дальнейшему разрушению производства[610].
До 1975 г. попытка государства управлять производством и вне пределов государственной сферы принимала классическую колониальную форму — издание законов, указывающих каждому хозяйству, сколько и чего в обязательном порядке оно должно посеять на минимальной площади в акрах. Для поддержки этих мер применялись разнообразные штрафы и наказания. В одном из районов чиновники объявили, что никому не разрешается отправляться на рынок, пока не будет доказано, что он возделывает требуемые 7,5 акров земли. В другом случае крестьянам отказывали в продовольственной помощи, пока каждый из них не посадит по одному акру маниоки в соответствии с законом о минимальной площади[611]. Одним из главных источников конфликта, приведшего к роспуску деревень уджамаа в Рувума, было принудительное выращивание табака для огневой сушки, который крестьяне сдавали по разорительным ценам. Колонизаторы уже давно поняли, что принудительное выращивание этой культуры можно успешно возложить только на тех, кто сконцентрирован физически и потому легко контролируем, что позволяет при необходимости принимать дисциплинарные меры[612].
Следующим шагом было плановое коллективное производство[613]. Именно эта форма предписывалась в Акте о плановых деревнях и деревнях уджамаа (1975 г.), который устанавливал «деревенские коллективные хозяйства» и требовал от деревенских властей ежегодного планирования и определения целей производства.
На практике размер каждого общественного поля и объем снимаемой с него продукции обычно устанавливались сельскохозяйственным полевым чиновником (который стремился угодить своим начальникам) и старостой после совсем небольшого обсуждения, а то и вовсе без него[614]. В результате составлялся трудовой план, который не учитывал сезонной необходимости в дополнительной рабочей силе, не говоря уже о собственных интересах крестьян. Работа в деревенском коллективном хозяйстве мало отличалась от подневольного труда. Сельские жители не имели никакого выбора в этом вопросе, и работа их редко приносила прибыль. Даже при том, что сотрудники Организации содействия развитию следили за тем, чтобы усилия были направлены исключительно на общественные поля, культуры зачастую оказывались неподходящими, почва неплодородной, поздно поступали семена и удобрения, а обещанного трактора с плугом нигде не было видно. При таких недостатках, учитывая, что любую прибыль (а прибыль получали в очень редких случаях) с общественного поля могли посчитать доходом деревенского комитета, труд терял всякий смысл.
Теоретически система политического и трудового управления рабочей силой была всеобъемлющей и вездесущей. Деревни были разделены на подразделения (mitaa), а каждое подразделение в свою очередь — на несколько ячеек (mashina, составленная из десяти домашних хозяйств). Порядок переносился и на коллективные поля. Каждое подразделение несло ответственность за обработку части общественного поля, каждая ячейка — за соответствующую долю. Теоретически лидер ячейки отвечал за трудовую мобилизацию и надзор[615]. Аналогии в жилых и рабочих дисциплинарных иерархиях были структурно разработаны так, чтобы сделать их совершенно прозрачными и понятными для властей.
На практике эта система быстро разрушилась. На самом деле области с коллективным ведением хозяйства обычно были меньше, чем те, что фигурировали в официальных сведениях[616]. Большинство подразделений и деревенских властей, когда дело доходило до общественного земледелия, работали спустя рукава. К тому же они отказывались налагать штрафы на своих соседей, которые нарушали трудовые правила и занимались жизненно важными для них частными участками. В качестве реакции на такое распространенное «голосование ногами» многие общественные поля были разделены между личными хозяйствами и каждому было вменено в обязанность возделывать, скажем, половину акра[617]. Отпала необходимость координации работы на одном большом поле, ответственность за урожай (а, следовательно, и санкции) могла быть определена точно. Новая система напоминала колониальную принудительную систему земледелия с одним отличием: участки земли были физически объединены для более легкого контроля. Однако отсутствие какой-либо заметной отдачи от этого труда означало, что каждое домашнее хозяйство было приковано к своему частному владению и относилось к общественному участку как к тягостному добавочному труду, невзирая на периодические официальные предупреждения о том, что приоритеты надо сменить[618]. Разные урожаи на этих полях, естественно, отражали степень внимания к ним.
Цель танзанийской сельской политики с 1967 г. до начала 1980-х годов состояла в преобразовании сельского населения в такой класс, который позволит государству навязывать себе программу развития и контролировать работу и производство земледельцев. Самое подробное изложение этого замысла содержится в материалах третьего пятилетнего плана (1978 г.): «В сельскохозяйственном секторе партия добилась больших успехов в переселении крестьянства в деревни, где теперь стало возможным выявлять трудоспособных людей, которые могут работать, а также площадь земли, пригодной для сельскохозяйственных целей... При составлении плана для каждого рабочего места, сельского или городского, наши исполнительные органы каждый год будут определять цели работы... Деревенское руководство будет следить, чтобы вся партийная политика по программе развития строго выполнялась»[619]. Когда цели четкости и контроля подвергались сомнению, в план предполагалось объяснение, что сельскохозяйственное развитие «в существующих условиях» призывает к «введению распорядка работы и установлению производственных целей»[620]. И хотя были основаны коллективные хозяйства (теперь называемые деревенскими государственными хозяйствами), но, как замечает Генри Бернстайн, ввиду неполной коллективизации земли и нежелания обратиться к действительно безжалостным принудительным мерам, они были обречены на провал[621]. Основная предпосылка аграрной политики Ньерере, несмотря на все его расшаркивание перед традиционной культурой, ничем в сущности не отличающейяся от колониальной, заключается в том, что методы африканских земледельцев — отсталые, ненаучные, неэффективные и экологически безответственные. Только строгий надзор, обучение и, если понадобится, принуждение со стороны специалистов научного сельского хозяйства могли бы привести их и их методы в соответствие с современной Танзанией. Чтобы решить эти проблемы, предлагалось призвать на помощь сельскохозяйственных специалистов.
Выраженное танзанийской гражданской службой такое предположение о том, что крестьянин придерживается «традиционного мировоззрения и не желает измениться»[622], потребовало принятия ряда сельскохозяйственных мер: от насаждения деревень уджамаа до принудительных переселений и контролируемого возделывания земли, предпринятых и колониальным, и независимым режимами. Таким взглядом на крестьянство пронизан доклад Всемирного банка в 1964 г. и первый пятилетний план государства Танганьика. Хотя в плане и отмечено, что «были приняты существенные, действенные меры против консерватизма сельского населения, и есть надежда, что они изменятся, как только организуются в кооперативы»[623], в нем все-таки содержалось убеждение, что нужны более всеобъемлющие меры. В плане 1964 г. провозглашается: «Преодолеть деструктивный консерватизм людей и провести решительную аграрную реформу, которую необходимо осуществить, если страна хочет выжить, — одна из наиболее трудных проблем, перед которой стоят политические лидеры Танзании»[624].
Ньерере полностью согласился с тем, что работа большинства функционеров Организации содействия развитию состояла в «преодолении [фермерского] безразличия и привязанности к старым методам»[625]. Он лично встречался с представителями Всемирного банка по вопросу обеспечения проектов 60 новых поселений, в которых выполняющие директивы фермеры должны получить землю в соответствии с первым планом. В своем первом выступлении по радио в качестве премьер-министра в 1961 г. Ньерере умышленно изображал представителей класса земледельцев невежественными и, мягко выражаясь, недостаточно прилежными: «Если на вашей шамба не собран хлопок, если вы обработали на пол-акра земли меньше, чем могли бы обработать, если вы позволяете почве на вашем участке бесполезно истощаться или ваша шамба полна сорняками, если вы преднамеренно игнорируете советы сельскохозяйственных специалистов, значит, вы — предатель в нашем сражении»[626].
Логической противоположностью такого отношения к простому земледельцу были чрезмерное доверие к сельскохозяйственным специалистам и «слепая вера в механизмы и крупномасштабную деятельность»[627]. Если планируемая деревня была значительным «усовершенствованием» в четкости и контроле прошлых методов поселения, то планируемое сельское хозяйство, предложенное специалистами, своей четкостью и порядком представлялось «усовершенствованием» бесконечного разнообразия и путаницы мелкособственнических владений и существующих там методов[628]. В новых деревнях частные участки поселенцев (шамба) обычно наносились на карту инспекторами и представляли собой аккуратные квадраты или треугольники одинакового размера, расположенные прямыми рядами (рис. 31). Их устраивали согласно тем же принципам, что и сегментированные общественные участки: следовали скорее логике ясности и административной простоты, чем агрономическому смыслу. Так, когда началась реализация проекта возделывания чая, владельцам мелких хозяйств предложили сажать чайные кусты отдельной группой, «потому что рабочим было легче обрабатывать чай, посаженный в одном месте»[629]. Порядок расположения полей воспроизводился в порядке посаженных на них растений. Танзанийские фермеры часто выращивали две культуры или более одновременно на одном и том же поле (метод, называемый по разному: поликультурность, межкультурность или одновременное выращивание). Так, кофейные деревья часто перемежались банановыми, бобами и другими однолетними растениями. Для большинства агрономов такая технология казалась проклятием. Один из несогласных с этим методом специалистов пояснял: «Сельскохозяйственная служба содействия развитию поощряла фермеров выращивать чистые посадки кофе и рассматривала эту технику непременным условием современного сельского хозяйства»[630]. Если культурой были бананы, сажать надлежало только их. Аграрии-полевики оценивали достижения по тому, как была посажена каждая культура: прямыми рядами и чистыми, без примесей, посадками[631]. Подобно крупномасштабному механизированному сельскому хозяйству, монокультурность имела научное объяснение в специфических условиях, но вышестоящие чиновники часто внедряли ее бездумно, как один из обязательных пунктов в катехизисе современного сельского хозяйства.
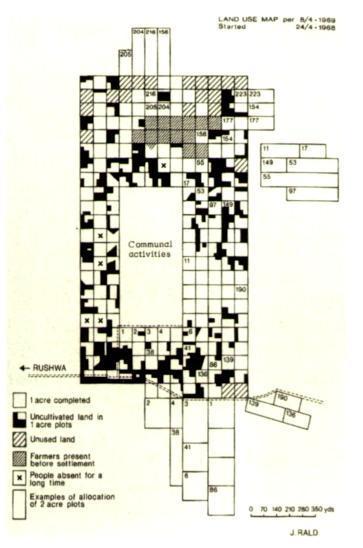
Но невзирая на эмпирические доказательства в пользу экологической разумности и продуктивности некоторых методов поликультурных посевов, эта высокомодернистская вера оставалась непоколебимой. Очевидно, что монокультурность и посадка рядами значительно облегчают работу администраторов и агрономов — инспекцию и обсчет площади и урожая; они упрощают полевые эксперименты, уменьшая число переменных на любом поле и поддаваясь действию вышестоящих рекомендаций, упрощают наблюдение за выращиванием; наконец, они упрощают контроль над урожаем. Регламентированный таким образом урожай с поля предоставляет государственным сельскохозяйственным чиновникам множество тех же преимуществ, что и «построенный в колонны» коммерческий лес ученым-лесоводам и финансовым инспекторам.
Бюрократическое удобство, бюрократические интересы
Авторитарная социальная инженерия способна продемонстрировать полный диапазон стандартных бюрократических патологий. Преобразования, которые она хочет произвести в обществе, не могут быть претворены в жизнь без применения силы или во всяком случае без общения с природой или людьми как функциональными образами некоторых административных шаблонов. Являясь чем-то гораздо большим, чем просто прискорбные аномалии, эти побочные поведенческие продукты органически присущи высокомодернистским кампаниям такого рода. Я намеренно не обращаю здесь внимания на жестокость, которая неизбежна в такой ситуации, когда во многом непредсказуемым руководителям, находящимся под давлением сверху, даны большие полномочия, чтобы добиться результатов любыми средствами, несмотря на народное сопротивление. Я лучше подчеркну два ключевых момента бюрократической реакции, типичных для деревенской кампании уджамаа: во-первых, стремление государственных служащих искажать результаты кампании перед предоставлением их вышестоящему начальству; во-вторых, их готовность интерпретировать цели кампании в соответствии с собственными интересами.
Как очевидно, первая тенденция сводилась к следованию сугубо количественным критериям исполнения. То, что могло бы называться «собственно деревней уджамаа», жители которой добровольно согласились на переезд и пришли к соглашению, как управлять общественным участком, где производители сами решали бы свои собственные местные проблемы (первоначальный образ деревни, который существовал у Ньерере), было заменено на «отвлеченную деревню уджамаа» — нечто такое, что можно было вставить в поток статистической отчетности. Так, партийные работники и государственные служащие, отчитываясь о результатах такой деятельности, подчеркивали число перемещенных людей, количество основанных новых деревень, приусадебных участков и проинспектированных общественных полей, пробуренных колодцев, расчищенных и вспаханных площадей, поставленного удобрения в тоннах и основанных отделений TANU. Даже если данная деревня уджамаа на самом деле представляла собой несколько грузовиков обозленных крестьян и их имущества, бесцеремонно сброшенного на участок, помеченный несколькими колышками инспекторов, она все равно шла в зачет чиновникам как еще одна деревня уджамаа. К тому же над содержанием могли преобладать эстетические соображения. Желание иметь в запланированной деревне все здания выстроенными в правильные ряды (что, возможно, было связано с легкостью контроля и желанием угодить инспектирующим чиновникам) могло привести к тому, что какой-нибудь дом по приказу мог быть демонтирован и перенесен на ничтожные пятьдесят футов в соответствии с указанием инспектора[632]. «Производительность политического аппарата» оценивалась числовыми результатами, которые давали возможность обобщения и (что, возможно, более важно) сравнения[633]. Когда чиновники поняли, что их будущее зависело от скорости предоставления впечатляющих цифр, темп соревнования резко возрос. Один чиновник описал атмосферу, которая заставила его отказаться от первоначальной стратегии избирательного действия и решительно рвануть вперед.
Эта [стратегия] оказалась безрезультатной по двум причинам. Во-первых, началось соперничество (особенно между регионами) со всеми вытекающими отсюда политическими выводами. Существовал большой соблазн самовольного завышения этих данных, поскольку они демонстрировали способность администрации в массовом масштабе мобилизовать сельское население. Из района Мара приходили сообщения о практическом окончании операции, когда она еще даже и не была начата. Высших партийных работников хвалили и награждали за достижения переселения в районе Гейта. Кому же в таких обстоятельствах хотелось бы отстать? Поэтому политические лидеры призывали к быстрым мерам для завершения переселения в короткие сроки. Такие стремительные операции, конечно, порождали проблемы — деревни оказывались плохо спланированными[634].
Воспринимая кампанию преимущественно на основе статистических отчетов и хвастливых официальных докладов, Ньерере сам усиливал атмосферу соперничества. Его пылкое обращение к TANU было бессвязным скоплением цифр, целей и процентов[635]:
Рассмотрим, например, вопрос о виллажизации. В моем сообщении на конференции TANU в 1973 г. я мог сказать, что 2 028 164 людей живут в деревнях. Двумя годами позже, в июне 1975 г., я рапортовал следующей конференции TANU, что уже около 9 100 000 людей живут в деревенских общинах. Теперь насчитывается приблизительно 13 065 000 людей, живущих вместе в 7684 деревнях. Это — огромное достижение. Это — достижение TANU и правительственных лидеров в сотрудничестве с народом Танзании. Оно означает, что в течение примерно трех лет около 70% наших людей переместилось в свои дома[636].
Второеи, безусловно, наиболее зловещее отклонение кампании уджамаа от первоначального направления, которое привнесли в нее государственные чиновники, заключалось в том, что выполнение кампании постоянно служило подтверждением их статуса и власти. Как проницательно отметил Эндрю Коулсон, в самом процессе создания новых деревень администраторы и партийные функционеры (фактически сами конкуренты) уклонялись от всех тех политических установок, которые способствовали бы уменьшению их привилегий и власти, и поддерживали только те, которые укрепляли их влияние. Таким образом, такие установки, как позволение маленьким деревням уджамаа (как Рувума) действовать самостоятельно, без вмешательства правительства (до 1968 г.), как участие людей в решении о создании школ (1969 г.), участие рабочих в управлении (1969—1970 гг.) и право выбирать деревенские Советы и их главу (1973—1975 гг.), выполнялись весьма недолго[637]. Высокомодернистская социальная перестройка предоставляет идеальную почву для авторитарных притязаний, и танзанийский бюрократический аппарат максимально использовал эту возможность для укрепления своего положения[638].
Идея «национальной плантации»
Виллажизация ставила своей задачей концентрировать крестьянство Танзании, чтобы организовать его в политическом и экономическом плане. Если бы она добилась этой цели, рассеянные, автономные и недоступные государственному взору поселения, до того уклонявшиеся от большинства государственных политических мероприятий, которые они находили обременительными, были бы преобразованы. Вместо них проектировщики рисовали в своем воображении население, живущее в разработанных на правительственном уровне деревнях при твердом административном контроле, возделывающее общественные поля, на которых выращиваются отобранные культуры согласно государственным спецификациям. Если принять во внимание продолжение существования жизненно важных для крестьян частных участков и (относительную) слабость трудового контроля, схема в целом становится похожей на огромную, хотя и не односвязную, государственную плантацию. To, что посторонний наблюдатель мог бы принять за новую форму порабощения, хотя бы и добровольного, элита считала нормой, поскольку политика проводилась под знаменем «развития».
В ретроспективе кажется невероятным, что государство могло с таким высокомерием при отсутствии нужной информации, практически не владея навыками планирования, приступить к перекраиванию миллионов жизней. В той же ретроспективе видится, что такая сумасбродная и иррациональная схема и должна была обмануть, с одной стороны, ожидания своих проектировщиков, а с другой — материальные и социальные ожидания ее несчастных жертв.
Бесчеловечность принудительной виллажизации была усугублена глубоко укоренившимися авторитарными привычками бюрократии и стремительным натиском кампании. Однако, если рассматривать все административные и политические недостатки, можно уйти от сути дела. Даже если бы для проведения кампании было предоставлено больше времени, имелось больше технических навыков и «умения терпеливо ухаживать», партийное государство, вероятнее всего, не смогло бы собрать и переварить всю информацию, необходимую для успешного осуществления схематического плана. Традиционные экономическая деятельность и физическое перемещение танзанийского сельского населения были последовательностью невероятно сложных, искусных и гибких мер приспособления к разнообразной социальной и материальной окружающей среде[639].
Как и в практике землевладения по обычаю (см. гл. 1), эти способы адаптации не поддаются административной кодификации из-за их бесконечно большой местной изменчивости, сложности и гибкости перед лицом новых условий. Но если уж землевладение не поддается кодификации, то остается принять, что связи, структурирующие всю материальную и социальную жизнь каждой группы крестьян, оставались в значительной степени непонятными и специалистам, и администраторам.
В этих обстоятельствах массовое поднадзорное переселение превратило жизнь крестьян в хаос. Приведем для иллюстрации невежества и равнодушия чиновников только несколько примеров из наиболее очевидных экологических неудач проведения виллажизации. Крестьян насильственно перемещали с ежегодно затопляемых земель, жизненно важных для практики выращивания растений, на бедные почвы на высоких местах. Как мы уже знаем, их переселили к дорогам, где почва была им незнакомой или не подходящей для тех культур, которые они всегда сеяли. Деревни были расположены далеко от полей, что в отличие от рассеянно расположенных ферм делало невозможным наблюдение за урожаем и контроль за вредителями. Концентрация домашнего скота и людей часто имела пагубные последствия — способствовала распространению холеры и эпизоотий. Для чрезвычайно подвижных масаев и других пастухов создание крупных фермерских хозяйств уджамаа с выпасом рогатого скота на одном месте оказалось абсолютным бедствием — стало просто невозможно добывать средства к существованию[640].
Неудача деревень уджамаа была практически предопределена высокомодернистской спесью проектировщиков и специалистов, которые полагали, что только они одни знали, как организовать более целесообразную и плодотворную жизнь своих граждан. Следует отметить, что они действительно могли бы внести некоторый вклад в более успешное развитие сельской местности Танзании. Но упрямство, с которым они настаивали на своей монополии на необходимые знания претворения их в жизнь, ввергло страну в несчастья.
Поселение людей в поднадзорные деревни не было уникальным изобретением националистических элит независимой Танзании. Виллажизация имела длинную колониальную историю не только в Танзании,но и везде, где предполагалась концентрация населения. Почти до последних дней существования проекта технико-экономическое обоснование принималось и Всемирным банком, и Агентством по международному развитию Соединенных Штатов (USAID) и другими агентствами по развитию, помогающими танзанийскому строительству[641]. Как бы ни были полны энтузиазма политические лидеры Танзании в отношении кампании, которую они возглавляли, в других местах высокомодернистская вера зародилась задолго до того, как они к ней приобщились.
Танзанийский вариант, возможно, несколько отличался от других своей быстротой, всеохватностью и намерением обеспечить население такими общественными службами, как школы, поликлиники и водохозяйство. Хотя для претворения системы в жизнь и прилагались значительные усилия, все же ее последствия не были столь жестокими и непоправимыми, как последствия советской коллективизации[642]. Относительная слабость танзанийских структур и нежелание обратиться к сталинским методам[643], равно как и тактические возможности танзанийских крестьян, включающие побеги, неофициальное производство и торговлю, контрабанду и вредительство, — все это в целом сделало практику виллажизации гораздо менее разрушительной, чем можно было ожидать теоретически[644].
«Идеальная» государственная деревня: эфиопская разновидность
Способ принудительной виллажизации в Эфиопии был одновременно похож и на российский — по насильственности, и на танзанийский — по показному логическому обоснованию. Помимо явно разделяемого социалистического мировоззрения и официальных посещений эфиопскими официальными лицами Танзании для наблюдения за программой в действии[645], есть и более глубокое сходство — в утверждении государственной власти в сельской местности, с одной стороны, и в результатах процесса и реальных физических планов, с другой. В примере с Танзанией очевидна преемственность планов Ньерере и колонизаторов. В Эфиопии, которая никогда не была колонией, переселение можно рассматривать как вековой давности проект императорской династии порабощения народов, не говорящих по-амхарски, и вообще установления контроля центра над мятежными областями. Хотя марксистская революционная элита, захватившая власть в начале 1974 г., с самого начала обратилась к насильственному переселению, ее лидер, подполковник Менгисту Хайле Мариам, и его Совет, теневой правящий орган революционного режима, не настаивали на полномасштабной виллажизации до 1985 г. Политики предвидели возможное переселение всех 33 млн сельских жителей Эфиопии. Повторяя Ньерере, Менгисту объявил, что «при разбросанном и случайном обитании и отсутствии средств к существованию эфиопские крестьяне не могут построить социализм... Поскольку усилия распылены, а средства к существованию у каждого свои, живем бедно, трудимся тяжко и не можем построить преуспевающее общество»[646]. Другие объяснения необходимости концентрированного поселения ничем не отличались от тех, что приводились в Танзании: концентрация обеспечит доступ общественных служб к ныне разбросанному населению, позволит применить разработанное государством общественное производство (производственные кооперативы), а также сделает возможными механизацию и политическое образование[647].
Социализм и его предпосылка — виллажизация — были для Менгисту синонимами слова «современный». Оправдывая массовое переселение, он говорил, что Эфиопия заслуживает свою репутацию «символа отсталости и долины невежества», и призывал эфиопов к «сплочению для освобождения сельского хозяйства от угрожающих сил природы». Наконец, он осудил пастбищное ведение хозяйства так, как будто это само собой разумелось, восхваляя при этом виллажизацию как путь «реабилитации нашего общества кочевников»[648].
Однако темпы переселения в Эфиопии были более резкими, что, по существу, спровоцировало массовые беспорядки, которые в конце концов и привели к свержению режима. К марту 1986 г., после (явно недостаточного) года, отведенного на проведение операции, власти заявили, что 4,6 млн крестьян переселены в 4500 деревень[649]. Всего три месяца были даны на сборы между первой «агитацией и пропагандой» (читай «командой») и самим переездом, часто на огромные расстояния. Все отчеты свидетельствуют, что многие из новых поселений почти ничего не получили в смысле общественных служб и были больше похожи на колонию для преступников, чем на нормально функционирующую деревню. Принудительная виллажизация в районе Арси, очевидно, запланированная непосредственно в центре в Аддис-Абебе, прошла с очень незначительной привязкой к местности или даже совсем без нее. Существовал строгий шаблон, которому было приказано следовать местным инспекторам и администраторам. В каждом очередном пункте план предыдущего тщательно копировался, поскольку режим не был склонен допускать местную импровизацию. «Но люди на местах хорошо знали свою работу: деревни и приготовленные для них 1000 [квадратных] метров, тщательно отмеченные ориентирами и межами на земле, следовали геометрическому образцу сетки, требуемой директивами. Некоторые деревни были слишком жестко размещены; например, одному фермеру пришлось переместить свой большой, хорошо построенный тукул [традиционный соломенный дом] приблизительно на 20 футов так, чтобы он находился «на одной линии» с другими зданиями в ряду»[650].
Можно заметить четкую связь теории с практикой, сравнивая правительственный план идеальной деревни и данные аэрофотосъемки о расположении новой деревни (рис. 32 и 33). Обращает на себя внимание центральное размещение всех основных местных руководящих учреждений. Бюрократический менталитет, склонный к стандартизации и округлению цифр, четко проявлялся в том, что каждая деревня по плану должна была иметь по тысяче жителей и занимать тысячу квадратных метров[651]. В такой ситуации, да еще при использовании одной и той же модели, не потребуется никаких сведений с мест. Идентичное размещение земельных участков в каждом поселении позволит властям намного быстрее спускать общие директивы, наблюдать за производством и контролировать урожай с помощью новой Сельскохозяйственной рыночной корпорации (АМС). Общая планировка была особенно удобна для инспекторов, находящихся под сильным давлением, и именно потому, что она не требовала никакой связи с местными условиями, будь то экологические, экономические или социальные. Чтобы облегчить реализацию универсального проекта однотипных деревень, проектировщики по предписанию выбирали плоские очищенные участки и строили исключительно прямые дороги и нумеровали одинаковые дома[652].
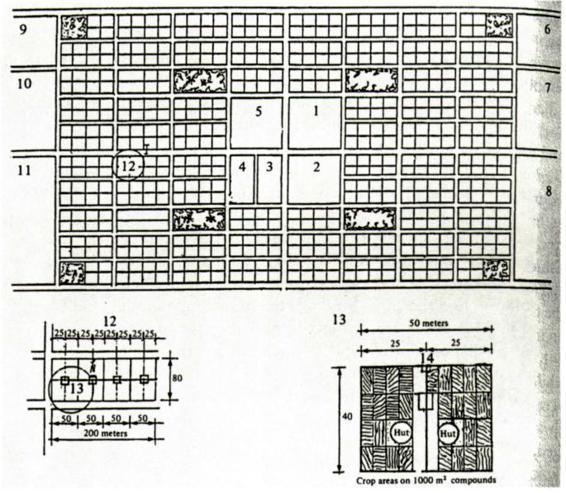
1 — помещение для массовых собраний; 2 — детский сад; 3 — поликлиника; 4 — государственный кооперативный магазин; 5 — контора крестьянской ассоциации; 6 — зарезервированные участки; 7 — начальная школа; 8 — спортивное поле; 9 — семенной фонд; 10 — мастерская; 11 — животноводческая станция; 12 — изображенные в увеличенном масштабе границы соседних участков; 13 — еще более увеличенное изображение границы участков с туалетами соседей 14
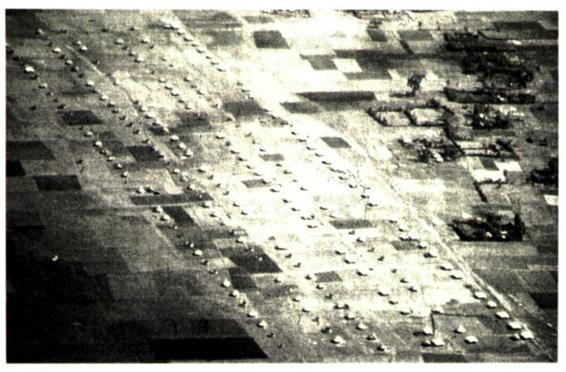
Объекты этого упражнения в геометрии не питали никаких иллюзий относительно его цели. Когда им, наконец, было позволено свободно высказаться, беженцы в Сомали сообщили репортерам, что новый тип поселения был задуман с целью контролировать инакомыслие и сопротивление, препятствовать отъезду людей, «сделать более легким надзор за народом», управлять сельскохозяйственным производством, регистрировать имущество и домашний скот, чтобы «позволить им легче забирать наших юношей на войну»[653].
«Образцовые производственные кооперативы» обеспечивали стандартизированное жилье: квадратные здания с жестяной крышей (чика бет). Традиционное жилье (тукулы) было везде разобрано и перестроено в жестко определенном порядке. Как когда-то в России, все частные магазины, закусочные и мелкие торговые точки были уничтожены, а такие оставшиеся государственные учреждения, как помещение для массовых деревенских организаций, конторы крестьянских ассоциаций, навес, где проходили занятия по повышению грамотности, поликлиника или государственный кооперативный магазин, использовались как места для собраний.
В отличие от танзанийской кампании в эфиопской присутствовал намного более сильный военный компонент, так как крестьян перемещали на большие расстояния с целью военного усмирения и политического ослабления[654]. Само собой разумеется, что безжалостные условия виллажизации в Эфиопии имели более разрушительные последствия для крестьян и окружающей среды, чем танзанийский вариант[655].
Полная оценка всех потерь принудительного переселения в Эфиопии отнюдь не исчерпывается стандартными сообщениями о голоде, экзекуциях, вырубках леса и неурожаях. Новые поселения всегда были неудачными для жителей — и как социальные сообщества, и как производственные подразделения. Сам факт массового переселения уничтожал наследуемые знания о местном земледелии и пастбищах, а заодно и сами сообщества — разрушено приблизительно от 30 до 40 тыс. жизнеспособных сообществ, большинство из которых находились в таких регионах, которые регулярно производили продовольственный прибавочный продукт. Типичный земледелец в Тигрее, местности, выделенной для насильственного переселения, высаживал в среднем пятнадцать культур за сезон (такие хлебные культуры, как метличка абиссинская, ячмень, пшеница, сорго, кукуруза, просо; такие корнеплоды, как ямс, картофель, лук; некоторые сорта бобовых, среди них конские бобы, чечевицу и турецкий горох; множество овощных культур, включая перец, гомбо, и многие другие)[656]. Само собой разумеется, что фермер хорошо знал каждую культуру из этого богатого разнообразия: когда ее высаживать, насколько глубоко сеять, как готовить почву, как ухаживать и когда собирать урожай. Это знание имело особую ценность, поскольку в него входили сведения и о местной среде: об осадках и почве, об особенностях каждого участка, обрабатываемого фермером[657]. Многое из этого знания сохранялось в коллективной памяти о данной местности: методы земледелия, сорта семян для посева, а также экологическая информация. Как только фермера переселяли (а переселяли зачастую в экологическую обстановку, значительно отличающуюся от прежней), его местное знание практически обесценивалось. Как подчеркивает Джейсон Клей, «таким образом, когда фермера из горной местности транспортируют в лагеря переселенцев, в районы вроде Гамбелла, он немедленно превращается из знатока сельского хозяйства в неумелого разнорабочего низкой квалификации, выживание которого полностью зависит от центрального руководства»[658].
Переселение было чем-то гораздо большим, чем просто изменением обстановки. Оно вырывало людей из окружения, в котором формировались навыки и ресурсы для удовлетворения основных потребностей, в котором, следовательно, у них были все условия для самостоятельной независимой жизни. Затем оно перемещало их в другое окружение, где все эти навыки не имели приложения. Только в таких обстоятельствах чиновники переселенческого лагеря могли низводить мигрантов до уровня нищих, чье послушание и труд можно было купить за элементарное пропитание.
Хотя с принудительным перемещением в Эфиопии совпала засуха, голод, в преодолении которого оказывали содействие международные организации, в основном был результатом массового переселения[659]. Разрушение социальных связей приводило к такому же голоду, как и неурожаи, вызванные скверным планированием и незнанием крестьянами новой сельскохозяйственной среды. Коммунальные связи, семейные и родственные отношения, взаимодействие и сотрудничество, местная взаимопомощь и доверие были основными средствами, с помощью которых сельские жители прежде переживали периоды нехватки продовольствия. Лишенные этих социальных ресурсов высылками, отделявшими их от родных и близких, приковывавшими их к месту поселения, крестьяне в лагерях в голодные годы были более уязвимы, чем в подобных ситуациях в своих родных местах.
Основная цель политики не может быть достигнута никогда, о чем свидетельствует, в частности, политика Совета на селе. Если бы реализация политики была успешной, сельские эфиопы устроились бы на постоянное место жительства вдоль главных дорог в больших и правильно спроектированных деревнях, где однотипные и пронумерованные здания были бы расположены по плану, в центре которого находился бы орган управления крестьянской ассоциации (т. е. партии), а ее председатель, его заместители и милиция рьяно работали бы на своих постах. Предназначенные культуры вырастали бы на ровных полях, единообразно размеченных государственными инспекторами, урожай собирался бы машинами и доставлялся на государственные приемные пункты для дальнейшего распределения и продажи за рубеж. Работа тщательно контролировалась бы специалистами и штатом служащих. Предназначенный модернизировать эфиопское сельское хозяйство и, не в последнюю очередь, усилить контроль Совета над ним этот политический курс оказался в буквальном смысле фатальным для сотен тысяч земледельцев и, в конце концов, для самого Совета.
Заключение
Каждому администратору в спокойное, не бурное время кажется, что только его усилиями движется все ему подведомственное народонаселение, и в этом сознании своей необходимости каждый администратор чувствует главную награду за свои труды и усилия. Понятно, что до тех пор, пока историческое море спокойно, правителю-администратору, со своею утлою лодочкой упирающемуся шестом в корабль народа и самому двигающемуся, должно казаться, что его усилиями двигается корабль, в который он упирается. Но стоит подняться буре, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда уж заблуждение невозможно. Корабль идет своим громадным, независимым ходом, шест не достает до двинувшегося корабля, и правитель вдруг из положения властителя, источника силы, переходит в ничтожного, бесполезного и слабого человека.
Лев Толстой. Война и Мир
Конфликт между государственными чиновниками и специалистами, активно планирующими будущее страны, с одной стороны,и крестьянством, с другой, был объявлен первой группой борьбой между прогрессом и мракобесием, рациональностью и суеверием, наукой и религией. И все же, как наглядно показывают высокомодернистские проекты, которые мы исследовали, эти «рациональные» планы, навязываемые первой группой, часто оказывались чреваты очевидными провалами. Ни как производственные подразделения, ни как человеческие сообщества или, наконец, ни как способы обеспечить население общественными службами запланированные деревни не оправдали возложенных на них надежд, хотя иногда эти надежды были вполне искренними. В конечном счете они не оправдали и надежд своих создателей на то, что с их помощью удастся лучше собирать налоги или обеспечивать лояльность сельского населения, хотя, возможно, они, по крайней мере на некоторое время, эффективно разваливали привычные социальные связи населения и, таким образом, помогали подавлять коллективный протест.
Высокий модернизм и оптика власти
Если планы виллажизации были такими уж рациональными и научными, почему они вызывали столь тотальное разрушение? Ответ, мне кажется, в том, что они не были ни научными, ни рациональными в любом из значащих смыслов этих определений. Ее проектировщики были способны уловить только некоторые эстетические идеи, которые являлись визуальной кодификацией современного сельского производства и общественной жизни. Как религиозная вера, эта визуальная кодификация была недоступна для критики и закрыта от несогласия. Вера в большие хозяйства, монокультурность, «правильные» деревни, вспаханные трактором поля, коллективное или общественное сельское хозяйство была эстетическим убеждением, поддержанным уверенностью, что в конечном итоге к этому придет весь мир[660]. Для всех, кроме горстки специалистов, эти представления не были простыми эмпирическими гипотезами, которые следовало тщательно исследовать на практике, поскольку они были получены на умеренном Западе в определенной обстановке. В определенном историческом и социальном контексте, например при выращивании пшеницы на равнинах штата Канзас, многие компоненты этой веры могли бы иметь смысл[661]. Однако она была генерализована и некритически применена — именно как вера — в совершенно иных обстоятельствах с самыми печальными последствиями.
На самом деле совершенно непонятно, кто здесь эмпирик, а кто сторонник научной истины. Танзанийские крестьяне, например, с заметным успехом приспособили свои способы поселения и методы ведения сельского хозяйства к изменениям климата, новым культурам и новым рынкам за два десятилетия до виллажизации. Они, кажется, имели безусловно эмпирический, хотя и весьма осмотрительный взгляд на собственные методы. В противоположность им специалисты и политические деятели находились во власти неудержимого квазирелигиозного энтузиазма, ставшего еще мощнее благодаря поддержке государства.
Но эта вера имела прямое отношение к статусу и интересам ее носителей. Приверженцы визуальной кодификации, осознанно преобразуя общество, ощущали острый и нравственно насыщенный контраст между тем, что выглядело современным — опрятным, прямолинейным, однородным, сконцентрированным, упрощенным, механизированным, и тем, что казалось им примитивным — нерегулярным, рассеянным, сложным, немеханизированным. Как техническая и политическая элита, имеющая монополию на современное образование, они использовали этот визуальный эстетизм, эти видимые знаки прогресса для определения своей исторической миссии и повышения своего статуса.
Их модернистская вера была небескорыстна и в других отношениях. Сама идея о государственном плане, который будет разработан в столице и затем упорядочит периферию, превратит ее по своему образу и подобию в квазивоенные единицы, повинующиеся прямой команде, была абсолютно центристской. Каждая властная единица на периферии была не столько связана с собственным поселением, сколько с командным центром в столице; эта связь довольно сильно напоминала сходящиеся линии, используемые для построения перспективы в ранних картинах эпохи Ренессанса. «Условность перспективы... собирает все в глазу наблюдателя. Это похоже на свет маяка, только лучи не расходятся наружу, а собираются внутрь. Столь условное представление было названо реальностью. Перспектива позволяет единственному глазу стать центром видимого мира. Все лучи сходятся к нему, как прямые к точке в бесконечности. Наблюдатель воспринимает видимый мир именно так, как по религиозному представлению Бог воспринимает Вселенную»[662].
Образ согласованности действий подчиненных восходит к упомянутым в этой книге массовым упражнениям — тысячи людей, двигающихся в совершенном единстве согласно тщательно отрепетированному сценарию. Когда такая координация достигнута, это зрелище может влиять в нескольких направлениях. Проектировщики надеялись, что демонстрация мощного единства масс внушит зрителям и участникам благоговейный трепет. Этот благоговейный трепет не становится меньше из-за того, что (как на фабрике, управляемой по тейлористским принципам) оценить это представление может полностью только тот, кто находится вне (и выше) уровня даваемого представления; отдельные же его участники — всего лишь молекулы организма, чей мозг находится совсем в другом месте. Образ нации, которая могла бы функционировать таким образом, чрезвычайно приятен верхушке, но унижает население, чья роль таким образом сводится к исполнению приказов. Кроме произведения впечатления на посторонних такие спектакли могут по крайней мере на короткое время служить для элиты сеансами успокаивающего самогипноза, чтобы укрепить моральную цель и уверенность в себе[663].
Модернистская визуальная эстетика, вызвавшая к жизни запланированные деревни, имеет к ним очень любопытное отношение: она вносит в это творение своеобразную статичность. С точки зрения этой эстетики создается завершенная картина, которую уже невозможно улучшить[664]. Проект ведь порожден научно-техническими законами, и скрытое допущение состоит в том, что по его завершении на первый план выступает поддержание его формы. Планировщики стремились, чтобы каждая новая деревня походила на предыдущую. Подобно римскому военачальнику, посетившему военный лагерь, где он никогда до этого не был, чиновник, прибывающий из Дар-эс-Салама, точно знал, где найти все, что ему может понадобиться, от штабa TANU до крестьянской ассоциации и поликлиники. Каждое поле и каждый дом тоже были почти идентичными и располагались согласно общей схеме. В той степени, до которой на практике воплощался этот образ, не было абсолютно никакой связи с особенностями места и времени. Это был вид ниоткуда. Вместо неповторимого разнообразия поселений, близко привязанных к местной экологии и к установившимся практикам ведения хозяйства, вместо постоянного приспособления к изменениям демографии, климата и рынков государство создавало скучные деревни, одинаковые во всем — от политической структуры и социальной стратификации до методов выращивания культур. Число переменных было минимизировано. В своей совершенной четкости и сходстве эти деревни были идеальными взаимозаменяемыми кирпичиками в здании государственного планирования. Функционировали ли они, это уже другой вопрос.
Провал проектов
Идеи не могут выразить действительность.
Жан-Поль Сартр
Потенциальным реформаторам гораздо легче изменить формальную структуру учреждения, чем изменить его методы. Проще поменять местами строки и столбцы в организационной таблице, чем изменить работу организации. Заменить правила и инструкции всегда проще, чем исправить поведение, которое стоит за ними[665]. Поменять физическое расположение деревни проще, чем преобразовать ее социальную и производственную жизнь. Но очевидным причинам политические элиты, особенно авторитарные высокомодернистские, обычно начинают с изменений в формальной структуре и правилах. Такие легальные и узаконенные изменения наиболее доступны и легки в переустройствах.
Любой, кто работал в официальной организации, пусть даже небольшой, но строго руководствующейся подробными правилами, знает, что руководства и вообще письменное изложение руководящих принципов никогда не могут объяснить, почему данное учреждение справляется со своими задачами. Можно до бесконечности объяснять бесперебойность его действия, но изменяющиеся совокупности неявных соглашений, подразумеваемых соотношений и практических взаимозависимостей нельзя выразить в письменном виде. Этот повсеместно распространенный социальный факт очень полезно знать служащим и профсоюзным работникам. Рассмотрим для примера сущность того, что выразительно называется забастовкой типа «работать строго по правилам», к которой парижские таксисты прибегают тогда, когда хотят добиться от муниципальных властей изменения инструкций или оплаты. Она состоит просто в пунктуальном следовании всем инструкциям и таким образом приводит к остановке дорожного движения во всем центре Парижа. Водители используют тактическое преимущество того факта, что дорожное движение вообще возможно только потому, что водители владеют набором методов, которые развились вне (а часто и в нарушение) формальных правил.
Любая попытка полностью спланировать деревню, город или, скажем, язык неминуемо приведет к столкновению с социальной действительностью. Все эти объекты являются не вполне осознанными результатами очень многих усилий. Судя по той настойчивости, с которой власти настаивают на замене столь сложной сети деятельности формальными правилами и инструкциями, они определенно хотят ее разрушить способами, действие которых они, возможно, даже не могут предугадать[666]. На это чаще всего ссылаются такие сторонники невмешательства, как Фридрих Хаек, который любит указывать на то, что командная экономика, насколько бы она ни была искушенной и четкой, не может заменить несметного числа быстрых взаимных регуляторов функционирующих рынков и ценовой системы[667]. В нашем контексте, однако, эта мысль может быть приложена даже к более сложным образцам социального взаимодействия с материальной окружающей средой, к тому, что мы называем городом или деревней. Города с длинной историей можно назвать «глубинными» или «плотными» в том смысле, что они представляют собой исторический результат деятельности огромного числа людей из всех социальных слоев (включая бюрократический аппарат), которые уже давно покинули этот мир. Конечно, можно построить новый город или новую деревню, но это будет «поверхностный» или «мелкий» город, и его жителям придется (возможно, по уже известным сценариям) вдохнуть в него жизнь, не обращая внимания ни на какие правила. В случаях, подобных Бразилиа или запланированным деревням в Танзании, можно понять, почему государственные проектировщики предпочли недавно очищенный участок и «подвергнутое шоку» население, резко перемещенное на новое место жительства, ведь там наиболее сильно влияние проектировщиков. Альтернативой служит преобразование существующего на прежнем месте функционирующего сообщества, которое имеет больше социальных ресурсов для сопротивления и приспособления к запланированному.
Бедность социальных связей в искусственно сформированных сообществах можно сравнить с бедностью искусственных языков[668]. Сравнение сообществ, запланированных с одного маху — Бразилиа или новые деревни в Танзании и Эфиопии, с более старыми, самостоятельно складывавшимися сообществами дает те же результаты, что и сравнение, например, эсперанто с английским или бирманским языком. Можно разработать новый язык, который во многих аспектах будет более логичным, более простым, более универсальным и менее нарушающим правила, будет технически обеспечивать большую ясность и точность. Очевидно, в этом как раз и состояла цель изобретателя эсперанто Лазаря Заменхофа, считавшего, что этот язык (уже известный как международный) устранит местечковый национализм Европы[669]. И все же совершенно ясно, почему эсперанто не стал официальным языком какого-либо государства, не сумел заменить существующие местные языки (или диалекты) Европы. (Как любят говорить социальные лингвисты, «национальный язык — это диалект, поддержанный армией».) Это объясняется его бедностью, а также отсутствием коннотаций, готовых метафор, литературы и устной истории, идиом и традиций практического использования, которые присущи любому языку, социально запечатленному в сознании людей. Эсперанто выжил как своего рода утопическая диковина, очень бедный диалект, на котором говорит горстка интеллигенции, тем самым поддерживая его существование.
Минитюаризация совершенствования и управления
Претензия авторитарных высокомодернистских систем на упорядочение всего, что находится в пределах их досягаемости, сталкивается с сильным противодействием. Социальная инерция, закрепившиеся привилегии, международные цены, войны, изменение окружающей среды — упоминания только этих нескольких факторов достаточно, чтобы предсказать существенное отличие результатов высокомодернистского планирования от того, что предполагалось первоначально. Государство затрачивает большие усилия (так было при сталинской коллективизации), чтобы поддержать какую-то степень формального соответствия своим директивам. Тот, кто страстно стремится к реализации подобных планов, не останавливается перед сопротивлением социальной действительности.
Единственной доступной реакцией на полную невозможность воплотить желанные планы в жизнь является отступление в мир воображения, миниатюризации — к образцовым городам и потемкинским деревням, как это уже бывало[670]. Легче построить образцовый город Бразилиа, чем существенно преобразовать страну Бразилию и бразильцев. В результате этого отступления создается небольшое, относительно автономное утопическое место, где высокомодернистские стремления можно более или менее реализовать. Крайний случай, когда контроль над ситуацией максимален, а взаимодействие с внешним миром минимально, возможен только в музее или заповеднике[671].
На мой взгляд, миниатюризация усовершенствований имеет свою логику несмотря на ее отказ от крупномасштабных преобразований. Образцовые деревни, образцовые города, военные колонии, показательные проекты и демонстрационные фермы дают политическим деятелям, администраторам и специалистам возможность создать отчетливо просматриваемый экспериментальный ландшафт с минимальным числом неподдающихся контролю переменных. Конечно, если такие эксперименты оказываются успешными на пути от пилотной стадии до применения ко всему обществу, то они — абсолютно разумная форма политики планирования. У миниатюризации есть свои преимущества. Сужение фокуса допускает более высокую степень социального управления и дисциплины. Концентрируя материал и ресурсы государства в единственном месте, миниатюризация может приблизить архитектуру, планирование, механизацию, социальное обеспечение и посевы к образам своей мечты. Маленькие островки порядка и модернизации, как хорошо понял Потемкин, политически полезны должностным лицам, которые хотят угодить своему начальству и показать на живом примере, чего они могут достичь. Если вышестоящее начальство сидит на одном месте и не владеет нужной информацией, оно, как Екатерина Великая, введенная в заблуждение убедительным потемкинским пейзажем, способно принять образцовый фрагмент за всю картину[672]. Такая разовая и локальная демонстрация своего рода высокомодернистской версии Версаля или Малого Трианона позволяет ее автору избежать серьезного ущерба для своей власти.
Визуальная эстетика миниатюризации также существенна. Как архитектурный набросок, модель и карта — способы обращения с большой реальностью, которая трудно отображаема и управляема во всей полноте, так и миниатюризация высокомодернистского развития — наглядно завершенный образец того, как будет выглядеть будущее.
Миниатюризация того или другого вида вездесуща. Невольно напрашивается вопрос, а нет ли у человеческого стремления к созданию «игрушечных моделей» больших объектов и реалий, которыми невозможно управлять в их подлинном масштабе, бюрократического эквивалента. Ю-фу Туан замечательно показал, как мы уменышаем и тем самым приспосабливаем к себе явление большого масштаба, находящееся вне нашего контроля, причем часто с добрыми намерениями. К таким явлениям Туан относит искусство выращивать карликовые деревья, делать сады из камней и песка и просто сады (миниатюризация растительного мира), куклы и кукольные домики, игрушечные железные дороги, солдатиков и игрушечное военное оружие, а также «живые игрушки» в виде специально выведенных пород рыбок и собак[673]. Туан фокусирует свое внимание на игровом приручении, но похожее желание управлять и властвовать применимой в большем масштабе — к бюрократии. Существенные цели, выполнение которых трудно оценить, могут подменяться скудной и отвлеченной статистикой — числом построенных деревень и площадью вспаханной земли в акрах; таким же образом их можно заменить микросредой модернистского порядка.
Столицы как основное место расположения государственных структур и правителей, как символический центр (новых) наций и как место посещения влиятельных иностранцев — наиболее подходящие объекты для миниатюризации, они — истинные заповедники высокомодернистского развития. Даже в современных светских обликах национальные столицы сохраняют кое-что из старинных традиций священных центров национального культа. Символическая мощь высокомодернистских столиц зависит вовсе не от того (как это было когда-то), насколько они отражают священное прошлое, а скорее от того, насколько они символизируют утопические устремления, в которые правители вовлекают свои нации. Разумеется, как это всегда и было, они показывают проявления мощи прошлой или будущей власти. Это особенно заметно в колониальных столицах. Имперская столица Нью-Дели, построенная по проекту Эдвина Латайенса, — пример города, призванного вызывать благоговение подданных (и возможно, собственных чиновников) своим масштабом и великолепием, своими площадями для парадов и процессий, демонстрирующих военную мощь, своими триумфальными арками. Нью-Дели была, естественно, предназначена для отрицания того, что потом стало называться Олд-Дели.
Одна из основных целей постройки новой столицы прекрасно подмечена личным секретарем Георга V в примечании относительно будущего места жительства британского вице-короля. Он писал, что она должна быть «блистательной и повелевающей», но не подавлять то, что осталось от прошлых империй или необыкновенных особенностей естественного пейзажа. «Мы, наконец, должны дать возможность [индийцам] увидеть мощь науки, искусства и цивилизации Запада»[674]. Находясь в центре столицы по случаю какой-нибудь церемонии, можно было на мгновение забыть, что эта крошечная жемчужина имперской архитектуры почти потерялась в обширном море индийских реалий, которые или не имели никакого отношения к ней, или безусловно ей противоречили.
Очень многие страны (некоторые из них — бывшие колонии) построили совершенно новые столицы, отрицающие их городское прошлое: Бразилия, Пакистан, Турция, Белиз, Нигерия, Берег Слоновой Кости, Малави и Танзания[675]. И даже тогда, когда при постройке таких столиц пытались использовать элементы национальных строительных традиций, их все-таки строили по планам западных или обученных на Западе архитекторов. Как указывает Лоренс Вейл, многие новые столицы кажутся абсолютно завершенными и самодостаточными объектами. Ничего нельзя ни убавить, ни прибавить — только восхищаться. В стратегическом использовании холмов и возвышений, комплексов, расположенных позади стен или водных барьеров, в точно градуируемой структурной иерархии, отражающей назначение и статус данного здания, столицы также передают впечатление гегемонии и доминирования, чего не удается добиться за пределами города[676].
Додома, новая столица, по замыслу Ньерере должна была быть несколько иной. Идеологические предпочтения режима должны были выразиться в архитектуре, преднамеренно не монументальной. Несколько связанных между собой поселений повторяли бы неровности пейзажа, и скромный масштаб зданий устранил бы необходимость лифтов и кондиционеров. Однако весьма определенно предполагалось сделать Додома утопическим местом, которое одновременно представляло бы будущее и явно противопоставлялось бы Дар-эс-Саламу. Общий план Додомы противостоял Дару, как «доминантному фокусу развития, ... представляющему собой антитезу тому, на что нацелена Танзания, — город, растущий в таком темпе, который (если его не контролировать) нанесет ущерб естественной человеческой среде в себе самом и во всей Танзании как основанном на равенстве граждан социалистическом государстве»[677]. Планирование деревень для всех остальных велось без оглядки на то, нравились ли они людям или нет, а для себя правители разработали новый, символический центр, включающий — я думаю, неслучайно — островок безопасности на холме посреди прилизанного, упорядоченного окружения.
Если труднопреодолимые сложности преобразования существующих городов могут соблазнить создать вместо них образцовую столицу, то и трудности преобразования ныне существующих деревень могут побудить к отступлению в миниатюризацию. Одним из основных вариантов этой тенденции было создание тщательно контролируемой производственной среды с помощью разочарованных колониальных чиновников организации содействия развитию. Коулсон обращает внимание на логику, которая использовалась при этом: «Если фермеров нельзя было заставить или убедить, единственными доступными альтернативами было либо вообще не обращать на них внимания и двигаться к механизированному сельскому хозяйству, управляемому посторонними (как в проекте выращивания арахиса или на поселенческих фермах, управляемых европейцами), либо молниеносно переместить их из традиционной среды в поселения, где в обмен на получение земли они, возможно, согласились бы следовать инструкциям штата сельскохозяйственных служащих»[678].
Другим возможным вариантом была попытка выделить из имеющихся крестьян прогрессивных фермеров, которых можно было бы мобилизовать на освоение современного сельского хозяйства. Такой политике, довольно детально разработанной, следовали в Мозамбике, ей также придавалось важное значение в колониальной Танзании[679]. Когда государству противостояла «каменная стена крестьянского консерватизма», как указывает документ Министерства сельского хозяйства Танганьики от 1956 г. становилось необходимым «ослаблять внимание к некоторым участкам, чтобы сконцентрироваться на небольших определенных пунктах — эта процедура стала называться «главным подходом»[680]. В своем желании изолировать маленький сектор сельскохозяйственного населения, который, как они думали, заинтересуется научным сельским хозяйством, специалисты организации содействия развитию сельского хозяйства часто пропускали другие факты, которые имели отношение непосредственно к их миссии, — факты, которые были у них под носом, но не под их эгидой. Так, Полин Петерс описывает деятельность в Малави, направленную на уменьшение населения сельских районов: там оставляли только тех, кого сельскохозяйственные власти назвали «основными фермерами». Специалисты Агентства содействия развитию пытались создавать микроскопический пейзаж «аккуратно очерченных участков ведения сельского хозяйства, основанного на ротации однопородных культур, которые заменили бы разбросанное, занимающееся одновременно многими различными культурами сельское хозяйство, считавшееся ими отсталым. В то же время они упустили из виду самопроизвольную и всеобщую заинтересованность в выращивании табака — той самой культуры, которую они когда-то пробовали насаждать силой»[681].
Мы уже подчеркивали, что запланированный город, запланированная деревня и запланированный язык (не говоря уже о командной экономике), вероятнее всего, окажутся скудными городами, деревнями и языками. Они скудны в том смысле, что не могут разумно запланировать чего-нибудь большего, чем несколько схематических аспектов той неисчерпаемо сложной деятельности, которая характеризует «плотные» города и деревни. Единственное, но вполне точно прогнозируемое последствие столь поверхностного планирования состоит в том, что запланированное учреждение произведет на свет неформальную действительность — «темного двойника», предназначенного для реализации многих из различных потребностей, которые не в состоянии удовлетворить запланированное учреждение. Бразилиа, как показал Холстон, порождала «незапланированную Бразилиа» строительных рабочих, мигрантов и вообще тех, чье нахождение там и деятельность оказались необходимыми, но отнюдь не ожидались и не планировались. Почти каждая новая образцовая столица породила как неизбежное сопровождение своих официальных структур другой, более «беспорядочный» и сложный город, который выполнял официальную городскую работу и который фактически был условием ее существования. «Темный двойник» — не просто аномалия, «объявленная вне закона действительность»: он представляет собой деятельность и жизнь, без которой официальный город перестанет функционировать. Объявленный вне закона город имеет такое же отношение к официальному городу, как фактические методы парижских таксистов к Code routier.
Если отвлечься от конкретики, то легко себе представить, что чем больше претенциозности и настойчивости в официально изданном приказе, тем больший объем неформальных методов необходим, чтобы поддерживать эту фикцию. Чем жестче плановая экономика, тем в большей мере она сопровождается «подпольной», «теневой», «неофициальной» деятельностью, которая тысячами способами снабжает людей тем, чем не в состоянии обеспечить официальная экономика[682]. Результатом безжалостного подавления подпольной экономики всегда был экономический кризис и голод («большой скачок» и «культурная революция» в Китае; автаркическая, безденежная экономика Пол Пота в Камбодже). Усилия, призванные вынудить жителей страны иметь постоянное закрепленное место жительства, приводили к тому, что в городских зонах существовали большие незаконные и незарегистрированные группы населения, которым было запрещено там проживать[683]. Настаивая на неуклонном визуальном эстетизме в центре столицы, власть сама производит трущобы, которые кишат мигрантами, подметающими полы, готовящими пищу и присматривающими за детьми элиты, работающей в пристойном запланированном центре[684].
8. Приручение природы: четкое и упрощенное сельское хозяйство
Если разобрать колесницу, от нее ничего не останется.
При установлении порядка появились имена. Поскольку возникли имена, нужно знать предел [их употребления].
Дао дэ цзин
Простые абстракции бюрократических учреждений, как мы уже видели, не могут адекватно отобразить фактическую сложность естественных или социальных процессов. Используемые ими категории слишком грубы, слишком статичны и слишком стилизованы, чтобы править миром, который пытаются описать.
По причинам, которые скоро станут очевидны, высокомодернистское сельское хозяйство, поддерживаемое государством, вынуждено обращаться к абстракциям того же порядка. Простая «производительная и прибыльная» модель сельскохозяйственного развития и сельскохозяйственные исследования потерпели неудачу в важных способах представления комплексных, гибких и взаимосвязанных целей реальных фермеров и их общин. В эту модель не вписывалось пространство, где фермеры выращивают свои культуры: его микроклимат, влажность и движение воды, его микрорельеф и местная биотическая история. Неспособное как следует представить богатство и сложность существующих ферм и полей, высокомодернистское сельское хозяйство зато преуспело в радикальном упрощении этих ферм и полей таким образом, чтобы их можно было более полно оценить, а также непосредственно контролировать и управлять ими. Я подчеркиваю именно радикальный характер упрощения сельскохозяйственного высокого модернизма, потому что вообще сельское хозяйство, даже в самой элементарной неолитической форме, неизбежно есть процесс упрощения растительного богатства природы[685]. Как еще мы должны понимать процесс, с помощью которого человек выращивает одни виды флоры, которые он посчитал полезными для себя, и препятствует произрастанию других, которые он счел ненужными?
Логика радикального упрощения полей почти идентична логике радикального упрощения леса. Фактически упрощенное сельское хозяйство, разработанное раньше, послужило моделью для научного лесоводства. Руководящей идеей было увеличение урожая или прибыли[686]. Леса были переосмыслены как «древесные фермы», в которых единственный вид деревьев был посажен прямыми рядами и, подобно зерновым, давал урожай, когда «созревал». Предпосылками таких упрощений, нацеленных на получение наибольшей прибыли или дохода, были существование товарного рынка и давление конкуренции как на государственные, так и на частные предприятия. Поле одной культуры, как и лес одного определенного вида деревьев, игнорировало все многообразие остальных элементов биологического сообщества, если они не имели прямого влияния на жизнеспособность и урожай той породы, которая дает прибыль. Такая сосредоточенность на единственном результате, всегда сводящемся к наибольшей коммерческой выгоде, наделяла лесоводов и агрономов аналитической мощью, позволяющей тщательно отслеживать влияние посторонних факторов на эту единственную зависимую переменную. В этих пределах нельзя отрицать чрезвычайную силу подобного подхода к увеличению урожаев. Однако, как мы увидим, этому сильному, но узкому взгляду неизбежно мешают явления, лежащие за пределами ограниченного поля зрения. Продолжая метафору, отметим, что такой взгляд, в свою очередь, означает, что индустриальная агрономия получает неожиданный удар от факторов, находящихся вне ее поля зрения, и в результате кризиса вынуждена его расширить.
В этой главе мы будем рассматривать такой вопрос: почему модель современного научного сельского хозяйства, которая была столь успешной на умеренном индустриализированном Западе, так часто не срабатывала в странах третьего мира? Несмотря на ничтожность результатов, модель пытались продвигать и колониальные модернизаторы, и независимые государства, и международные организации. В Африке, где результаты были особенно отрезвляющими, очень опытный агроном заявил, что «один из важнейших уроков экологического исследования сельского хозяйства Африки в течение примерно 50 лет состоит в том, что перечень достижений «драматической модернизации» настолько беден, что теперь необходимо всерьез и надолго вернуться к более медленным и постепенным подходам»[687].
Мы не будем подробно обсуждать конкретные причины неудач, преследовавших конкретный проект выращивания определенных культур. Безусловно, в этих неудачах повинны и знакомые нам бюрократические извращения, и нескрываемая хищническая практика. И все же я хочу сказать, что происхождение этих провалов можно проследить на более глубоком уровне; другими словами, у этих неудач были систематические причины, обычно даже при самых выгодных предпосылках административной эффективности и неподкупности.
Им, по-видимому, присущи по крайней мере четыре элемента. Два первых вызваны историческими корнями и институциональной связью высокомодернистского сельского хозяйства. Во-первых, поскольку модернизм зародился на умеренном индустриальном Западе, его носители в сельскохозяйственном планировании унаследовали ряд непроверенных допущений относительно посевной и полевой подготовки, которые, как потом оказалось, плохо срабатывали в другой обстановке. Во-вторых, принятые предположения о специальных знаниях воплощались в жизнь конкретными модернистскими сельскохозяйственными планировщиками, которые постоянно приспосабливали предлагаемые ими системы под служебные интересы должностных лиц и государственных управляющих органов[688].
Однако третий элемент действует на более глубоком уровне: это систематическая колоссальная близорукость высокомодернистского сельского хозяйства, которая приводит к совершенно определенным формам неудачи. Преувеличенная сосредоточенность на производственных целях оставляет неизвестными все результаты, лежащие вне непосредственных связей между фермерскими затратами и урожаем. Это означает, что и на долгосрочные результаты (структура почвы, качество воды, отношения землевладения), и на косвенные результаты, которые экономисты называют «несущественными», обращают мало внимания, пока они не начинают влиять на производство.
Наконец, сама сила научного сельскохозяйственного экспериментирования — его упрощающие предположения и способность изолированно рассматривать воздействие отдельной переменной на все производство — не может адекватно реагировать на определенные формы сложности. Игнорируются сельскохозяйственные методы, далеко отстоящие от его собственных.
Чтобы избежать недоразумений по поводу преследуемой мной цели, хочу подчеркнуть, что я не выступаю против современной агрономической науки, тем более против методов научного исследования вообще. Современная агрономическая наука, занимающаяся искусным разведением культур, патологией растений и анализом их питания, почвой и технологическими тонкостями, создала фонд технической информации, который к настоящему времени используют даже наиболее традиционные земледельцы. Цель моя состоит в том, чтобы показать, как имперская претенциозность агрономической науки, ее неспособность признавать и включать знание, созданное вне ее парадигмы, резко ограничила ее применимость для многих земледельцев. Если фермеры, как мы увидим, заинтересованы в получении любых сведений, откуда бы они ни приходили, лишь бы соответствовали целям, то современные сельскохозяйственные проектировщики гораздо менее восприимчивы к иным путям получения информации.
Разновидности сельскохозяйственного упрощения
Сельское хозяйство на ранних стадиях
Всякое сельское хозяйство является упрощением. Даже самые поверхностные его формы всегда приводят к появлению менее разнообразной растительности, чем дикая. Культуры, которые человечество выращивает, стали полностью одомашненными и зависимыми в своем выживании от умения земледельцев вести хозяйственную деятельность, такую как очистка земли, сжигание кустарника, взрыхление почвы, пропалывание, прореживание, удобрение навозом. Строго говоря, вся фауна, не исключая людей, изменяет свою среду в ходе сбора продовольствия. Однако несомненно, что большинство земледельцев рода homo sapiens так приспособилось к измененной среде, что стало своего рода «биологическими монстрами», которые не смогли бы выжить в диком мире[689].
Тысячелетия изменений и сознательный человеческий выбор способствовали выживанию видов, отличавшихся от своих худосочных собратьев[690]. Забота о собственной выгоде заставила нас предпочитать те виды растений, которые имеют большие, легче прорастающие семена, больше соцветий и, следовательно, больше плодов, более легких в обработке. Так, у культивированной кукурузы несколько крупных початков с большими зернами, в то время как у дикой или полуодомашненной кукурузы очень маленькие початки с мелкими зернами. Такое различие наиболее ярко проявляется при сравнении огромного культурного подсолнечника с тяжелой шапкой, полной семян, с его миниатюрным лесным родственником.
Конечно, кроме урожая, земледельцы также учитывали множество других свойств: текстуру, аромат, цвет, устойчивость к хранению, эстетическую ценность, способность к измельчению, кулинарные качества и т. д. Многообразие человеческих целей привело не к единственной идеальной культуре каждой разновидности, а скорее к огромному разнообразию подобных культур, каждая из которых некоторым существенным образом отличалась от остальных. Так, есть сорта ячменя, предназначенные для каши, хлеба, пива и домашнего скота, а также «приятный сорго для жевания, белосеменные сорта для хлеба, маленькие темные красносеменные сорта для пива и сорт с сильным волокнистым стеблем для нужд домостроения и плетения корзин»[691].
Однако самое большое воздействие на выбор оказывало постоянное беспокойство земледельцев о том, чтобы не голодать. Эта главная забота также приводила к большому разнообразию видов культурных растений, определяемых «породами» различных зерновых культур. Породы — генетически различные культуры, которые по-разному отвечают на различные почвенные условия, уровень влажности, температуру, освещенность солнцем, болезни и вредителей, микроклимат и т. д. По истечении длительного времени традиционные земледельцы, действуя как опытные ботаники вывели буквально тысячи пород каждого вида. Практические знания о многих, если не обо всех, сортах позволяют земледельцам проявлять удивительную гибкость перед лицом многочисленных факторов окружающей среды, которыми они не могут управлять[692].
Для нашего исследования длительное развитие такого многообразия сортов существенно по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, на заре земледелия фермеры, преобразуя естественное окружение и подгоняя его под свои нужды, были заинтересованы, в частности, и в создании определенного его разнообразия. Сочетание широких интересов и заботы о запасах продовольствия побуждало их выводить и сохранять много сортов. Генетическая изменчивость выращиваемых ими культур обеспечила защиту от засухи, наводнений, болезней растений, вредителей и сезонных капризов климата[693]. Болезнетворные микроорганизмы могли погубить один сорт, но не тронуть другой; некоторые сорта прекрасно произрастали в засуху, а другие — в условиях большой влажности; некоторые хорошо росли в глинистой почве, а другие — в песчаной. Выращивая разные сорта, точно учитывающие локальные условия, земледелец максимально увеличивал надежность урожая.
Разнообразие сортов существенно еще и в другом смысле. Все современные культуры любого экономического значения — результат селекции пород. Приблизительно до 1930 г. все научное разведение зерновых было, по существу, процессом селекции существующих пород[694]. Породы и их дикие прародители, a также «одичавшие культуры» представляют «зародышевую плазму» или основной семенной фонд, на котором основывается современное сельское хозяйство. Иными словами, как выразился Джеймс Бойс, современные виды культур и традиционное сельское хозяйство дополняют друг друга, а не заменяют[695].
Сельское хозяйство XX в.
Современное индустриальное научное сельское хозяйство, Характеризуемое монокультурностью, механизацией, гибридизацией, использованием удобрений и пестицидов и интенсификацией основных фондов, привело к такому уровню стандартизации в сельском хозяйстве, который не имеет исторического прецедента. По сравнению с простейшей монокультурностью в модели научного лесоводства, которое уже рассматривалось, это упрощение в сельском хозяйстве повлекло за собой гораздо большее генетическое сужение, чреватое последствиями, которые мы только теперь начинаем постигать.
Одна из основных причин возрастающего однообразия культур — интенсивное коммерческое давление для максимизации прибыли в условиях массовой конкуренции. Так, деятельность, направленная на увеличение плотности насаждений для повышения производительности земли, способствовала применению видов, которые допускали густые посадки. Большая плотность насаждений, в свою очередь, увеличивала использование химических удобрений и, следовательно, выбор подвидов, известных высоким потреблением удобрений (особенно азота) и реакцией на него. Одновременно рост больших сетей супермаркетов с их установившейся стандартизированной практикой отгрузки, упаковки и выкладывания на прилавки неуклонно вел к подчеркиванию важности товаров, которые имели бы одинаковый размер, форму, цвет и, что называется, «бросались в глаза»[696]. В результате такого давления должно было выделиться небольшое число культур, которые подходили бы под эти критерии (при отказе от других).
К тому же единообразие легче обеспечить на полях с помощью механизации. Поскольку производственные цены на Западе, по крайней мере с 1950 г., предполагали замену наемных рабочих сельскохозяйственными машинами, фермер искал культуры, которые можно было бы выращивать с помощью механизмов, т. е. такие, строение которых не нарушалась тракторами и распылителями, которые и созревали бы одновременно и которые можно было собирать за «один проход» машины.
Приблизительно в то же самое время развивалась и техника гибридизации, но она была лишь короткой остановкой на пути создания нового многообразия культур, специально выводимых для механизации. «Генетическая изменчивость, — замечает Джек Ральф Клоппенберг, — является врагом механизации»[697]. В примере с кукурузой гибридизация — результат скрещивания двух диких культур — производит генетически идентичные особи, идеальные для механизации. Разновидности культур, разработанные с учетом механизации, были доступны уже с начала 1920-х годов, когда Генри Уоллис объединил свои силы с производителем механизмов по сбору урожая для обработки нового крепкоствольного вида кукурузы. Таким образом была развернута широкая область научной деятельности по выведению растений, названная «фитоинженерией» и ставившая своей целью приспособление естественного мира к обработке механизмами. «Не машины делаются для сбора урожая, — заметили два приверженца фитоинженерии. — На самом деле урожай нужно приспособить к машинной уборке»[698]. Сначала культуры приспособили к обрабатываемому полю, теперь их приспосабливали к машинам. «Машинодружественная» культура выводилась так, чтобы включить в нее ряд характеристик, облегчающих механический сбор урожая. Среди наиболее важных из них были упругость, сконцентрированность грозди плодов, одинаковость размеров растений и их строения, формы и размера плода, малорослость (особенно плодовых деревьев) и легкая собираемость плодов[699].
Выведение «помидора для супермаркета» Дж.К. (Джеком) Ханна в университете Калифорнии в Дэвисе в конце 1940-х и 1950-х годов — один из первых случаев, он весьма показателен[700]. Подстегиваемые нехваткой сельскохозяйственных рабочих в период войны исследователи одновременно приступили к изобретению комбайна и разведению помидоров, которые были бы приспособлены к нему. В итоге выводимые для этой цели гибриды были невысокими, вызревали одновременно, давали плоды одинакового размера с толстой кожурой, твердой мякотью и без трещин; их собирали зелеными во избежание повреждений при захватывании механизмами и с помощью этилена искусственно доводили до кондиции при транспортировке. В результате появились маленькие одинаковые зимние помидоры, продаваемые по четыре штуки в пакете, которые в течение нескольких десятилетий преобладали на полках супермаркетов. Вкус и пищевые качества были вторичны по отношению к совместимости с машинами. Или, скажем помягче, селекционеры делали все, что могли, чтобы вывести лучший сорт помидоров при самых жестких ограничениях механизации.
Императивы максимизации прибыли и, следовательно, в нашем случае механизации урожая потребовали преобразования и упрощения и поля, и культуры. Негибкие, неизбирательные машины лучше всего работают на ровных полях с идентичными растениями, дающими одинаковые плоды той же самой спелости. Для достижения этого идеала была использована агрономическая наука: большие, точно подобранные поля; одинаковая ирригация и подбор питательных веществ для регулирования роста растений; обильное использование гербицидов, фунгицидов и инсектицидов для поддержания одинаковой силы растений и прежде всего селекция растений для создания идеального культурного сорта.
Непредвиденные последствия упрощений
Изучая историю наиболее мощных эпидемий культур, начиная с картофельного бедствия в Ирландии в 1850 г., комитет Национального Исследовательского Совета Соединенных Штатов заключил: «Эти перечисления ясно показывают, что монокультурные и генетически однообразные посевы способствуют распространению эпидемий. Недостает только появления паразита, который может воспользоваться их уязвимостью. Если вся культура одинаково подвержена заболеванию, тем лучше для паразита. Таким образом вирусные болезни опустошили поля сахарной свеклы (пожелтение листьев), персиков (пожелтение листьев), картофеля (скручивание листьев и вирусы X и Y), какао (разрастание побегов), клевера (внезапное высыхание), сахарного тростника (мозаичная болезнь) и риса (hoja blanca)»[701]. После того, как болезнь листьев кукурузы нанесла огромный ущерб урожаю в 1970 г., была созвана комиссия для исследования генетической уязвимости основных культур. Один из первых селекционеров гибридной кукурузы Дональд Джонс предсказал проблемы, которые может принести потеря генетического разнообразия: «При благоприятных условиях окружающей среды генетически однородные чистопородные сорта отличаются высокой урожайностью и хорошо защищены от вредителей всех видов. Когда же внешние факторы неблагоприятны, результат может оказаться гибельным ... ввиду появления какого-то нового опасного паразита»[702].
Логика эпидемиологии сельскохозяйственных культур в принципе проста. У всех растений есть некоторая сопротивляемость болезнетворным микроорганизмам, в противном случае и они, и микроорганизмы (если бы они паразитировали только на этих растениях) исчезли бы. В то же время все растения подвержены действию определенных микроорганизмов. Если поле засажено только генетически идентичными особями, простыми гибридами или клонами, то каждое растение уязвимо одинаково и для того же самого микроорганизма, будь это вирус, грибок, бактерия или нематода[703]. Такое поле — идеальная среда для быстрого размножения микроорганизмов при питании этой культурой. Единообразная среда обитания, особенно такая, где слишком густые посадки растений, вызывает действие естественного отбора, благоприятствующего таким микроорганизмам. С поправкой на сезонные условия размножения микроорганизмов (температура, влажность, ветер и т. д.), налицо классические условия для роста эпидемии в геометрической прогрессии[704].
Напротив, разнообразие — враг эпидемий. В поле с растениями нескольких видов только некоторые из них будут восприимчивы к данному микроорганизму, да и те будут удалены друг от друга. Так нарушается математическая логика эпидемий[705]. Использование монокультур, как отмечено в докладе комитета Национального Исследовательского Совета, заметно увеличивает риск заболеваемости, поскольку все растения одного и того же вида имеют одинаковый генетический аппарат. Там же, где поле засажено генетически разнообразными видами, риск значительно уменьшается. Использование разнообразия культур и смена места их посадок с течением времени, как в севообороте или при смешанном возделывании культур, служит преградой распространению эпидемий.
Современную практику обработки полей пестицидами, которая развилась за последние пятьдесят лет, следует рассматривать как составную часть этой генетической уязвимости, а не как научное достижение. Простые гибриды настолько однородны и, следовательно, склонны к заболеванию, что надо предпринимать титанические усилия для контроля окружающей среды, в которой они произрастают. Такие гибриды аналогичны больному человеку с пораженной иммунной системой, который должен содержаться в стерильной палате, чтобы опасная инфекция не захватила его врасплох. В нашем случае стерильность поля создается всеохватывающим использованием пестицидов[706].
Кукуруза, наиболее широко распространенная культура в Соединенных Штатах (85 млн акров в 1986 г.)[707] и первая из культур, для которой вывели гибрид, обеспечила почти идеальные условия для насекомых, болезней и сорняков. Соответственно широко использовались пестициды: для обработки кукурузы на это уходила третья часть всего рынка гербицидов и четвертая часть инсектицидов[708]. Одним из долгосрочных эффектов, который был легко предсказуем теорией естественного отбора, стало появление устойчивых видов насекомых, грибов и сорняков, требующих или больших доз обработки, или нового набора химических веществ. Некоторые микроорганизмы, что опять-таки было предсказуемо, развили то, что называется «перекрестным сопротивлением» целому классу пестицидов[709]. Чем больше поколений микроорганизмов было подвергнуто воздействию пестицидов, тем выше вероятность появления устойчивых к ним видов. Кроме тревожащих последствий использования пестицидов для органического состава почвы, качества грунтовой воды, здоровья человека и сохранности экосистемы, пестициды обострили некоторые существовавшие болезни культур и создали новые[710].
Как раз перед заболеванием листьев кукурузы на Юге в 1970 г. 71% всей площади для нее был засеян только шестью гибридами. Специалисты, исследующие эту болезнь, выражающуюся в увядании и опадании листьев без гниения, указали на особое воздействие механизации и однородности продукта скрещивания, которое вело к радикально более узкой генетической основе культуры. «Однородность, — утверждалось в докладе, — является ключом к объяснению»[711]. Большинство гибридов было выведено при стерилизации мужских особей методом, использующим «техасскую цитоплазму». Именно эта единообразная группа и подверглась нападению грибка Helminthosporium maydis; те же гибриды, которые были созданы без техасской цитоплазмы, пострадали мало. Микроорганизм не был нов; в докладе комитета Национального исследовательского совета предположено, что он, вероятно, существовал уже тогда, когда Скванто показывал пилигримам, как выращивать кукурузу. Но, возможно, H. maydis с течением времени способствовал появлению более опасных мутантов. «Американская кукуруза была слишком изменчива, чтобы предоставить новому мутанту хороший плацдарм»[712]. Что действительно было ново, так это уязвимость культуры, родной континенту.
Доклад снова подтвердил тот факт, что «самые главные культуры особенно генетически единообразны и восприимчивы [к эпидемиям]»[713]. Открытием, которое позволило получать новые виды, менее подверженные заболеваниям, оказалась экзотическая зародышевая плазма из редкой мексиканской породы растений. В этом и многих других примерах именно генетическое разнообразие, созданное длинной историей выведения пород неспециалистами, показало путь к верному решению[714]. Подобно формальному порядку запланированной части Бразилиа или коллективного сельского хозяйства, существование современного упрощенного и стандартизированного сельского хозяйства зависит от «темного двойника» — неофициальных методов и опыта, на которых оно в конечном счете и паразитирует.
Катехизис высокомодернистского сельского хозяйства
Модель и направление американского сельскохозяйственного модернизма непререкаемо главенствовали в течение трех десятилетий — с 1945 по 1975 г. Это была преобладающая «экспортная модель». Были начаты сотни проектов ирригационных сооружений и дамб, скопированных на скорую руку с сооружений проекта управления ресурсами долины Теннеси; с большой помпой было заложено много обширных дорогостоящих сельскохозяйственных систем и задействованы тысячи консультантов. Преемственность в кадрах была такой же, как и в идеях. Экономисты, инженеры, агрономы и проектировщики, которые служили в Теннесийском проекте, Министерстве сельского хозяйства США или в Министерстве финансов, перешли в Организацию Объединенных Наций, в Департамент продовольствия и сельского хозяйства, прихватив с собой свой опыт и идеи. Сочетание американской политической, экономической и военной гегемонии, обещание ссуд и помощи, беспокойство относительно обеспечения продовольствием народонаселения всего мира, а также большая продуктивность американского сельского хозяйства — все это придало такую уверенность американской модели, значение которой трудно переоценить.
Находились скептики, подобные Рейчел Карсон, которые усомнились в этой модели, но их голоса утонули в громком хоре оптимистических пророков, видевших впереди только необозримое блестящее будущее. Типичной для подобного оптимизма была статья Джеймса Б. Билларда «Больше продовольствия для растущих миллионов людей: революция в американском сельском хозяйстве», которая появилась в журнале «National Geographic» в 1970 г.[715] Его видение хозяйства будущего, воспроизведенное на рис. 34, не было праздной фантазией; оно, как объясняется в статье, было спроектировано «под руководством специалистов Министерства сельского хозяйства США».
Текст Билларда — подлинная ода механизации, научным чудесам и огромным масштабам. По его мнению, для воплощения всего этого достаточно упрощения ландшафта и централизации управления. Поля будут больше, деревьев будет меньше, меньше будет ограждений и дорог; участки станут в «несколько миль длиной и в сотни ярдов шириной»; «управление погодой» предотвратит ливни и торнадо; атомная энергия «сравняет холмы» и добудет ирригационные воды прямо из морей; спутники, чувствительные приборы и самолеты обнаружат места эпидемий растений,а в это время фермер будет находиться на своем контрольно-диспетчерском пункте. На эксплуатационном уровне кредо экспортного американского сельского хозяйства включало те же самые фундаментальные убеждения. И экспортеры, и огромное большинство их нетерпеливых клиентов видели только следующие факты: превосходную техническую эффективность крупномасштабных хозяйств, большое значение механизации для экономии рабочей силы и преодоления технических препятствий, превосходство монокультурности и гибридов над разнообразием пород, а также преимущества сельского хозяйства с высоким вложением затрат, включая химические удобрения и пестициды. Кроме того, они охотнее верили в большие интегрированные и запланированные проекты, чем в постепенные усовершенствования, частично потому, что большие капиталоемкие схемы можно было планировать, как и простые технические разработки, подобные совхозу, который был спланирован в гостиничном номере Чикаго.
[[d-s-djejms-skott-blagimi-namereniyami-gosudarstva-35.jpg][Рис. 34. Картина фермы будущего, созданная Дэвисом Мельцером «при содействии специалистов Департамента США по сельскому хозяйству». Опубликована в одном из номеров «National Geographic» за 1970 г. В заметке подробно рассказывается о ферме начала XXI в.: «Поля зерновых протянулись подобно скоростным трассам, а загоны для скота напоминают квартирные комплексы... К современному зданию управления фермы примыкает контрольная башня с круглым куполом, в котором расположены компьютеры, датчики погоды, телетайп. Дистанционно управляемый комбайн скользит по рельсам по десятимильному пшеничному полю. Рельсы уменьшают давление тяжелой машины на почву. Обмолоченное зерно ссыпается в пневматические трубы, идущие вдоль границ поля, и по ним перекачивается на хранение в элеваторы, Та же машина, что собирает зерно, готовит землю для нового урожая. Аналогичное устройство поливает расположенные по соседству с пшеничным полем посевы соевых бобов. Вертолет разбрасывает инсектициды.
Расположенные рядом со служебной дорогой конические мельницы измельчают корм для скота, содержащегося для экономии места в многоуровневых загонах. Корм перекачивается в загоны по трубам и автоматически распределяется. Центральный подъемник перемещает животных вверх или вниз по мере того, как дренажная система смывает навоз для переработки в удобрение. Расположенный рядом с дальним загоном мясоперерабатывающий комбинат упаковывает говядину в специальные цилиндрические сосуды для перевозки на рынки вертолетами или по монорельсовой дороге. Освещаемые пластиковые купола обеспечивают управляемую среду для выращивания высокоценных растений, таких как клубника, помидоры и сельдерей. Расположенная вблизи озера рядом с зоной отдыха водонапорная станция обеспечивает ферму водой.» ]]
Чем больше индустриального содержания было в схеме, чем большая часть окружающей ее среды могла быть преобразована в единообразную структуру (через управляемую ирригацию и удобрения, использование тракторов и комбайнов, обработку ровных полей), тем меньше оставалось места непредвиденным обстоятельствам[716]. Местные почвы, пейзаж, рабочая сила, орудия труда и погода не имели никакого отношения к этим заранее созданным проектам. В то же время системы, продуманные в соответствии с этими направлениями, подчеркивали техническую компетентность разработчиков, возможность централизованного управления и, не в последнюю очередь, значение «модульности» проекта, который мог быть привязан почти к любому месту. Для местных руководителей, страстно желающих иметь современный показательный проект, который они могли бы контролировать, преимущества таких проектов были очевидны.
Грустная судьба огромного множества этих проектов, частных или государственных, отражена во многих официальных документах[717]. В большинстве случаев они потерпели неудачу несмотря на щедрые субсидии и кредиты, а также сильную административную поддержку. Хотя каждая неудача имела свои особенности, для большинства задуманных проектов фатальным был уровень абстрактности. Как мы увидим далее, над пристальным вниманием к местному контексту возобладали импортированная вера и абстракция.
Модернистская вера и местная практика
Противоположность импортированной веры и местных условий можно исследовать, просто сравнивая некоторые положения катехизиса высокомодернистского сельского хозяйства с местными методами, явно противоречившими им. И, как мы увидим, вопреки ожиданиям современников, эти методы оказались научно глубокими и в некоторых случаях даже превосходящими программы ведения сельского хозяйства, которые настоятельно советовали или даже навязывали сельскохозяйственные реформаторы.
Моно- и поликультурные посевы
Ничто лучше не проиллюстрирует близорукость кредо высокомодернистского сельского хозяйства, зародившегося в умеренном поясе и принесенного в тропики, чем его непоколебимая вера в превосходство монокультурной практики над практикой поликультурного хозяйства, которая имела место в большинстве стран третьего мира.
Так, изучая местные системы ведения сельского хозяйства Западной Африки, колониальные специалисты столкнулись с поразительно необычной для них практикой поликультурных посевов сразу четырех культур (не считая подвидов) на одном и том же поле[718]. Довольно показательный пример того, что предстало перед их взором, изображен на рис. 35. Наблюдатель с Запада видит в этом только небрежность и беспорядок. Поликультурные посевы не выдерживали визуального теста научного сельского хозяйства; следуя визуальной кодификации современной сельскохозяйственной практики, большинство специалистов посчитало без какого-либо дальнейшего эмпирического исследования, что наблюдаемый беспорядок был признаком засилия отсталых методов. Колониальные чиновники (а после получения колониями независимости и их местные преемники) развернули кампании, направленные на замену поликультурных посевов посадкой одной культуры.
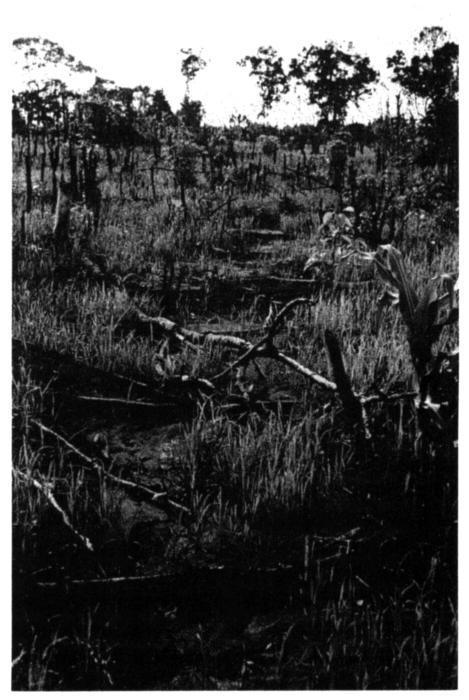
Мы постепенно пришли к пониманию весьма специфической логики места: характеристик тропических почв, климата и экологии, которые помогают объяснить назначение поликультурности. Разнообразие разновидностей, естественно встречающихся в тропическом окружении, при прочих равных условиях значительно превосходит разнообразие умеренной зоны. Акр тропического леса будет иметь гораздо больше видов растений, хотя и при меньшем количестве особей каждого из них, чем акр умеренной лесистой местности. В итоге неуправляемая природа в умеренной климатической зоне кажется более упорядоченной, потому что она менее разнообразна, и это, по всей вероятности, важно для визуальной культуры представителей Запада[719]. Ведя поликультурное сельское хозяйство, земледелец тропической зоны подражает природе в своих методах возделывания земли. Поликультурные посевы, подобно самому тропическому лесу, играют важную роль в защите бедных почв от эрозии из-за ветра, дождя и солнечного света. Кроме того, сезонность тропического сельского хозяйства больше ориентирована на период дождей, чем на температуру. По этой причине поликультурная стратегия позволяет фермерам подстраховываться, возделывая и засухоустойчивые культуры, и такие, которые могут превосходно использовать избыток влаги в случае осадков. Наконец, создание однородной управляемой сельскохозяйственной среды значительно труднее в тропическом окружении, чем в умеренном, и там, где плотность населения низка, привлечение трудовых ресурсов для террасирования или ирригации в строгом неоклассическом смысле этого слова неэкономично.
Здесь можно напомнить важное различие, отмеченное Джейн Джекобс, между визуальной организованностью,с одной стороны, и функциональным рабочим порядком, с другой. Городские новости в газете, кишечник кролика или двигатель самолета могут, конечно, выглядеть беспорядочными, но каждый из них отражает, иногда весьма блистательно, порядок, связанный с функцией, которую он выполняет. В таких случаях под видным глазу поверхностным хаосом таится более глубокий порядок. Разительный пример тому в растительном мире представляет собой поликультурность. Очень немногие колониальные специалисты сумели разглядеть за визуальной беспорядочностью логику. Миколог Говард Джонс, работавший в Нигерии, написал в 1936 г.:
[Европейцу] вся система кажется... смехотворной и нелепой, и в конце концов он, вероятно, заключил бы, что объединять различные растения подобным несерьезным образом так, чтобы они могут заглушать друг друга, просто глупо. И все же, если посмотреть на это более внимательно, можно найти причины для объяснения. Растения произрастают не случайно, а посажены на надлежащих расстояниях на земляных пригорках, приспособленных так, что во время ливня вода не затопляет растения, не размывает поверхность и не смывает плодородную почву... Земля всегда занята, не высушивается солнцем, не размывается дождем, что непременно произошло бы с ней, если бы она оставалась незасаженной... Это — всего лишь один из многих примеров, который должен предупредить нас об осторожности и внимании при вынесении вердикта местному сельскому хозяйству. Вся практика сельского хозяйства и представления здешних фермеров настолько новы для нас, что из-за собственного инстинктивного консерватизма мы имеем соблазн назвать их глупыми[720].
Проницательные наблюдатели заметили иную логику ведения сельского хозяйства и в других местах тропиков. Поразительный пример визуального порядка по сравнению с действующим был приведен Эдгаром Андерсоном на основе ботанического изучения сельской Гватемалы. Он понял, что казавшиеся «буйными» и совершенно стихийными заросли, которые никакой западный житель не принял бы за сады, при более близком осмотре оказались именно ими, причем их устройство было исключительно эффективным и хорошо продуманным. Андерсон сделал набросок одного из этих садов (рис. 36 и 37), а его описание логики, которую он в нем разглядел, стоит того, чтобы привести его достаточно подробно:
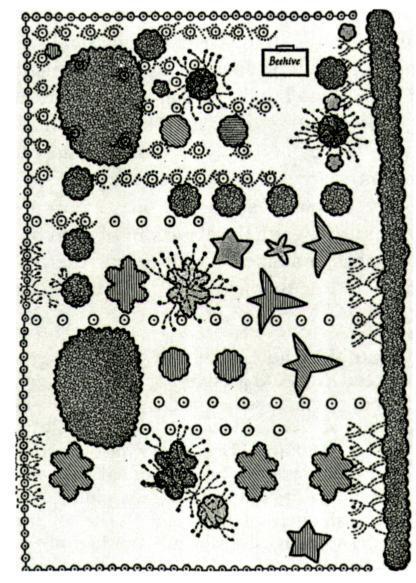
Хотя на первый взгляд в этом саду кажется довольно мало порядка, как только мы начали составлять его карту, мы поняли, что он был засажен довольно определенными рядами, образующими крестообразную сетку. В большом разнообразии в нем имелись местные и евронейские плодовые деревья: аннона, черимойя, авокадо, персики, айва, слива, инжир и несколько кофейных кустов. Здесь выращивались гигантские кактусы из-за их плодов. Были там большой куст розмарина, одно растение душистой руты, несколько пуансеттий и прекрасная вьющаяся чайная роза, а также целый ряд местного садового боярышника, из плодов которого, похожих на игрушечные желтые яблоки, делали изысканное варенье. Там были две разновидности кукурузы: одна — очень хорошо выдерживающая груз и служащая в качестве решетки для поднимающейся стручковой фасоли, которая только пошла в рост; другая — более высокая, выкидывающая метелки. Имелись экземпляры небольшого бананового дерева с гладкими широкими листьями, которыми местные жители пользовались вместо упаковочной бумаги, а также заворачивали в них кукурузный початок при приготовлении местного варианта горячего тамали. По всему саду вились буйные плети тыкв различных видов. Шайот, когда окончательно вызревает, имеет большой съедобный корень, весящий несколько фунтов. Яма размером с небольшую ванну, откуда недавно был выкопан корень шайота, служила местом сбора мусора и компоста из домашних отходов. В конце сада был маленький улей, сделанный из коробок и жестяных банок. По американским и европейским меркам это был огород, фруктовый сад и сад лекарственных растений, имелась мусорная свалка, компостная куча и пасека. Не было никакой проблемы эрозии, хотя сад находился на вершине крутого холма; фактически вся поверхность почвы была закрыта, и было очевидно, что так будет в течение почти всего года. Влажность обычно сохранялась в течение сухого сезона, и растения одинаковых сортов были так изолированы друг от друга зарастающей растительностью, что вредители и болезни не могли быстро распространяться. Поддерживалось и плодородие; вдобавок имелась компостная куча, а старые, отслужившие свой век растения закапывались в междурядьях.
Европейцы и европейские американцы часто говорят, что для индейца время ничего не значит. При более глубоком рассмотрении практики индейцев подобный сад кажется мне хорошим примером того факта, что они распределяют свое время более эффективно, чем это делаем мы. Сад непрерывно давал продукцию, но требовал очень малых усилий: выдернуть по пути несколько сорняков, когда кто-нибудь приходит набрать падалиц, посеять кукурузу и бобовые растения в междурядьях после окончательного сбора урожая с вьющихся бобови, кроме того, несколькими неделями позже посадить еще какую-нибудь новую культуру[721].
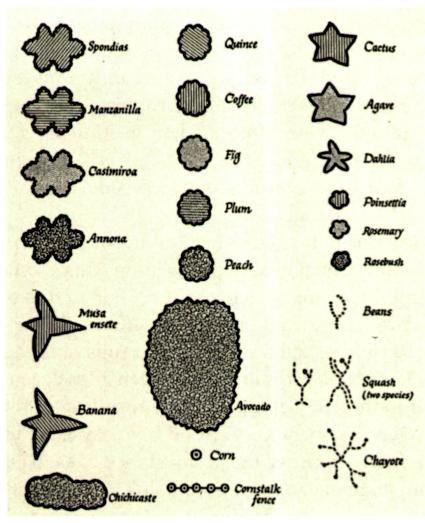
Подобно логике гватемальского сада, логика поликультурного земледелия жителей Западной Африки долгое время не признавалась из-за кажущейся примитивности, но в конце концов была принята. По сути дела, эти системы и исследовать-то стали отчасти потому, что многие монокультурные схемы ведения сельского хозяйства потерпели неудачу. Часто выгода была очевидна уже на уровне только продуктивности, и как только другие цели — сохранение, консервирование, надежность — были достигнуты, преимущества поликультурных систем оказались особенно впечатляющими.
Ведение различных форм поликультурных посевов является нормой для 80% сельхозугодий Западной Африки[722]. С учетом того, что мы уже знаем, это не должно вызывать удивления. Системы посадок смешанных культур лучше всего приспособлены к малоплодородным почвам, характерным для большинства земель Западной Африки. Использование их на таких почвах дает большую прибыль от урожая, чем на плодородных[723]. Одной из причин, по-видимому, является то, что в смешанных посадках оптимальная плотность насаждений больше, чем в посадках одной культуры, и итоговая густота (причины этого понять нелегко, но, в общем, они имеют отношение к действию корневых грибков) улучшает производительность каждой культуры. На более поздних стадиях посевов большая густота помогает также подавить сорняки, которые в противном случае являются главным бедствием в сельском хозяйстве тропиков. Так как техника смешения культур обычно комбинирует зерновые и стручковые культуры (маис и сорго, например, с вигной китайской и арахисом), каждая культура достаточно обеспечивается питанием — их корневые системы извлекают питательные вещества из разных уровней почвы[724]. Кроме того, оказывается, что в случае посменного сбора урожая отходы от первой собранной культуры используются оставшейся. Разнообразие в пределах одного и того же поля также идет на пользу здоровью культур, а, следовательно, и увеличивает урожай. Смешение культур и распределенная посадка ограничивают среду обитания различных вредителей, болезней и сорняков, которые иначе могут быстро распространяться, как это и происходит на участках с одной культурой[725]. Между прочим два специалиста, далеко опередившие уровень агрономической науки 1930-х — 1940-х годов, уже тогда предположили, что «систематическое изучение смешения культур и других местных методов могло бы привести к сравнительно незначительным изменениям в сельском хозяйстве Йорубы и других районов, которые в совокупности сделали бы больше для увеличения урожайности культур и плодородия почвы, чем революционный переход к растительным удобрениям или смешанному землепользованию»[726].
Поликультурность посевов имеет многоярусное влияние на урожайность культур и сохранение почвы. «Верхние этажи» затеняют «более низкие», отобранные по их способности хорошо расти при более прохладных почвенных температурах и повышенной влажности у основания. Ливень достигает земли не непосредственно, а как живительный душ, который поглощается с меньшим ущербом для структуры почвы и вызывает меньшую эрозию. Более высокие культуры часто служат ветровым заслоном для более низких. Наконец, в смешанном или севооборотном посеве на поле все время растет культура, скрепляющая почву и уменьшающая выщелачивание, связанное с действием солнца, дождя и ветра, особенно на бедной земле. Даже если поликультурным посевам не отдается предпочтения в ожидании непосредственного урожая, есть много оснований для рекомендации их в целях поддержания непрерывного долгосрочного производства.
Наше обсуждение смешанных посевов до сих пор касалось только проблем сохранения почвы и урожая. Оно не затрагивало самих земледельцев и их надежд на получение некоторых других результатов при использовании таких методов. Наиболее существенное преимущество смешения культур, утверждает Пол Ричардс, в его большой гибкости, «возможности, которые [оно] предлагает для большого числа нужных комбинаций, соответствующих индивидуальным потребностям и предпочтениям, местным условиям и изменяющимся обстоятельствам в пределах каждого времени года и от сезона к сезону»[727]. Фермеры могут совмещать различные культуры, чтобы избежать нехватки рабочей силы при посадке и сборе урожая[728]. Выращивание различных культур есть также очевидный способ уменьшить риск потери урожая и улучшить продовольственную безопасность. Земледельцы могут уменьшить опасность остаться голодными, если они посеют не просто одну или две какие-то культуры, а те, которые созревают быстро и медленно, засухоустойчивые и такие, которые прекрасно себя чувствуют при более влажных условиях, культуры, обладающие разной стойкостью к вредителям и болезням, которые можно хранить в земле с незначительными потерями (вроде маниоки), и культуры, созревающие в «голодное время» — до сбора урожая других культур[729]. Наконец, что, возможно, наиболее важно, каждая из этих культур включена в определенный набор социальных отношений. Разные члены хозяйства, очевидно, имеют различные права и обязанности по отношению к каждой культуре. Другими словами, практика растениеводства отражала социальные отношения, приобретенные потребности и кулинарные вкусы; она не представляла собой простую производственную стратегию, которую использовал бы предприниматель, заинтересованный в получении максимальной прибыли, беря ее прямо со страниц учебника по неоклассической экономике.
Высокомодернистские эстетика и идеология большинства колониальных агрономов и их преемников, обученных на Западе, исключали беспристрастную экспертизу местных методов земледелия, расценивавшихся как прискорбные предрассудки, которые нужно откорректировать с позиций современного научного сельского хозяйства. Критический анализ таких доминирующих идей, как высокий модернизм, появляется — если он вообще возможен — не внутри самой идеологии, а, как правило, со стороны, где точка отправления мысли и сделанные предположения, как это имело место в случае Джекобс, существенно другие. Так, разумность совмещения культур в значительной степени была доказана энергичными людьми вне истеблишмента.
Возможно, наиболее впечатляющей фигурой был Альберт Говард (позднее сэр Альберт), сельскохозяйственный исследователь, который более трех десятилетий работал на местные власти в Индии. Известный в связи с Индорским процессом — технологией создания перегноя из органических отходов, он в отличие от большинства западных агрономов был энергичным исследователем экологии леса и местных методов. Занятый прежде всего вопросами плодородия почвы и жизнеспособности сельского хозяйства, Говард заметил, что естественное разнообразие леса и местная практика поликультурных посевов успешно поддерживали и улучшали качество и плодородие почвы. Плодородие зависело не только от химического состава почвы, но и от ее структурных свойств: обработки (или структуры ее комочков), степени ее аэрации, способности сохранения влаги и «микоризальных ассоциаций», необходимых для создания перегноя[730]. Некоторые, хотя не все элементы этого сложного почвенного взаимодействия могли быть определены, в то время как на другие можно только указать — их не так легко оценить. Говард провел сложные эксперименты по производству перегноя, проверяя структуру почвы и ответную реакцию растений, и смог на испытательном поле продемонстрировать такой урожай, который превосходил все результаты, достигнутые стандартными западными методами. Однако его главной целью было не число бушелей пшеницы или кукурузы, полученных с акра земли, а жизнеспособность и качество культур и почвы на протяжении долгого использования.
Поликультурность проложила себе дорогу назад на Запад, хотя в защиту ее выступало незначительное меньшинство. Рейчел Карсон в своей революционной книге «Тихая весна», изданной в 1962 г., проследила разрушительное действие массированных доз пестицидов и гербицидов на монокультурные посадки. Проблема с насекомыми, объясняла она, проистекала из «предоставления огромных площадей земли для единственной культуры. Такая система закладывала основу для стремительного роста определенных популяций насекомых. Монокультурное сельское хозяйство не использует законы, по которым работает природа, это просто вмешательство в нее агроинженерии. Природа представляет большое разнообразие пейзажа, а человек выказывает страсть к его упрощению... Очень важно ограничить среду обитания для каждой разновидности насекомых»[731]. Точно так же, как Говард полагал, что монокультурность привела к потере плодородия почвы при возрастающем использовании химических удобрений (260 фунтов на акр в Соединенных Штатах в 1970 г.), так и Кареон доказывала, что монокультурность, порождающая бурное развитие популяции вредителей и их изменение при массированном применении инсектицидов, оказалась лекарством, которое хуже самой болезни.
Эти и некоторые другие причины дают хотя бы слабые указания на то, что некоторые формы ведения поликультурного хозяйства могут быть приемлемы как для западных, так и для африканских фермеров[732]. Здесь совсем не место попыткам демонстрировать превосходство поликультурного хозяйства над монокультурным, да я не компетентен в этом. Однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку все зависит от числа переменных, включая поставленные цели, посеянные культуры и условия микроокружения, в которых они были посажены.
Однако я действительно пытался показать, что поликультурность, даже при узких, ориентированных только на получение необходимой продукции основаниях, одобренных западной агрономией, заслужила, по крайней мере, эмпирическую экспертизу просто как одна из многих сельскохозяйственных направлений. То, что она была без долгих рассуждений отклонена кучкой жуликоватых агрономов, было данью мощи империалистической идеологии и визуального эстетизма сельскохозяйственного высокого модернизма.
Пример с поликультурностью также имеет отношение к проблеме, важной как для сельскохозяйственной практики, так и для социальной структуры, проблеме, над которой мы будем размышлять в оставшейся части книги: способности к приспособлению и долговечности разнообразия. Какими бы ни были другие достоинства или недостатки поликультурности, она является более устойчивой, легче приспосабливающейся формой ведения сельского хозяйства, чем монокультурность. Она, вероятнее всего, даст то, что экономисты называют доходом Хикса, — доход, который, не подрывая совокупности факторов производства, сохраняется без ограничения в будущем. И в то же время поликультурность более податлива и приспосабливаема, т. е. поликультурные посевы способны переносить непогоду и любой вред без опустошительных последствий. Одно недавнее элегантное исследование показало, что (по крайней мере до определенного момента) чем больше культур растет на данном участке земли, тем больше его производительность и регенерирующая способность[733]. Как мы уже знаем, поликультурные посевы более стойки к капризам погоды и вредителям, не говоря уже о благодатном влиянии на почву. Даже если считать, что монокультурность всегда дает превосходящий урожай, все же поликультурность следует рассматривать с точки зрения решающих долгосрочных преимуществ[734]. Приводившийся пример из области лесоводства имеет некоторую связь с сельским хозяйством: однопородные леса и в Германии, и в Японии привели к настолько серьезным экологическим проблемам, что для их спасения пришлось прибегнуть к восстановлению, чтобы реставрировать хоть что-то похожее на прежнее разнообразие (среди насекомых, во флоре и фауне), необходимое для здоровья леса[735].
Стоит отметить определенную параллель между разнообразием в сельском хозяйстве и лесоводстве и приведенным Джекобс примером разнообразия в городских кварталах. Чем сложнее структура квартала, рассуждала она, тем лучше он будет противостоять краткосрочным кризисам в делах и рыночных ценах. Кроме того, разнообразие обеспечивает много потенциальных возможностей для извлечения выгоды. В противоположность этому, узкоспециализированный квартал подобен игроку, ставящему все на один кон рулетки. Он либо много выигрывает, либо все теряет. Конечно, для Джекобс ключевым моментом в разнообразии кварталов является то, что оно благоприятствует человеческой экологии. Разнообразие структуры квартала обеспечивает в данном районе разнообразие товаров и услуг, а также сложных человеческих взаимосвязей; безопасное пешее движение; видимая простым глазом картина оживленности и удобства — все это находится во взаимодействии и делает преимущества такого положения вещей кумулятивными[736]. По-видимому, разнообразие и сложность, которые способствуют долговечности и приспособленности растительных систем, на другом уровне заставляют человеческие общины стать более подвижными и более удовлетворяющими запросы населения.
Постоянные поля и переложное земледелие
Большинство западноафриканских фермеров применяло ту или иную форму севооборота[737]. Называемое по-разному — «подсечно-огневое» земледелие, переложное, чередование пашни и пара — севооборотное земледелие представляло собой временное культивирование поля, расчищенного при вырубке и сжигании большей части растительности. После использования в течение нескольких лет поле забрасывалось и разрабатывался новый участок. Со временем, когда плодородие почвы восстанавливалось почти до прежнего состояния, поле снова возделывалось. Поликультурное хозяйство и минимальная обработка почвы часто объединялись с переложным земледелием.
Подобно поликультурности, переложное земледелие, как мы увидим, представляло собой рациональную, эффективную и жизнеспособную практику для почв, климата и социальных условий, где оно обычно применялось. В целом поликультурность и чередование возделываемых полей связаны между собой. В своем первом, подробном и все еще непревзойденном отчете о переложном земледелии на Филиппинах Гарольд Конклин[738] отметил, что на вновь расчищенном участке среднее число культур за один только сезон варьировалось от 40 до 60. В то же самое время переложное земледелие — исключительно сложная и, следовательно, весьма запутанная форма ведения хозяйства с точки зрения независимого государства и его консультантов по вопросам сельского хозяйства. Сами поля, то культивируемые, то под паром, при нерегулярных временных интервалах были «эфемерны» и едва ли представляли многообещцающий материал для кадастровой карты. Конечно, и сами земледельцы, периодически переезжая на вновь разрабатываемые земли, тоже были часто неуловимы. Регистрация или контроль такого населения, уже не говоря о превращении людей в успешно облагаемых налогоплателыциков, — просто сизифов труд[739]. Проект государства и сельскохозяйственных властей, как можно было видеть в Танзании, состоял в том, чтобы заменить это запутанное и потенциально мятежное пространство на постоянные поселения и долговременные (предпочтительно монокультурные) поля.
Переложное земледелие раздражало сельскохозяйственных модернизаторов любой расы еще и потому, что почти по каждому пункту оно нарушало их понимание того, как должно выглядеть современное сельское хозяйство. «Поначалу отношение к переложному земледелию было почти полностью отрицательным, — отмечает Ричардс. — Оно казалось плохим методом: варварским, небрежным и неправильным»[740]. Точно выверенная логика чередования культивирования не сильно зависела от среды, копируя, насколько и где это было возможно, многое из симбиотических сообществ местных растений. Это делало поля более похожими на нетронутую природу, чем на аккуратно вырезанные прямоугольники, к которым привыкло большинство сельскохозяйственных чиновников.
Другими словами, причиной внешних проявлений, которые так оскорбляли взгляд чиновников, занимающихся усовершенствованием, была экологическая предусмотрительность переложного земледелия. Практика смены обработанного поля паром имела много других преимуществ, которые тоже обычно не ценились по достоинству. Она поддерживала физические характеристики расположенных на возвышенностях почв, которые, будучи однажды нарушенными, очень трудно восстанавливались. Чередование возделываемых полей в тех местах, где земли было много, гарантировало долговременную стабильность подобной практики. Земледельцы, занимающиеся севооборотом, не выкорчевывали большие деревья или пни — эта традиция ограничивала эрозию и помогала почвообразованию, но расценивалась сельскохозяйственными чиновниками как небрежность. За некоторыми исключениями подсечно-огневые участки чаще возделывались мотыгой или тяпкой, а не плугом. Агрономам, ориентированным на западные формы земледелия, казалось, что фермеры просто «царапали» почву из-за прискорбного невежества или лени. Обнаружив системы сельского хозяйства, использующие глубокую вспашку и монокультурность, они считали, что встретили более продвинутое и трудолюбивое население[741]. Сжигание низкого кустарника, собранного в ходе очистки нового участка, также осуждалось как расточительство. Однако спустя некоторое время и неглубокое возделывание земли, и сжигание кустарника в поле были признаны чрезвычайно полезными; первый метод сохранял почву, особенно в тех областях, где шли сильные ливни,а второй сокращал популяции вредителей и обеспечивал культуры ценными питательными веществами. Фактически эксперименты показали, что сжигание кустарника в поле (без вывоза) способствовало улучшению урожаев в той же мере, что и продуманное регулярное выжигание[742].
На западный взгляд все это можно было выразить одним словом — отсталость: кучи кустарника, подготовленные для сожжения на невспаханных, плохо очищенных полях с торчащими пнями, поля засажены несколькими разными культурами, причем ни одна из них не посеяна прямыми рядами. И все же, по мере накапливания веских доказательств в пользу этих методов становилось понятно, что внешний вид был обманчивым, даже в отношении производительности. Как заключает Ричардс, «надлежащая проверка любой практики состоит в том, работает ли она в соответствующей окружающей среде, независимо от того, как она выглядит: передовой или отсталой. Проверка требует тщательно выверенных начальных и конечных данных. Если неглубокая вспашка на частично очищенной земле при прочих равных условиях дает лучшие результаты, чем соперничающие практики, и эти результаты могут быть проверены временем, то этот метод хорош независимо от того, был ли он изобретен вчера или тысячу лет назад»[743]. В первоначальном единодушном осуждении переложной системы даже не задумывались о том, что эта практика африканских земледельцев сильно отличается от обычного способа. Большинство фермеров комбинировало постоянные поля в поймах с подсечно-огневым земледелием на более слабых по структуре почвах склонов, нагорья или лесов. Считалось, что большинство земледельцев, ведущих переложное земледелие, выбирало столько методов возделывания культур от незнания лучшего.
Удобрение и плодородие
Лучшее удобрение на любой ферме — следы ног владельца.
Конфуций
Химические удобрения часто рекламировались как волшебное средство для улучшения бедных почв и повышения урожаев; консультанты по вопросам сельского хозяйства обычно рассматривали удобрения и пестициды как лекарство для почвы. На деле результаты их применения часто разочаровывают. Две главные причины для разочарования непосредственно относятся к нашей более широкой дискуссии.
Во-первых, рекомендации по применению удобрений являются неизбежно грубыми упрощениями. Их применимость к любому полю сомнительна, так как на карте классификации почв наверняка пропущено огромное число микроразновидностей их в пределах самих полей и между ними. Условия, при которых применяются удобрения, дозировка, структура почв, предназначенные для них культуры, погода, непосредственно предшествующая их применению, и та, которая была после, — все это может очень сильно повлиять на эффект от удобрений. Как заключает Ричардс, неизбежное различие ферм и полей «вероятнее всего, потребует более непредвзятого подхода от фермеров, самостоятельно занимающихся необходимым экспериментированием»[744].
Во-вторых, формулы удобрений страдают аналитической узостью. Сами формулы берут начало из работы замечательного немецкого ученого Юстуса Фрайхера фон Либига, который в классическом труде, изданном в 1840 г., перечислил главные химические питательные вещества, находящиеся в почве, и которому мы до сих пор обязаны за общераспространенный стандартный рецепт удобрения (N, P, K). Это блестящее научное достижение давало далеко идущие и, как правило, очень полезные результаты. Однако применение его иногда приносило неприятности в том именно случае, когда оно изображало «имперское» знание, т. е. рекламировалось как способ, с помощью которого могли быть восполнены все недостатки почвы[745]. Говард и другие ученые аккуратно продемонстрировали, что существует ряд переменных — физическая структура почвы, ее аэрация, глубина вспашки, перегной и соединения микроорганизмов, которые сильно влияют на питание растений и плодородие почвы[746]. Химические удобрения могут на деле настолько основательно окислить полезное органическое вещество, что‚ разрушат его комковую структуру и положат начало процессу‚ выщелачивания почвы и потере ее плодородия[747].
Здесь более важен основной пункт, чем детали: действующее почвоведение не должно ограничиваться знанием химических питательных веществ, оно должно охватывать элементы физики, бактериологии, энтомологии и геологии, и это только минимальный перечень. В идеале практический подход к удобрениям требует одновременно и общих междисциплинарных знаний, которыми вряд ли будет владеть каждый отдельный специалист, и внимания к особенностям данного конкретного поля, которое, вероятнее всего, будет уделять только фермер. Технологический процесс, сочетающий чисто химическое питание почвы с сетками их классификации, в итоге проходит мимо данного конкретного поля, он мало того, что неэффективен, он может принести страшный вред.
История «несанкционированного» новаторства
Большинство колониальных чиновников и их преемников были ослеплены высокомодернистскими намерениями, которые привели к выработке ошибочных предположений о развитии местного сельского хозяйства. Местный сельскохозяйственный опыт, значительно отличающийся от несвоевременных, статичных и негибких новых методов, постоянно пересматривался и приспосабливался к современным приемам. Частично эта приспособляемость шла за счет широкого репертуара методов, которые могли быть адаптированы, например, к ливням, почвам, уклону земли, рыночным возможностям и трудовым ресурсам. Большинство африканских земледельцев, как правило, использовало не одну только практику сезонного земледелия, но и многое другое, в частности «экзотические культуры» Нового Света. В итоге к разнообразной африканской растительности добавились кукуруза, маниока, картофель, стручковый перец и некоторые сорта бобовых и тыквенных растений[748].
Экспериментирование «на ферме», селекционирование и адаптация культур имеет, конечно, очень длинную историю и в Африке, и на других континентах. Этноботанике и палеоботанике удалось проследить вплоть до некоторых исторических деталей, как гибриды и разновидности, к примеру, основных культур Старого Света или кукурузы Нового Света были отобраны и размножены для различных целей и при различных условиях взращивания. Аналогичное наблюдение велось за теми растениями, которые размножаются вегетативно, т. е. быстрее отростками, чем семенами[749].
На самый беспристрастный взгляд есть много оснований рассматривать каждую африканскую ферму как экспериментальную станцию небольшого масштаба. Понятно, что любое сообщество земледельцев, вынужденное добывать средства для своего существования в скудной и изменчивой среде, редко пропустит возможность улучшить свое благополучие и снабжение продовольствием. Конечно, у всякого местного знания свои пределы. Местные земледельцы, прекрасно знающие свое окружение и его возможности, конечно, испытывали недостаток в информации, которую они могли бы получить с помощью таких достижений науки, как микроскоп, аэрофотосъемка и научная селекция растений. Им, как и многим другим земледельцам, не хватало технологий, позволяющих, например, создавать крупномасштабные ирригационные системы и высокомеханизированное сельское хозяйство. Как и крестьяне средиземноморского бассейна, Китая и Индии, африканские земледельцы могли и сами нанести ущерб своей экосистеме, хотя низкий удельный вес населения пока что удерживал их от этого[750]. Но большинство сельскохозяйственных специалистов, оценив обширность знаний местных фермеров, их деловой экспериментальный характер и готовность перенимать новые культуры и методы для своих нужд, согласились бы с Робертом Чамберсом в том, что «местное сельскохозяйственное знание, несмотря на то, что его игнорировали или не принимали эксперты-консультанты, является единственным источником информации, все еще не нашедшим применения в хозяйственном развитии»[751].
Ведомственные отношения в высокомодернистском сельском хозяйстве
Вероятно, преднамеренное презрение к местной компетентности, выраженное большинством сельскохозяйственных специалистов, было не просто итогом предубеждения (образованной городской и ориентированной на Запад элиты по отношению к крестьянству) или результатом эстетической предвзятости, также заложенной в высоком модернизме. Скорее всего, сущностью официальной позиции было установление привилегий. Предположить, что местные методы земледелия вполне разумны, пока не доказано противоположное, что специалисты и фермеры могут многому научиться друг у друга, что специалисты должны договариваться с фермерами как с полноправными политическими субъектами, означало бы подрывать установленный статус чиновников и власти вообще. Скрытая логика, лежащая в основе большинства государственных проектов сельскохозяйственной модернизации, была направлена на усиление власти центральных учреждений и уменьшение автономии земледельцев и их общин в отношении этих учреждений. Каждая новая действующая практика подгоняется к существующему распределению власти, благосостояния и статуса, и требования к сельскохозяйственным специалистам, чтобы они были независимыми работниками, не имея соответствующих прав, едва ли могут быть приняты всерьез[752].
Совершенно очевиден централизующий эффект советской коллективизации и деревень уджамаа. То же можно сказать и о тех больших ирригационных проектах, где властные структуры решают, когда пустить воду, как ее распределить и какую за нее взимать плату, или о сельскохозяйственных плантациях, где рабочая сила контролируется, как на фабрике[753]. Результатом такой централизации и такого контроля будет полная дисквалификация порабощенных крестьян. Это справедливо даже для семейных ферм в условиях либеральной экономики, такова по сути утопическая перспектива, которую обрисовал Либерти Хайд Бейли, растениевод-селекционер, выдающийся деятель сельскохозяйственной науки и председатель Комиссии по сельской жизни при Теодоре Рузвельте. Бейли заявил: «В сельской местности будут введены должности докторов растений, агрономов-селекционеров, почвоведов, специалистов здравоохранения, работников по обрезке и опылению, лесоводов, организаторов досуга, рыночных экспертов, ... [и] консультантов по ведению домашнего хозяйства, ... [все, кто] способен предоставить квалифицированный совет и руководство»[754]. Будущее, обрисованное Бейли, почти полностью организовывалось управленческой элитой: «Мы не должны представлять себе общество, полностью составленное из маленьких отдельных пространств „семейных ферм“, населенных людьми, которые просто всем удовлетворены; это означало бы, что все земледельцы станут чернорабочими. В сельской местности нам нужны люди, которые, обладая большими организаторскими способностями, могут действовать смело и ответственно; было бы очень скверно в социальном и духовном плане, если бы такие люди не могли найти себе адекватного приложения на земле и были бы вынуждены искать себе занятие в других сферах»[755].
Несмотря на эти полные надежды заявления и намерения, если тщательно исследовать многие из сельскохозяйственных новаций XX в., которые казались абсолютно техническимии, следовательно, независимыми, нельзя не прийти к выводу, что большинство из них способствовало созданию коммерческих и политических монополий, которые неизбежно уменьшали независимость фермера. Революция в растениеводстве, связанная с появлением гибридных семян (особенно кукурузы), дала именно этот результат[756]. Так как гибриды или бесплодны, или не размножаются «правильно», семенная компания, которая вывела исходные кросс-гибридные растения, имеет значительную собственность в производстве их семян, которыми она может торговать каждый год, в отличие от самоопыляющихся видов, которые фермер может выводить самостоятельно[757].
Подобная (хотя и не идентичная) централизующая логика применялась к дающим высокие урожаи (HYVs) разновидностям пшеницы, риса и кукурузы, выведенным за последние 30 лет. Их значительный вклад в урожай (сильно зависящий от культуры и условий взращивания) обусловлен счастливым сочетанием хорошего усвоения азота и наличия коротких жестких стеблей, которые предотвращали полегание культуры. Получение большого урожая этих видов требовало изобилия воды (обычно посредством ирригации), применения большого количества химических удобрений и периодического использования пестицидов. Механизация полевой подготовки и сбора урожая была также на высоком уровне. Как и с гибридами, недостаток биологического разнообразия на полях подразумевал, что каждое поколение HYVs наверняка подвергнется атаке грибков, ржавчины или насекомых, в результате потребуется покупка новых семян и новых пестицидов (так как у насекомых вырабатывалась сопротивляемость к ним). Иными словами, биологическая гонка за удобрениями и пестицидами при полной убежденности растениеводов и химиков в том, что они могут продолжать ее до победного конца, все больше отдает земледельца в руки общественных и частных специалистов. Как и в демократических аспектах политики Ньерере, те пункты исследования и политики, которые могли бы угрожать положению управленческой элиты, или не применялись вообще, или же, если применялись, то всячески тормозились при ее проведении.
Упрощающие предположения сельскохозяйственной науки
Подобная попытка при тоталитарном управлении — приглашение к беспорядку. И, кажется, правило таково: чем тверже и исключительнее круг обязанностей специалиста, чем строже контроль в пределах этого круга, тем больший беспорядок бушует вокруг. Можно в оранжерее выращивать летние овощи зимой, но при этом возникает зависимость от капризов погоды и появляется возможность неудачи там, где этого раньше не было. Осуществление такого контроля, с помощью которого саженец помидора растет в январе, намного проблематичнее, чем естественное регулирование, при котором в январе зимуют дуб или синица.
Узнделл Берри. Неустроенность Америки
Большинство положений государственных программ развития не было простой прихотью властной верхушки. Даже виллажизация в Танзании долго была объектом вполне логичного агроэкономического анализа. Проектам введения таких новых культур, как хлопок, табак, арахис и рис, как и планам механизации, ирригации и графикам внесения удобрений, предшествовали длительные технические исследования и полевые испытания. Почему же тогда такое большое число этих схем не сумело достигнуть результатов, которые предсказывались? Другой вопрос, тесно связанный с этим, к рассмотрению которого мы обратимся в следующей главе: почему так много удачных новаций в сельскохозяйственных методах и производстве исходят не от государственной инициативы, а непосредственно от самих земледельцев.
Выделение экспериментальных переменных
Как мне кажется, существенная часть проблемы заключается в систематических и необходимых ограничениях научной деятельности всякий раз, когда дело доходит до ее практического принятия разными группами практиков, работающих в весьма различных условиях. Это означает, что некоторые из проблемных ситуаций глубже, чем просто ведомственные стремления к центральному управлению, административные искажения или склонность к эстетически привлекательным, но неэкономичным показательным проектам. Даже при наилучших условиях опытные результаты и данные, полученные с экспериментальных участков исследовательских станций, далеки от того человеческого и естественного окружения, в котором они и должны найти свое приложение.
Исторически естественная деятельность научного сельскохозяйственного исследования в основном сосредоточивалась на экспериментах с перебором сельскохозяйственных культур, ставящих целью проверить урожайность разных видов. Позже предметом исследования стали и другие переменные: производительность при различных почвах и разнообразных условиях влажности, определение гибридов, противостоящих полеганию или допускающих по условиям созревания механическую уборку. В экологических исследованиях часто использовались те же методы: выделялись одна за другой переменные, которые могли бы вносить вклад, скажем, в биологическую устойчивость некоторого сорта фруктов по отношению к определенному вредителю.
Выделение небольшого числа переменных величин, в идеале всего двух, при контроле остальных является ключевым принципом постановки эксперимента[758]. Как процедура этот принцип одновременно и ценен, и необходим для научной работы. Только при радикальном упрощении экспериментальной ситуации удается гарантировать однозначные, поддающиеся проверке, объективные и универсальные результаты[759]. Один из первых основателей теории хаоса выразился следующим образом: «Физика содержит фундаментальное положение: способ, с помощью которого вы понимаете мир, состоит в том, что вы разбираете его на составляющие, пока не дойдете до тех, которые посчитаете действительно основополагающими. Тогда вы предполагаете, что остальные составляющие, которых вы не понимаете, — это детали. Допущение состоит в том, что число принципов, которые вы можете выявить, представляя вещи в их чистом виде — в виде чисто аналитического понятия, невелико, а когда приходится решать более сложные задачи, вы представляете их несколько более сложным образом. Если только сумеете»[760]. В сельскохозяйственном исследовании управление всеми возможными переменными, кроме тех, которые находились под наблюдением, требовало нормализации таких переменных, как погода, состав почвы и окружающая природа, не говоря уже о скрытых допущениях относительно размера хозяйства, наличия трудовых ресурсов и желаний самих земледельцев. Конечно, больше всего приближалось к идеалу контроля «лабораторное исследование»[761]. Однако даже сам по себе экспериментальный участок на исследовательской станции — радикальное упрощение: он до крайности усиливает контроль «в пределах маленького и сильно упрощенного замкнутого пространства» и игнорирует все остальное, «оставляя его полностью бесконтрольным»[762].
Легко видеть, как удобно в пределах этой парадигмы подходят друг другу монокультурность и забота об урожайности. Монокультурность исключает все, что может усложнить проект, а забота о больших урожаях позволяет избегать тернистых оценочных проблем, которые определенно возникли бы, если бы целью были определенное качество или вкус. Научное лесоводство становится наипростейшим, когда оно заинтересовано только в коммерческой древесине, получаемой от определенного вида деревьев. То же самое можно сказать о научном сельском хозяйстве, когда оно решает вопрос наиболее эффективного пути получения максимального числа бушелей зерна от одного гибрида кукурузы с «нормированного» акра земли.
При движении от лаборатории до опытного участка на экспериментальной станции, а затем к полевым испытаниям на реальных фермах экспериментальный настрой утрачивается. Ричардс обращает внимание на трудности исследователей в Западной Африке, заинтересованных в более практическом характере своих изысканий, но все же желающих как-то ослабить экспериментальные условия. После обсуждения вопроса о том, каким образом отобранные для испытаний фермы сделать однородными, чтобы представлять результаты в единой форме, исследователи продолжали сетовать на то, что экспериментальный контроль был утерян за пределами опытной станции. «Может оказаться трудным, — писали они, — повсеместно произвести посадку в течение нескольких дней и почти невозможным найти фермерские участки с одинаковой почвой». И продолжали: «Другие типы помех, такие как нападения вредителей или плохая погода, могут заставить выполнять иные процедуры»[763]. Это, объясняет Ричардс, «полезное указание на одну из причин, в соответствии с которой „формальные“ научно-исследовательские процедуры на опытных станциях, усиливая контроль всех переменных, кроме одной-двух при направленном исследовании, „пропускают главный“ предмет беспокойства многих мелких фермеров. Основная забота фермеров -— как справиться с этими сложными помехами и незапланированными явлениями. С точки зрения ученого (особенно в связи с потребностью обеспечить четкие результаты для публикации), экспериментирование на ферме оборачивается трудноразрешимой проблемой»[764].
На том уровне, где наука сталкивается со сложным взаимодействием многих переменных одновременно, она начинает терять именно те характеристики, благодаря которым она и является наукой. Даже объединение многих узких экспериментальных работ, касающихся отдельных аспектов высокой сложности, в действительности не даст того же самого целого. Повторюсь — это не выпад против экспериментальных методов современного научного исследования. Любое проведенное на ферме обширное исследование, не уменьшающее сложности взаимодействий, могло бы показать, что могут сделать фермеры, обладая набором методов, давших «хорошие результаты», например высокие урожаи. Но оно не способно изолировать ключевые факторы, ответственные за этот результат. Мое исследование признает силу и полезность научной работы в пределах ее сферы, а также признает ее ограниченность в работе с теми проблемами, для которых ее методы не подходят.
Слепые пятна
Возвращаясь к примеру с поликультурным ведением сельского хозяйства, можно понять, почему у ученых-агрономов имеются научные, эстетические и ведомственные основания для его неприятия. Сложные формы ведения межкультурных посадок подбрасывают слишком много переменных в одну игру, чтобы можно было однозначно экспериментально установить причинно-следственные отношения. Известно, что некоторые методы ведения поликультурного хозяйства, особенно комбинированные посадки бобовых растений, удерживающих азот, с зерновыми культурами, весьма продуктивны, но очень мало известно о природе взаимодействий, порождающих эти результаты[765]. Разбираясь в причинных связях, мы сталкиваемся с проблемами даже тогда, когда ограничиваем внимание одной переменной — урожаем[766]. Если мы ослабим это ограничение фокуса и начнем рассматривать более широкий диапазон зависимых переменных, таких как плодородие почвы, взаимосвязь с содержанием домашнего скота (фураж, удобрение навозом), совместимость с семейной рабочей силой и т. д., трудности сопоставления скоро станут не под силу научному методу.
Здесь характер научной проблемы аналогичен тому, что наблюдается в сложных физических системах. Изящно простые формулы механических законов Ньютона позволяют относительно легко вычислить орбиты двух небесных тел, как только нам даны их массы и расстояние между ними. Однако добавьте еще одно тело, и вычисление орбит, полученных в условиях взаимодействия всех тел, сильно усложняется. Когда же взаимодействуют десять тел (это — упрощенная версия нашей Солнечной системы)[767], причем их орбиты точно не повторяются, невозможно предсказать расположение системы тел на длительное время. С каждой новой введенной переменной число разветвляющихся взаимодействий, которые нужно учесть, растет в геометрической прогрессии.
Я думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что научное сельскохозяйственное исследование обладает свойством отбирать методы, лежащие в пределах его мощных технологий. К таким методам относится использование чистых культур для максимального увеличения урожаев. С позволения ведомственной власти сельскохозяйственные специалисты, подобно ученым-лесоводам, упрощали окружающую среду, подстраивая ее под свою систему знаний. Формы сельского хозяйства, которые соответствовали их модернистскому эстетизму и политико-административным интересам, тоже, как оказалось, надежно находились в границах их профессиональных научных занятий[768].
Как же быть с «беспорядком» вне царства экспериментального проектирования? Он может оказаться даже выгодным, когда усиливает желаемый эффект[769]. Ведь априори нельзя прогнозировать, какими будут экспериментальные результаты, существенно то, что они полностью лежат вне используемой модели.
Однако иногда эти результаты оказывались не только значительными, но и потенциально угрожающими. Впечатляющим примером периода между 1947 и 1960 г. было обширное повсеместное использование пестицидов, из которых самую дурную репутацию приобрел ДДТ. Распыляя его для уничтожения популяций москитов, надеялись уменьшить распространение многих болезней, которые переносят вредители. Экспериментальная база для определения концентраций дозировки и условий применения, требуемых для уничтожения популяций москитов, была в значительной степени ограничена. В сфере непосредственного действия модель была успешна: ДДТ убивал москитов и существенно уменьшал зону распространения малярии и других заболеваний[770]. Но, как мы с запозданием осознали, он имел и губительные экологические последствия, поскольку оставшийся после его применения осадок поглощался организмами по цепям питания, звеньями которых были, конечно, и люди. Последствия использования ДДТ и других пестицидов в почве, воде для рыб, насекомых, птиц и другой фауны настолько сложны, что мы все еще не исчерпали их до конца.
Слабое периферийное зрение
Часть проблемы состояла в том, что побочные эффекты постоянно множились. Действие первого порядка, например уменьшение или исчезновение местной популяции насекомых, вело к изменениям цветущих растений, что меняло среду обитания для других растений, грызунов и т. д. Другая часть проблемы была в том, что результаты действия пестицидов на другие виды были исследованы только при экспериментальных условиях. Хотя применение ДДТ и шло при реальных полевых условиях, как указала Карсон, ученые и понятия не имели, что интерактивные действия пестицидов проявлялись при их соприкосновении с водой и почвой и под влиянием солнечного света.
Мне думается, что осознание этих результатов взаимодействия, появившееся вне области самой научной парадигмы, и интересно, и симптоматично. Оно возникло, когда люди обнаружили, что количество певчих птиц заметно уменьшилось. Тревога общественности по поводу того, что перестало случаться по ту сторону окон, привела в конечном счете (с помощью научного исследования} к изучению, каким образом концентрация ДДТ в органах птиц привела к хрупкости яичных скорлупок и остановке в воспроизводстве потомства. Это расследование, в свою очередь, стимулировало множество связанных между собой исследований последствий использования пестицидов и, в конечном счете, к законопроекту, запрещающему применять ДДТ. В этом случае, как и в других, сила научной парадигмы потерпела поражение из-за проигнорированных внеэкспериментальных условий, которые, как это и произошло в данной ситуации, нанесли ответный удар.
Логика агроэкономического анализа сельскохозяйственной эффективности и прибыли также утверждает свою власть путем сужения поля зрения. Его инструменты используются с наибольшим преимуществом в исследовании микроэкономики фермы как фирмы. На основе своих заведомо упрощающих предположений о текущих производственных затратах, вложениях, погоде, использовании трудовых ресурсов и ценах агроэкономический анализ может показать, насколько рентабельным может оказаться использование конкретных механизмов, покупка ирригационного оборудования или взращивание той культуры, а не другой. Такие исследования, равно как и маркетинг, нацелены на демонстрацию масштабной экономики, достижимой с помощью больших высококапитализированных и высокомеханизированных производств. За пределами этой узкой перспективы остаются сотни соображений, которые непременно берутся в скобки примерно тем способом, что в экспериментальной практике. Но здесь, в агроэкономическом анализе, люди, принимающие подобный взгляд на вещи, имеют политическую возможность по крайней мере в ближайшее время не нести экономической ответственности за обширные и весьма устойчивые последствия их логики. Образ сельского хозяйства в Соединенных Штатах был четко обрисован в экономическом представлении Конгрессу в 1972 г.
Только в прошлом десятилетии было уделено серьезное внимание тому факту, что большая сельскохозяйственная фирма... не способна достичь определенных выгод без некоторых затрат. Неудобства крупномасштабной деятельности в значительной степени лежат за пределами управленческой структуры большой хозяйственной фирмы. Проблемы утилизации отходов, контроля загрязнения среды, дополнительных расходов на коммунальное обслуживание, ухудшения сельских социальных структур, уменьшения налогооблагаемой базы и политических последствий концентрации экономической власти обычно не рассматриваются фирмой как крупномасштабные затраты, а перекладываются на общество в целом. Теоретически крупномасштабная деятельность должна позволять фирме иметь широкий диапазон как расходов, так и выгод внутри ее собственной структуры принятия решений. На деле экономическая и политическая власть, сопутствующая крупномасштабному производству, испытывает постоянное тяготение к большим фирмам, чтобы извлекать выгоды и перекладывать затраты[771].
Другими словами, хотя деловые аналитики сельскохозяйственных фирм и имеют слабое периферийное зрение, политическое влияние, которым обладают подобные фирмы как индивидуально, так и сообща, могут помочь им избежать неожиданных ударов.
Близорукость
Почти все исследования, направленные на оценку новых решений, приносящих прибыль фермерам, — эксперименты, которые длятся один или, самое большее, несколько сезонов. Безусловно, логика, лежащая в основе подобного исследовательского проекта, состоит в том, что отдаленные эффекты не будут противоречить ближайшим результатам. Вопрос временной перспективы исследования вполне значим даже для тех, для кого вопрос максимального увеличения урожаев является чашей Грааля. Пока они заинтересованы исключительно в ближайших доходах от урожаев независимо от последствий своей деятельности, их внимание должно быть направлено на проблему надежности или на доход Хикса. Возможно, наиболее существенное фактическое различие будет не между теми, кто проводит сельскохозяйственную политику, помня о культурных и социальных задачах (таких, как сохранение семейной фермы, ландшафта или его разнообразия), и теми, кто хочет максимально увеличить производство и прибыль, а скорее между производителем, заинтересованным в ближайшем доходе, и производителем, имеющим долгосрочные планы. В конце концов, беспокойство об эрозии почвы и снабжении водой реже мотивировалось сохранением окружающей среды, чем обеспечением надежности производства.
Краткосрочная ориентация в изучении сельскохозяйственных культур и фермерской экономики приводит к исключению отдаленных результатов, которые интересуют производителей. Многие из претензий к поликультурному хозяйству, например, указывают на его чрезмерную длительность как системы производства. При испытании поликультурных посадок в течение 20 лет или более, как предложил Стивен Марглин, можно было бы вполне получить результаты, весьма отличные от полученных при испытаниях продолжительностью в сезон или два[772]. И вполне вероятно, что работа фермеров по открытому опылению и селекции в противоположность гибридизации позволила бы вывести культуры, примерно сравнимые по урожайности с лучшими гибридами и даже превосходящие их во многих других отношениях, включая доходность[773]. Прибыль (на бумаге) от научно организованных монокультурных лесов, как мы теперь понимаем, была достигнута в значительной степени за счет здоровья и производительности леса. Может быть, следовало бы (так как большинство ферм — семейные предприятия) более внимательно исследовать стабильную экономику, которая принимала бы за аналитическую единицу времени полный цикл одного поколения семьи[774]. Кажется, ничто в логике самого научного метода не требует, чтобы главным вопросом была ближайшая перспектива; скорее даже кажется, что такая перспектива является ответом на ведомственное и, возможно, коммерческое давление. С другой стороны, потребность выделить только несколько переменных, предположив все остальное постоянным и проигнорировав побочные эффекты взаимодействия, лежащие вне экспериментальной модели, вполне вписывается в научный метод. Это является условиями ясности, которой научный метод достигает в пределах своего поля зрения. Взятые вместе части пейзажа, закрытые в результате действующей научной практики слепым пятном, периферическим и отдаленным зрением, составляют внушительную часть реального мира.
Упрощенные методы научного сельского хозяйства
Некоторые урожаи более равны, чем другие
Современное сельскохозяйственное исследование вообще движется в таком направлении, в котором выход продукта с единицы вложений был бы основной заботой фермера. Предположение чрезвычайно удобное: подобно коммерческой древесине научного лесоводства, полученные родовые, гомологичные, однородные продукты потребления в итоге допускают как количественные сравнения объемов урожая при различных методах культивирования, так и совокупную статистику. Знакомые таблицы возделанной площади земли, урожаев с акра и общего объема продукции по годам, как правило, решающие показатели успеха в программе развития.
Но то допущение, что любой рис, всякая кукуруза и каждое просо «одинаковы», какими бы они ни были удобными, на самом деле несостоятельно относительно любой культуры, если только она не является в чистом виде товаром для торговли на рынке[775]. Каждый сорт зерна отличается не только особенностями выращивания, но и своими качествами. Среди некоторых народностей одни сорта риса выращиваются для приготовления только особых блюд, другие могут использоваться только для определенных ритуальных целей или в качестве местного финансового инструмента. К некоторым из сложных соображений, которые принимаются во внимание при различении видов риса по вкусовым качествам, можно приобщиться благодаря наблюдениям Ричардса в Сьерра-Леоне (Западная Африка):
Фраза типа «этот сорт риса плох в приготовлении» часто вмещает в себя диапазон свойств, связанных с хранением, приготовлением и потреблением, находящихся далеко за пределами субъективных вопросов «вкуса». Хорошо ли подходит рассматриваемый сорт к местной практике приготовления пищи? Легко ли он шелушится, полируется и размалывается? Сколько воды и топлива потребуется для его приготовления? Как долго можно его хранить до приготовления и после? Женщины народности менде утверждают, что сорта полированного болотного риса сильно теряют свои вкусовые качества при вторичном разогревании по сравнению с твердыми «нагорными» сортами риса. Верно выбрав сорт риса, можно сократить время, необходимое для приготовления пищи в рабочее время. Поскольку оно иногда занимает 3—4 часа в день (включая время, затраченное на очистку риса от шелухи, разведение огня и таскание воды), это не столь маловажный фактор при дефиците рабочей силы[776].
До сих пор нас интересовало только само зерно. Попробуем расширить кругозор и рассмотреть остальные части растений. Мы сразу увидим, что с выращиванием данного растения связано намного больше в плане практического использования, чем только со сбором зерна. Внимание крестьянки из Центральной Америки может привлечь не только количество и размер кукурузных початков, которые она собирает. Интерес для нее могут представлять также кукурузные кочерыжки, используемые для корма скоту и изготовления жестких скребущих щеток; шелуха и листья для обертки, соломы и фуража; стебли в качестве шпалер для вьющихся бобов, фуража, а также для временной ограды. Тот факт, что фермеры Центральной Америки знают намного больше сортов кукурузы, чем их коллеги в Кукурузном поясе Соединенных Штатов, частично связан с многообразием ее практического использования. Кукуруза может быть продана на рынке для любой из вышеуказанных целей и, таким образом, оценена и за другие качества, кроме зерновых початков. Это относится, по сути, к любой широко распространенной культуре. Различные части растения, полученные на различных стадиях его роста, могут быть использованы как бечевка, овощные красители, лекарственные припарки, для еды в сыром или вареном виде, как упаковочный материал, подстилка для скота или изделия для ритуальных или декоративных целей.
Получается, что даже с коммерческой точки зрения ценность растения не только в его плодах. Да и не всякое зерно разных видов и гибридов кукурузы и риса одинаково по качеству. Поэтому урожай семян по весу или объему может быть только одной из многих характеристик культуры,и, возможно, не самой важной для земледельца. Но как только научное сельское хозяйство или растениеводство начинает пытаться представить себе этот огромный диапазон ценностей и использовать его в своих собственных вычислениях, оно сразу оказывается в ньютоновской дилемме десяти небесных тел. И даже если бы оно было способно отразить хоть некоторые аспекты этой сложности в своих моделях, применение их изменялось бы самым неожиданным образом.
Опытные участки в сравнении с реальными полями
Как мы уже ранее отмечали, окружающая среда в каждой конкретной местности всегда неповторима. Всегда найдется что-то такое, что можно назвать проблемой перевода с характерной стандартизированной латыни Высокой Церкви, на которой написаны сообщения, рассылаемые из лабораторий и опытных станций для использования окрестным народом. Стандартизированные решения о полевых подготовительных работах, графики высадки растений и потребность в удобрениях всегда должны быть тщательно подготовлены, скажем, к каменистому, низменному, обращенному на север полю, с которого только что собрали два урожая овса. Как и всякие специалисты прикладной науки, сельскохозяйственные ученые на опытных станциях и консультанты по вопросам сельского хозяйства очень хорошо осознают эту задачу перевода. Вопрос всегда состоит в том, как найти и приспособить подходящие решения таким образом, чтобы они были полезны для фермеров. Когда эти находки или решения не просто навязываются, фермер сам должен решить, отвечают ли они его потребностям.
Подобно кадастровым картам, экспериментальные участки сельскохозяйственных опытных станций не могут отвечать за представление всего разнообразия и изменчивости фермерских полей. Исследователям приходится работать на основе стандартных предположений о почве, полевой подготовке, результатах прополки, осадках, температуре и т. д., принимая во внимание, что поле каждого фермера представляет собой уникальное стечение обстоятельств, действий и явлений, отдельные из которых известны заранее (состав почвы), а некоторые непредсказуемы (по годам). Взаимодействия этой и других переменных по крайней мере столь же важны, как и значение каждой из них; так, последствия раннего муссона на каменистой почве, которую только что пропололи, отличны от наблюдаемых на затопленной и заросшей сорняками земле.
Средние объемы и нормативы экспериментальной работы затеняют тот факт, что усредненные годовые характеристики погоды или стандартная почва — статистические фикции. Вот как это отмечает Уэнделл Берри:
Промышленная версия сельского хозяйства предполагает, что оно много раз в году ставит фермера перед одним и тем же рядом проблем, причем для каждой из них существует всегда одинаковое обобщенное решение, и, следовательно, это промышленное решение он может принять просто и без риска. Но это неправда. На хорошей ферме ввиду погодных условий и других так называемых переменных ни ежегодный набор проблем, ни любая из них отдельно никогда не бывают одинаковыми в течение двух лет. Хороший фермер (подобно хорошему художнику, футбольному защитнику, государственному деятелю) должен владеть многими вариантами допустимых решений, одно из которых он должен выбрать под воздействием условий ситуации и умело применить его в нужном месте и в верное время[777].
Почва, хотя она не так капризно изменчива изо дня в день, как погода, часто сильно меняется в пределах одного и того же поля. Существенные упрощения сельскохозяйственной науки требуют, чтобы сначала почва была классифицирована по небольшому числу характеристик, основанных на кислотности, уровне содержания азота и других свойствах. Для почвенного анализа отдельного поля необходимо было собрать образцы на нескольких участках этого поля и объединить их для анализа, таким образом он представляет средние характеристики почвы. Эта процедура неявно признает существенное изменение почвы по данному полю. Поэтому рекомендации по выбору удобрения не могут быть верными для любой части поля, но по сравнению с рекомендациями, основанными на других критериях, они будут в среднем «менее неверными» для поля в целом. Еще раз Берри предостерегает нас против подобных обобщений: «Большинство ферм и даже большинство полей различаются по видам и типам почв. Хорошие фермеры всегда это знали и использовали землю соответственно; они заботливо изучали ее растительное естество, состав почвы, а также ее структуру, уклон и дренаж. Они не пользовались обобщениями, ни теоретическими, ни методологическими или техническими»[778]. Если же к сложности и изменчивости состояний почвы добавить практику ведения поликультурного хозяйства, препятствия для успешного применения общей практической формулы станут фактически непреодолимыми. Те знания, которые мы имеем о допустимых пределах температуры и влажности для некоторых растений, вовсе не гарантируют, что они будут обязательно хорошо себя чувствовать в этом диапазоне. Обычное растение «ужасно привередливо к тому, где именно и в какое время оно будет произрастать и при каких точных условиях оно даст новые побеги, — объясняет Эдгар Андерсон. — Более сложная сторона дела — с какими растениями оно захочет или откажется соседствовать и на каких условиях — вообще никогда не разбиралась, кроме как при предварительном изучении нескольких растительных разновидностей»[779].
Обычно местные фермеры озабочены микроскопическими особенностями ландшафта и окружающей среды, считая их важными факторами в земледелии. Два примера из анализа сельского хозяйства Западной Африки, сделанного Ричардсом, могут служить иллюстрацией того, что мелкие детали слишком сиюминутны, чтобы быть заметными в пределах стандартизационной сетки. Среди сбивающего с толку разнообразия местных маломасштабных ирригационных методов Ричардс классифицирует по меньшей мере 11 различных видов, причем некоторые имеют подвиды. Все зависит от характеристик местной топографии, почвы, паводка, осадков и т. д., данный тип ирригации используется в зависимости от того, чем является территория: сезонно затопляемой дельтой реки, низиной, по форме схожей с блюдцем и имеющей бедный дренаж, или болотистой долиной, удаленной от границ. Эти маленькие «системы», использующие преимущество реального знания местности, сильно отличаются от обширных проектируемых схем, которые не прилагают никаких усилий, чтобы откорректировать технический план в соответствии с ландшафтом.
Второй пример Ричардса показывает, как западноафриканские фермеры аргументировали собственный выбор сорта риса для посадки, помогающий справиться с местными трудностями. Фермеры народности менде в одной части Сьерра-Леоне, не обращая внимания на советы учебника о сортах риса, которые следовало бы предпочесть, выбирали тот вариант, который имеет длинные колосковые ости (пучок щетинок, или щетинник) и шелуху (кроющая часть злака). Доводы учебника, вероятно, состояли в том, что такие сорта дают меньший урожай или что ость и шелуха просто добавят больше соломенной сечки, которую придется потом отвеивать после молотьбы. Фермеры же исходили из того, что длинные ости и шелуха мешают птицам склевывать большую часть риса до того, как его успевали приготовить для молотьбы. Такие детали, касающиеся ирригации или ущерба, наносимого птицами, существенны для местных земледельцев, но они игнорируются в амбициозных схемах современного сельскохозяйственного планирования.
Многие критики научного сельского хозяйства говорили не только о том, что оно постоянно поддерживает крупномасштабное производство, ориентированное на монокультуру, но и о том, что его исследовательские находки весьма ограниченно применяются на местах, поскольку все сельское хозяйство имеет локальный характер. Говард выдвигал аргументы в пользу совершенно иной практики, основывая ее на двух посылках. Первая состояла в том, что опытные участки не могут давать полезные результаты.
Маленькие участки и фермы — очень различные объекты. Невозможно руководить небольшим участком как отдельной единицей таким же образом, каким управляется хорошая ферма. Существенная связь между домашним скотом и землей потеряна; нет средств для поддержания плодородия почвы с помощью чередования культивируемых полей, что является правилом ведения хорошего хозяйства. Участок и ферма явно не имеют связи; участок даже не представляет собой всего поля, на котором он находится. Объединение полевых участков тоже не может решить сельскохозяйственную проблему, которую предполагается исследовать... Какие же преимущества можно получить, применив высшую математику к практике, которая по сути своей несостоятельна?[780]
Суть второй посылки Говарда в том, что многие из наиболее важных признаков хозяйства и состояния урожая являются качественными: «Может ли взаимодействующая система, например, подобная сельскохозяйственной культуре и почве, которая зависит от множества факторов, меняющихся от „недели к неделе“ и от „года к году“, когда-либо быть организованной так, чтобы давать количественные результаты, соответствующие расчету с математической точностью?»[781]. Как считает Говард, опасность состоит в том, что узко экспериментальный и исключительно количественный подход может полностью вытеснить другие формы местных знаний и сведений, которыми обладает большинство земледельцев.
Но, как мне кажется, Говард и другие исследователи упускают из виду наиболее важный вывод из экспериментальной работы в научном сельском хозяйстве. Как мы можем определить, насколько полезна эта исследовательская деятельность, пока мы не знаем, где применят ее результаты земледельцы? Полезной для чего? Ответ находится на уровне человеческого фактора, где научное сельское хозяйство строит свою самую большую абстракцию: создание шаблонной личности, рядового земледельца, заинтересованного только в получении наибольших урожаев при наименьших затратах.
Воображаемые и реальные фермеры
Не только погода, сельскохозяйственные культуры и почва сложны и изменчивы, это в полной мере относится и к фермеру. Год за годом, а зачастую и день ото дня миллионы земледельцев преследуют бесчисленное множество сложных целей. Эти цели и их постоянное переплетение бросают вызов любой простой модели или проекту.
Выгодное производство одной или более основных сельскохозяйственных культур, являющихся обычным стандартным набором сельскохозяйственного исследования, по-видимому, является единственной целью, преследуемой большинством земледельцев. Однако поучительно понаблюдать, как глубоко опосредствована эта цель другими целями, которые вполне могут подменить ее. Вот очень поверхностное изложение имеющихся сложностей.
Каждое фермерское семейство имеет свой уникальный ресурс земли, навыков, инструментов и рабочей силы, которые оказывают значительное влияние на ведение хозяйства. Рассмотрим только один аспект — обеспеченность трудовыми ресурсами: «богатое рабочей силой» хозяйство, с большим числом крепких молодых рабочих, может выращивать трудоемкие сельскохозяйственные культуры, соблюдать графики работ и устраивать подсобные ремесленные мастерские, недоступные хозяйствам с «бедной рабочей силой». Кроме того, семейное хозяйство проходит несколько стадий в ходе развития семейного цикла[782]. Фермеры, уезжающие на сезонные заработки, в соответствии со своим миграционным графиком могут выращивать сельскохозяйственные культуры раннего или позднего срока созревания или культуры, требующие небольшого ухода.
Как мы уже видели, прибыль от конкретного урожая может зависеть от большего числа факторов, чем сам урожай в зерне и его стоимость. Основной целью может быть стерня как фураж для домашнего скота или водоплавающей птицы. Важным может быть взращивание какой-то определенной культуры, если учитывать, что она дает почве попеременно с другими сельскохозяйственными культурами или как она помогает развитию другой культуры, с которой она смешана в посадках. Зерновая культура может менее цениться за свое зерно, чем за то, чем она снабжает: скажем, за сырье для кустарного производства, не важно, продается ли то сырье на рынке или используется дома. Семейства, имеющие доход, близкий к прожиточному минимуму, могут выбирать свои культуры исходя не из их доходности, а из того, насколько устойчивы их урожаи и можно ли будет пустить их на питание, если рыночные цены упадут.
До сих пор мы рассматривали сложности, которые можно представить, по крайней мере в принципе, сильно измененным неоклассическим понятием экономической максимизации, даже при том, что для этого потребовалось бы выработать довольно сложную модель. Но когда добавляются такие понятия, как эстетика, обряды, вкус, а также социальные и политические соображения, это уже невозможно. Существует множество совершенно рациональных, но внеэкономических причин для выращивания некоторого урожая определенным способом: то ли из-за желания поддерживать хорошие отношения с соседями, то ли потому, что конкретная культура связана с групповыми интересами. Такие характерные методы земледелия прекрасно сочетаются с коммерческим успехом, что наглядно демонстрирует опыт амишей, меннонитов и гуттеритов. Покуда имеется в виду высокий уровень абстракции «семейной фермы», на который работает научное сельскохозяйственное исследование, нужно обратить внимание на то, что в большей части мира принятие практических методов почти на любой ферме потребует определения целей всех членов семьи. Каждое семейное предприятие при более близком рассмотрении является партнерством, хотя обычно и неравноправным, с собственной внутренней политикой.
Наконец, понятия «фермер» и «фермерское хозяйство» в каждой своей составляющей столь же запутанны и изменчивы, как погода, почва и пейзаж. Их увязка даже более проблематична, чем, скажем, анализ почвы. Причина, я думаю, в том, что, хотя знания и опыт фермера иногда могут подвести его в оценке своей собственной почвы, его компетентность в своем собственном мнении и интересе сомнению не подлежит[783].
Сложность и гибкость методов землевладения по обычаю не могут быть пристойным образом загнаны в смирительную рубашку современного закона о земельной собственности, равно как и не могут быть достойно отображены на языке стандартов научного сельского хозяйства сложные мотивы и цели земледельцев и земля, на которой они ведут свое хозяйство. Схематические представления, столь важные для экспериментальной работы, могут породить (и уже породили) новые важные научные понятия, которые, соответственно прилаженные, были включены в большинство установившихся практик сельского хозяйства. Но такие абстракции, подобно абстракциям свободного землевладения, сильно искажают реальность, оказывая на нее обратное влияние. Их применяют лишь для организации исследования и получения результатов, наиболее подходящих к хозяйствам, которые удовлетворяют схематизации: это большие хозяйства, применяющие монокультурные посадки, механизированные, коммерческие, направленные исключительно на нужды рынка. Кроме того, такая стандартизация обычно связана с политикой налоговых стимулов, ссуд, ценовой поддержки, маркетинговых субсидий и, что существенно, с невыгодными условиями, навязываемыми не соответствующим схематизации предприятиям, и систематически способствует заталкиванию действительности в сетку стандартизованных наблюдений. Этот эффект несравним с шоковой терапией кампании советской коллективизации или деревень уджамаа, которые больше полагались на кнут, чем на пряник, но в перспективе такая мощная система может менять и действительно меняет картину реальности.
Сравнение двух сельскохозяйственных логик
Если реальная логика сельского хозяйства следует изобретательному практическому приспособлению хозяйственной практики к сильно изменчивой окружающей среде, то логика научного сельского хозяйства заключается в максимально возможном приспособлении окружающей среды к своим централизующим и стандартизирующим формулам. Благодаря изыскательской работе Яна Дауве ван дер Плега теперь можно пояснить, как работает эта логика на примере возделывания картофеля в Андах[784]. Ван дер Плег называет местную практику выращивания картофеля «кустарной»[785]. Земледелец, работая в исключительно разнообразной экологической среде, стремится не только успешно приспособиться к ней, но и постепенно ее улучшить. Знания и умения фермеров Анд позволили им добиться весьма ценных результатов как с чисто производственной точки зрения, так и с позиций надежности и сохранности урожая. Типичный фермер возделывает где-то от 12 до 15 отдельных участков на основе чередования земель[786]. Из-за широкого разнообразия условий (высота нахождения участка, почвенный состав, история его возделывания, наклон, ориентация к ветру и солнцу) каждое поле можно считать уникальным. В подобном контексте само представление о «стандартном поле» — пустая абстракция. «На одних полях выращивают только одну культуру, на других — от двух до десяти, иногда смешанных в одном и том же ряду,а иногда чередующихся рядами»[787]. Каждая культура по-своему полезна.
Разнообразие культур позволяет экспериментировать на местах с новыми сортами и гибридами, фермеры обмениваются ими и оценивают каждый из них, и многие полученные таким образом картофельные сорта становятся известными благодаря своим уникальным характеристикам. От появления нового сорта до его практического использования на полях проходит по меньшей мере пять-шесть лет. Каждый сезон предоставляет возможность нового раунда правильной работы, тщательно продуманной заранее, с учетом итогов урожая, цен, заболеваний картофеля и изменения условий на участке по сравнению предыдущим годом. Такие хозяйства представляют собой ориентированные на рынок опытные станции с хорошими урожаями, большой адаптируемостью и надежностью. Возможно, еще более важно, что эти хозяйства не только выращивают культуры — они воспроизводят фермеров и сообщества с навыками растениеводов-селекционеров, гибкой стратегией, экологическими знаниями, а также уверенных в себе и независимых.
Сравните логику такого «кустарного» производства картофеля с логикой, свойственной научному сельскому хозяйству. Процесс начинается с выбора растения идеального типа. «Идеал» определяется главным образом по урожаю. Затем профессиональные растениеводы-селекционеры начинают синтезировать сорта, которые можно объединить, чтобы сформировать новый генотип с желательными характеристиками. Тогда и только тогда сортовые растения начинают выращивать на опытных участках, чтобы определить условия, в которых будет реализован потенциал нового генотипа. Иными словами, основной метод научного сельского хозяйства является обратным кустарному производству в Андах, где земледелец начинает с участка, его почвы и его экологических данных, а только потом выбирает или совершенствует сорта, которые, вероятнее всего, будут хорошо расти в подобных условиях. В таком сообществе разнообразие культурных сортов в значительной степени отражает разнообразие как местных потребностей, так и экологических условий. В научном выращивании картофеля, напротив, отправной точкой служит новый сорт или генотип, при выращивании которого прилагаются все усилия, чтобы поле отвечало определенным требованиям генотипа.
Логика, при которой начинают с идеального генотипа и потом преобразовывают природу для согласования с условиями его роста, имеет некоторые предсказуемые последствия. Вся последующая работа по существу представляет попытку переделки фермерского поля для соответствия генотипу данного растения. При этом обычно требуются азотные удобрения и пестициды, которые должны быть приобретены заранее и применены в верное время. Как правило, также требуется режим полива, который, по-видимому, во многих случаях может обеспечить только ирригационная система[788]. Выбор времени для всех операций (посадка, возделывание, внесение удобрения и т. д.) скрупулезно регламентируется. Логика такой практики — логика, даже отдаленно не проверенная на земле, должна преобразовать всех земледельцев в «стандартных» фермеров, выращивающих определенный генотип на определенных почвах спланированных полей и руководствующихся инструкциями, напечатанными на семенных пакетах, об определенных удобрениях, пестицидах и требуемом объеме воды. Это и есть логика гомогенизации и действенного ограничения местного знания. На том уровне, где эта гомогенизация успешна, генотип, вероятно, короткое время будет преуспевать в смысле производственных достижений. И наоборот, там, где такая гомогенизация невозможна, генотип потерпит неудачу.
Если работа сельскохозяйственного специалиста состоит в том, чтобы довести фермерские участки до единого состояния, которое позволит проявить перспективы нового культурного сорта, нет нужды в дальнейшем обращать внимание на большое разнообразие условий (при неизменности некоторых из них) на фермерских полях. Гораздо удобнее попытаться навязать научную абстракцию полям (и жизни фермеров), чем собирать фактические данные снизу, осложняющие простое унитарное исследовательское решение. При неподатливом экологическом разнообразии Анд такое решение было бы гибельным[789]. Сельскохозяйственные специалисты редко задают себе вопрос (как это сделал задолго до революции русский агроном С.П. Фридолин), а не могли ли они в своей работе пойти неверным путем: «Он осознал, что его работа фактически наносила вред крестьянам. Вместо того, чтобы изучить местные условия и только потом внедрять сельскохозяйственную практику, подходящую для этих условий, он попытался «усовершенствовать» местные методы ведения хозяйства таким образом, чтобы они были сообразны абстрактным стандартам»[790]. Не удивительно, что научное сельское хозяйство склонно одобрять большие искусственные проекты и сооружения — ирригационные схемы, огромные спланированные поля, инструкции по применению удобрений, оранжерей, пестицидов, которые дозволяют гомогенизацию и управление природой, чтобы поддерживать «идеальные» экспериментальные условия для избранных генотипов.
Здесь, я думаю, скрыт еще более важный урок. Явный набор инструкций эффективен лишь в стандартных ситуациях. Чем статичнее и одномернее стереотип, тем меньше нужды в его творческой интерпретации и адаптации. В Андах, заключает ван дер Плег, «правила» обращения с новым сортом картофеля были настолько узкими, что оказались просто непереводимыми на разнообразные диалекты местного сельского хозяйства. Одна из главных целей государственных упрощений — коллективизации, конвейерных линий, плантаций и запланированных сообществ — свести действительность до такого наипростейшего состояния, чтобы правила были справедливы для большей части ситуаций и обеспечивали руководство к действию. На том уровне, где возможно подобное упрощение, те, кто создают правила, могут на деле снабжать руководством и инструкциями. Во всяком случае такова внутренняя логика социально-экономической и производственной деквалификации. Если окружающую среду можно упростить до такого состояния, где правила действительно играют столь большую роль, значит, те, кто формулирует эти правила, расширили свою власть и, соответственно, уменьшили власть всех прочих. На том уровне, где они преуспели, земледельцы с высокой степенью независимости, имеющие навыки, опыт, уверенность в своих силах и способность к адаптации, заменены на строго следующих инструкциям. Такое ограничение в разнообразии, действиях и существовании, по определению Джекобс, представляет своего рода социальную таксидермию.
Новый картофельный генотип, как показывает ван дер Плег, обычно терпит неудачу, если не сразу, то в пределах трех или четырех лет. В отличие от множества местных разновидностей, новый культурный сорт может быть успешным при более узком наборе окружающих условий. Другими словами, должно выполняться много ограничений, чтобы новый сорт дал хороший урожай, и если любое из этих условий выполняется не так, как надо (слишком долгая жара, поздняя доставка удобрения и т. д.), урожай сильно страдает. В течение нескольких лет новые генотипы «станут неспособными к воспроизводству продукции даже в малых количествах»[791].
Однако на самом деле большинство крестьян Анд не являются ни чисто традиционными земледельцами, ни бессмысленными последователями ученых специалистов. Наоборот, их методы представляют собой уникальные практические сплавы стратегий, которые отражают их цели, средства и местные условия. Если новые сорта картофеля соответствуют их целям, они могут посадить некоторые из них, но, вероятнее всего, они смешают их в посадках с другими сортовыми культурами, а также используют органическое удобрение или произведут вспашку плодородного травяного поля (люцерна, клевер), а не применят стандартный пакет удобрений. Они постоянно изобретают и экспериментируют с различными севооборотами, выбором подходящего времени и методами прополки. Но из-за именно этой особенности тысяч подобных «приусадебных экспериментов» и преднамеренного игнорирования их специалистами такая практика не рассматривается как научное исследование. Являясь по натуре политеистами, фермеры, когда дело доходит до сельскохозяйственной практики, быстро перенимают все, что кажется им полезным, из работы эпистемологической формальной науки. Зато ученые-исследователи, воспитанные монотеистами, кажутся почти неспособными к восприятию неформальных экспериментальных результатов практики.
Заключение
Не стоит удивляться тому огромному доверию к высокомодернистскому сельскому хозяйству, которое было у его приверженцев и специалистов-практиков. Это доверие обязано беспрецедентно высокой производительности сельского хозяйства на Западе, а также мощи и престижу научных и индустриальных революций. Поэтому не удивительно, что догмы высокого модернизма, как талисманы истинной веры, обычно принимались во всем мире некритически и с твердым убеждением, что именно они осветили путь к сельскохозяйственному прогрессу[792]. Я полагаю, что эта некритическая и, следовательно, ненаучная вера в факты и методы того, что стало кодифицироваться как научное сельское хозяйство, и несет ответственность за его неудачи. Логическим следствием слепой веры в квазииндустриальную модель высокомодернистского сельского хозяйства зачастую было явное неуважение к методам истинных земледельцев и к тому, чему можно было научиться у них. Поскольку истинно научный подход требует скептического и беспристрастного исследования этих методов, современное сельское хозяйство, будучи носителем слепой веры, проповедовало презрение к ним и в итоге неприятие.
Следовало более внимательно отнестись к деятельности реальных земледельцев в Западной Африке, да и вообще всех, экспериментирующих всю жизнь, ведущих сезонные опыты на своих приусадебных участках, результаты которых они объединяли в свой постоянно эволюционирующий набор методов. Поскольку эти экспериментаторы были окружены сотнями и тысячами других местных экспериментаторов, они делились исследовательскими находками и багажом знаний предыдущих поколений, систематизированных в народной мудрости, можно сказать, что они имели мгновенный доступ к внушительной исследовательской библиотеке. В то же время бесспорен и тот факт, что они выполняют большинство своих экспериментов без надлежащей проверки и потому предрасположены к ложным заключениям по поводу своих результатов. Они также ограничены в материалах для научных исследований; от них неизбежно ускользают наблюдаемые только в лаборатории микропроцессы. Также нет уверенности, что экологическая логика, которая, кажется, хорошо срабатывает на отдельной ферме на протяжении долгого периода, даст в совокупности надежные результаты для всего региона.
Однако с другой стороны — и это тоже важно — западноафриканские земледельцы имеют в своем распоряжении всю жизнь для скрупулезного наблюдения за местными условиями, а также превосходное, собранное по крупицам знание среды, на которое не может и надеяться никакой ученый-исследователь. И позвольте обратить внимание на то, какие они экспериментаторы. Их жизни и жизни их семейств напрямую зависят от результатов их полевых экспериментов. Учитывая эти важные преимущества их положения, можно было вообразить, что сельскохозяйственные ученые примут во внимание действительные знания этих фермеров. Неспособность ученых на это, утверждает Говард, является большим недостатком современного научного сельского хозяйства: «Подход к проблемам сельского хозяйства должен начинаться с поля, а не с лаборатории. Успех в открытии существенных фактов практически полный. При этом наблюдательный фермер и крестьянин, который всю свою жизнь прожил в близком контакте с природой, могут оказать наибольшую помощь исследователю. Мнения и взгляды крестьянства во всех странах достойны уважения; всегда есть серьезное основание для их методов; в некоторых вопросах, вроде культивирования смешанных видов, они до сих пор являются новаторами»[793] Говард поверяет большинство своих собственных результатов относительно почвы, перегноя и взаимодействия корней скрупулезными наблюдениями местной практики. И он с пренебрежением относится к тем сельскохозяйственным специалистам, которым «не приходилось делать выбор самим», т. е. тем, которым никогда не приходилось наблюдать свою собственную культуру от посадки до сбора урожая[794].
Откуда тогда антинаучное презрение к практическому опыту? Для него имеются по крайней мере три причины. Первая — «профессиональная», упомянутая ранее: чем больше знает земледелец, тем меньшую значимость представляют для него специалист и его ведомства. Вторая причина является простым следствием высокого модернизма, презрения к истории и прошлому опыту. Поскольку ученый всегда связан с современным опытом, а местный земледелец — с прошлым, который модернизм игнорирует, ученый полагает, что он не многому научится из этого источника. Третья причина состоит в том, что практическое знание представлено и кодифицировано в форме, непроницаемой для научного сельского хозяйства. С узко понятой научной точки зрения, ничего нельзя утверждать до тех пор, пока это не доказано в жестко управляемом эксперименте. Знание, которое приходит в любой форме из других источников, кроме как методов и средств формального научного процесса, не заслуживает серьезного внимания. Имперская претенциозность научного модернизма признает знание только в том случае, если оно приходит через апертуру, созданную экспериментальным методом для допуска информации. Традиционные методы, излагаемые на простом народном языке, заведомо выглядят не заслуживающими внимания, не говоря уже о их верификации.
И все же, как мы видели, земледельцы изобрели и усовершенствовали множество методов, которые позволяют получать нужные результаты в производстве урожая, защите от сельскохозяйственных вредителей, сохранении почвы и т. д. Постоянно наблюдая за результатами своих полевых экспериментов и сохраняя те методы, которые достигают цели, фермеры открыли и усовершенствовали практику ведения хозяйства без знания точных химических или физических причин своего действия. В сельском хозяйстве, как и во многих других сферах, «практика долгое время предшествовала теории»[795]. И в самом деле, некоторые из этих успешных способов действия, которые на деле учитывают большое число одновременно взаимодействующих переменных, никогда не могут быть полностью описаны научными методами. Поэтому мы обращаемся к более тщательному исследованию практического опыта, знания особого рода, которое во вред себе проигнорировал высокий модернизм.
Часть 4. Утерянная связь
9. Неадекватные упрощения и практическое знание: метис
Всякое сражение — Тарутинское, Бородинское, Аустерлицкое — совершается не так, как предполагали его распорядители. Это есть существенное условие.
Л.Н. Толстой. Война и Мир
Нам уже неоднократно приходилось наблюдать и в природе, и обществе провалы неадекватных и стереотипных упрощений, навязанных государственной властью. Утилитарная коммерческая и финансовая логика, приводящая к геометрически правильным монокультурным лесопосадкам одного возраста, наносила и серьезный экологический ущерб. Там, где шаблон применялся с наибольшей пунктуальностью, это привело в конце концов к необходимости восстановления многого из первоначального разнообразия сложной структуры леса или скорее создания «виртуального» леса, который подражал бы живучести и долговечности «донаучного» леса.
Запланированный «город, построенный в соответствии с наукой», претворенный в жизнь согласно небольшому числу рациональных принципов, для большинства его жителей оказался социальным крахом. Как это ни парадоксально, крах запланированного города часто предотвращался практическими импровизациями и незаконными действиями, которые полностью отсутствовали в плане, как это, например, имело место в Бразилиа. Бледная схематика Ле Корбюзье оказалась недостаточным средством для нормальной жизнедеятельности человеческого сообщества, равно как и логика, лежащая в основе научного леса, была неадекватным средством создания здорового и «преуспевающего» леса.
Любой крупный социальный процесс или событие неизбежно окажется более сложным для отображения, чем те схемы, которые мы можем разработать для них перспективно или ретроспективно. У Ленина, потенциального руководителя партии авангарда, были все основания для подчеркивания военной дисциплины и иерархии в проекте революции. После Октябрьской революции власти большевистского государства тоже имели все основания для преувеличения централизующей и прогнозирующей роли партии в организации революции. И все же, мы знаем, что революция была драматическим событием, зависящим больше от импровизаций, ошибочных действий и неожиданных удач, так блестяще описанных Львом Толстым в романе «Война и Мир», чем от тщательной отработки шагистики на плацу. И Ленин, и Люксембург тоже понимали это.
Упрощения сельскохозяйственной коллективизации и планируемого из центра производства были вполне сопоставимы в колхозах бывшего Советского Союза и в деревнях уджамаа Ньерере в Танзании. Здесь тоже схемы, которые не потерпели неудачу, сумели выжить в значительной степени благодаря отчаянным мерам, не только не предусмотренным, но и просто запрещенным государственным планированием. Таким образом, в российском сельском хозяйстве развилась неофициальная экономика, действующая на крошечных частных участках и с помощью «кражи» времени, оборудования и приспособлений из государственного сектора и поставляющая основную часть молочных продуктов, фруктов, овощей и мяса на российский стол[796]. Таким же образом насильственно переселяемые танзанийцы успешно сопротивлялись коллективному производству и возвращались назад к участкам, более подходящим для боронования и культивирования. Время от времени результатом упорного навязывания государственных упрощений в аграрной жизни и производстве был голод — примерами служат принудительная сталинская коллективизация или политика «большого скачка» в Китае. Однако в большинстве случаев государственные чиновники успевали остановиться раньше, чем проваливалась официальная система, и вынуждены были на многое закрывать глаза, если не прямо потворствовать множеству неформальных методов, что фактически и обеспечивало ее выживание.
Эти довольно-таки крайние примеры обширной, навязанной государством социальной перестройки иллюстрируют, я думаю, главный смысл формально организованной социальной деятельности. В каждом случае неизбежно неадекватная схематическая модель социальной организации и производства, положенная в основу планирования, не могла создать набор инструкций для воплощения успешного социального порядка. Упрощенные правила никогда не могут воспроизвести функционирующее сообщество, город или экономику. Чтобы удержаться, официальный порядок всегда до значительной степени паразитирует на не признаваемых формальной схемой неофициальных процессах, без которых он не мог бы существовать и которые не может сам создавать или поддерживать.
Поколения деятелей профсоюзного движения принимали на вооружение это понимание и использовали его как основание для забастовки в форме «работы строго по правилам». При такой забастовке (французы называют ее greve du zele) служащие начинают выполнять свою работу, методично соблюдая каждое из правил и инструкций и выполняя только те обязанности, которые указаны в условиях работы. Результатом, к которому они стремятся, является то, что работа тормозится вплоть до полной остановки или, по крайней мере, сильно замедляется. Служащие достигают результатов, оставаясь на работе и следуя каждой букве инструкций. Их акция также наглядно иллюстрирует, насколько сильнее действующее производство зависит от неофициальных договоренностей и импровизаций, чем от формальных рабочих правил. Например, в длительной акции «работы по правилам», направленной против фирмы «Катерпиллер», крупного производителя оборудования, рабочие перешли к неэффективным технологическим приемам, разработанным инженерами, понимая, что компания заплатит за это временем и качеством больше, чем если бы они продолжали применять свои более быстрые, уже давно изобретенные практические методы[797]. Они основывались на проверенном положении, что работа строго по инструкции неизбежно менее производительна, чем при проявлении инициативы.
Такой взгляд на социальный порядок отнюдь не открытие, скорее это социологический трюизм. Однако он дает ценную отправную точку для понимания, почему авторитарные высокомодернистские системы настолько потенциально разрушительныu. Они игнорируют, часто до полного подавления, практические навыки, без которых немыслима сложная деятельность. Моя задача состоит в том, чтобы осмыслить эти практические навыки, называемые по-разному: умением (знанием дела или arts de faire)[798], здравым смыслом, опытом, ловкостью или метисом. Что же это за навыки? Как они были получены, развиты и сохранены? Какое они имеют отношение к формальному гносеологическому знанию? Я надеюсь показать, что многие формы высокого модернизма заменили ценное сотрудничество между этими двумя сторонами знания «имперским» представлением науки, которое отвергает практическое умение как в лучшем случае незначительное, а в худшем — невежественное. В связи научного и практического знания, как мы увидим далее, отражается политическая борьба за учреждение гегемонии специалистов и их ведомств. В этом понимании тейлоризм и научное сельское хозяйство — стратегии не только производства, но и управления и присвоения.
Метис: контуры практического знания
Благодаря исследованиям Марселя Детьена и Жан-Пьера Фернана можно обнаружить в греческом понятии «метис» средства сравнения форм познания, заложенных в местный опыт, с более общим абстрактным знанием, используемым государством и его техническими ведомствами[799]. Прежде чем уточнить понятие и начать его использовать, обратимся к примеру, чтобы проиллюстрировать практический характер местного знания и заложить основу для дискуссии. Когда первые европейские поселенцы в Северной Америке столкнулись с вопросом, когда высаживать и как растить незнакомые культуры Нового Света, в частности кукурузу, они обратились за помощью к местному опыту своих соседей-индейцев. По одной легенде индеец по имени Скванто (по другой — индейский вождь по имени Массасоит) подсказал им, что высаживать кукурузу надо, когда молодые листочки дуба станут величиной с беличье ухо[800]. Каким бы фольклорным ни казалось звучание этого совета сегодня, в основе его точно подмеченное знание последовательности естественных событий весной в Новой Англии. Для индейцев это была упорядоченная последовательность событий, примерно такая: появляются всходы дикой капусты, затем распускаются листочки ивы, возвращается краснокрылый черный дрозд и появляется первый выводок поденки — вот приметы календаря весны. Несмотря на то, что сроки этих событий в каком-то году могли наступать раныше или позже, темп их следования мог быть замедлен или ускорен, очередность событий почти никогда не нарушалась. Как грубый практический метод он давал надежную, хотя и приближенную защиту от заморозков. Мы почти наверняка искажаем советы Скванто, так как колонисты, возможно, следовали им, сводя их до единственного наблюдения. Все, что мы знаем о местном практическом знании, говорит о том, что оно полагалось на отчасти избыточное объединение многих примет. Если другие признаки не подтверждали примету по дубовым листочкам, осторожный сеятель мог отложить посев на более поздние сроки.
Сравните эти рекомендации с другими, основанными на более универсальных единицах измерения. Типичное местное издание «Альманах фермера» дает нам подходящий пример. Оно предлагает высаживать кукурузу после первого полнолуния в мае или после конкретной даты, например 20 мая. В Новой Англии во всяком случае этот совет потребовал бы значительного уточнения в зависимости от широты и долготы. Дата, которая подходила бы для более южного штата Коннектикут, не подойдет для Вермонта; дата, которая будет верной для долин, окажется неправильной для возвышенностей (особенно для склонов, обращенных на север); дата, которая хорошо работает у побережья, не сработает внутри материка. Наконец, дата, указанная в альманахе, застрахована от неудачи, так как самое плохое, что могло бы случиться с издателем альманаха, — его рекомендации привели бы к неурожаю. В результате этой коммерческой осторожности, ради определенности сроков может быть упущено важное для развития растений время[801].
В противоположность этому, подход индейцев был локальным и туземным; он соответствовал общим особенностям местной экосистемы; он обращал внимание на листья дуба именно в этом месте, а не вообще. И независимо от специфических особенностей этот принцип прекрасно применяется везде, где есть дубы и белки. Точность, обеспечиваемая соблюдаемой последовательностью, почти всегда дает временной выигрыш в несколько дней роста, не сильно увеличивая риск посадок перед сильным морозом.
Практическое знание, подобное знанию Скванто, конечно, можно объяснить на более универсальном научном языке. Ботаник мог бы заметить, что рост первых дубовых листьев обусловлен состоянием почвы и температурой среды, которые дают надежду, что кукуруза взойдет и что вероятность убийственного мороза незначительна. То же самое могла бы подсказать средняя температура почвы на определенной глубине. Таким же образом математик начала XIX в. Адольф Кьютелет обратил внимание на обыденное событие: когда в Брюсселе зацветает сирень. После долгого и тщательного наблюдения он заключил, что сирень быстро расцветает, «когда сумма квадратов средних ежесуточных температур начиная с последнего мороза составит в целом цифру, соответствующую 4264°C»[802]. Вот уж это — определенное знание! Учитывая методы организации требуемых наблюдений, вероятно, это был весьма точный вывод. Но он едва ли применим практически. Шутливая формула Кьютелета наводит на размышления о признаках практичного местного знания: оно экономично и точно настолько, насколько нужно, не больше и не меньше.
Некоторые колебания я испытываю перед введением в данное обсуждение еще одного незнакомого термина — метис. Однако этот термин, как мне кажется, лучше передает имеющиеся в виду практические навыки, чем такие выражения, как «местное практическое знание», «народная мудрость», «практические навыки», «технэ» и т. д.[803]
Понятие «метис» пришло к нам от древних греков. Одиссея часто хвалили за то, что у него имеется в изобилии метис, который он использует, чтобы перехитрить своих врагов и вернуться домой. Обычно это слово переводится как «хитрость», «хитроумие». Хотя перевод и верен, он не дает возможности оценить диапазон знаний и навыков, представляемых этим словом. В широком смысле оно означает огромное множество практических навыков и приобретенных сведений в связи с постоянно изменяющимся природным и человеческим окружением. Метис Одиссея был очевиден не только в том, что он обманул Цирцею, циклопа Полифема и приказал привязать себя к мачте корабля для избежания соблазна Сирен, но и в сплочении своих людей, в восстановлении судна и в гибкой тактике вызволения своих спутников из многочисленных опасных ситуаций. Здесь подчеркивается не только способность Одиссея успешно приспосабливаться к постоянно изменяющейся ситуации, но и его умение понимать, и, следовательно, обманывать своих человеческих и божественных противников.
Все человеческие действия требуют значительного уровня метиса, но для некоторых необходимо формирование еще более высокого. Начиная с навыков, которые требуются для приспособления к капризному физическому окружению, на запасе метиса основывается приобретенное знание того, как управлять судном, запускать бумажного змея, ловить рыбу, стричь овцу, водить автомобиль или ездить на велосипеде. Каждый из этих навыков требует глазомера, который приходит в результате практики и умения «читать» волны, ветер или дорогу и соответствующим образом управлять своим поведением. Одним из важных указаний на то, что все они требуют метиса, является то, что их исключительно трудно преподать, не прибегая к непосредственной практике. Можно составить четкие инструкции, как ездить на велосипеде, но вряд ли можно себе представить, что такие инструкции позволили бы новичку поехать на велосипеде с первой попытки. Принцип «практика приводит к совершенству» был изобретен как раз для такой деятельности, поскольку непрерывные, почти незаметные приспособления, необходимые для езды на велосипеде, постигаются в процессе самой езды. Необходимое приспособление станет автоматическим только благодаря приобретенному «чувству» равновесия в движении[804]. Не удивительно, что большинство ремесел и профессий, требующих контакта с орудиями и материалами, традиционно требовали долгого ученичества для овладения ими.
Нет сомнений, что некоторые быстрее приобретают определенные умения, чем большинство других людей. Но, не касаясь этого малопонятного отличия (на которое часто указывают как на различие между компетентностью и гениальностью), езде на велосипеде, плаванию, ловле рыбы, стрижке овец и т. д. можно научиться только через практику. Поскольку каждая дорога, ветер, течение и овца различны и постоянно изменяются, хорошему практику, как Одиссею, придется набираться опыта во многих различных ситуациях. Если бы ваша жизнь зависела от корабля, прокладывающего путь при скверной погоде, вы, конечно, предпочли бы капитана с большим опытом вместо, скажем, блестящего физика, который умеет анализировать законы плавания, но никогда не управлял судном.
В качестве примеров людей, обладающих метисом, весьма показательны те специалисты, которые имеют дело с чрезвычайными ситуациями. Пожарники, отряды быстрого реагирования, медики скорой помощи, спасательные группы на авариях в шахтах, врачи в больничных отделениях экстренной помощи, команды, восстанавливающие поврежденные электролинии, отряды, гасящие пожары на нефтяных месторождениях, и, как мы увидим далее, фермеры и пастухи в непредвиденной окружающей обстановке должны быстро и решительно реагировать, чтобы свести к минимуму материальный ущерб или спасти человеческие жизни. Хотя и существует житейский опыт, которому можно обучить и который передается, каждый пожар или несчастный случай уникален, и половина занятых в такой битве людей знает, какие практические правила применить и в какой последовательности, а когда и отбросить эти правила и действовать на свой страх и риск.
Команда Реда Адаира, которая была собрана со всего мира для тушения пожаров на нефтяных скважинах, — яркий и показательный пример. Перед войной 1990 г. в Персидском заливе его команда была единственной, имевшей какой-либо «клинический» опыт, и поэтому Адаир мог сам устанавливать цену своей работе. Каждый пожар преподносил новые проблемы и требовал искусного сочетания опыта и импровизации. Представим себе находящихся почти на противоположных полюсах, с одной стороны, Адаира, а с другой — какого-нибудь младшего клерка, выполняющего одни только повторяющиеся операции. Работа Адаира, безусловно, не может быть сведена к рутинной практике. Он должен начинать с непредсказуемого — несчастного случая, пожара — и затем придумывать методы и оборудование (в зависимости от существующих возможностей, конечно, изобретаемых в основном им), предназначенные для тушения пожара в этой конкретной скважине[805]. А клерк имеет дело с предсказуемым, упорядоченным окружением, которое можно предусмотреть заранее до мельчайших подробностей. Что касается Адаира, он не может упростить окружающую среду, чтобы применить шаблонное решение.
Представленные до сих пор примеры были, главным образом, связаны с отношениями между людьми и окружающей их физической средой. Но метис равно применим и к человеческому взаимодействию. Представьте себе сложные физические действия, которые требуют постоянного приспособления к поступкам, ценностям, желаниям или жестам других. Так, бокс, борьба и фехтование требуют мгновенной автоматической реакции на выпады противника и могут быть освоены только в результате долгой практики самих движений. Здесь также имеет место хитрость. Успешный боксер научится маневрировать движением, чтобы спровоцировать ответный удар, который он может использовать в своих целях. Если исходить из физического содержания таких совместных действий, как танец, исполнение музыкального произведения или совершение акта любви, то и здесь важно подобное же, выработанное практикой живое рождение опыта. Многие спортивные состязания сочетают как кооперативные, так и состязательные аспекты метиса. Футболист должен знать не только действия своих товарищей по команде, но и то, какие командные действия и уловки введут в заблуждение противников. Важно заметить, что такие навыки имеют как родовое сходство, так и специфическое различие: в то время как каждый игрок может быть более или менее квалифицирован в различных аспектах игры, каждая команда имеет свою специфическую комбинацию приемов, свой «стиль», и каждое соревнование с командой соперников предоставляет уникальную возможность проверки его действенности[806].
Такие сложные и рискованные деятельности, как военная дипломатия и политика, вообще представляются навыками, исполненными метиса. Успешный практик в каждом случае пытается влиять на поведение партнеров и противников применительно к собственным интересам. В отличие от моряка, который должен приспосабливаться к ветру и волнам, не влияя на них непосредственно, генерал и политический деятель находятся в постоянном взаимодействии со своими коллегами, каждый из которых пытается надуть другого. Быстрая и толковая реакция на непредсказуемые события — как естественные, вроде погоды, событий в близком окружении или передвижений противника, так и искусственные, вроде извлечения наилучшего результата при ограниченных ресурсах, — вид навыка, который невозможно преподать в виде сухой трафаретной дисциплины.
Здесь важно, что чисто эмпирическая природа метиса не позволяет исследовать подобные навыки. Простой эксперимент, проведенный философом Чарльзом Пирсом, поможет понять, что имеется в виду. Пирс просил людей поднимать два тела и решить, которое из них тяжелее. Поначалу их оценка была довольно грубой. Но занимаясь этим в течение длительного времени, люди в конце концов научились выявлять весьма незначительные отличия в весе. При этом они не могли точно описать свои ощущения, свои чувства, но их фактическая способность к оценке веса чрезвычайно возросла. Пирс рассматривал эти результаты как свидетельство некоторой подсознательной связи между людьми через «слабые взаимодействия». Однако для нас это свидетельство иллюстрирует рудиментарный вид знания, которое может быть приобретено только практикой, и тот факт, что оно почти не поддается передаче в письменной или устной форме без непосредственной практики[807].
Оценивая ряд приведенных примеров, можно отважиться на некоторые предварительные обобщения относительно природы метиса и того, где уместно подобное знание. Метис наиболее применим к приблизительно схожим, но никогда не бывающим в точности идентичными ситуациям, требующим быстрой и отработанной реакции, которая становится второй натурой практика. Навыки метиса могут использовать и общепринятые правила, но приобретаются только через практику (часто в обычном ученичестве) и развитое чувство стратегии. Метис сопротивляется его упрощению в дедуктивные принципы, которые могут успешно быть переданы с помощью изучения по книгам, потому что контексты, в которых он применяется, настолько сложны и неповторимы, что формальные процедуры принятия рационального решения становятся невозможными. В некотором смысле метис лежит в том значительном пространстве между областью гениальности, к которой не может быть применена никакая формула, и областью кодифицируемого знания, которое может быть выучено наизусть.
Местное знание
Почему же методы, связанные с любым квалифицированным ремеслом, так плохо подходят для изложения? Художники или повара, заметил Майкл Оукшот, могут пытаться описать свое искусство и свести его к чисто технической информации, но, к сожалению, такому изложению поддается очень небольшая часть их знаний. Познание правил ремесла стенографии не позволяет освоить ее в совершенстве: «Эти правила и принципы представляют собой упрощения самой деятельности; они не имеют смысла вне ее, они, лучше сказать, не могут управлять ею и не могут обеспечить ее познание. Овладение в совершенстве правилами и принципами может сосуществовать с совершенной неспособностью к выполнению той деятельности, к которой они относятся, так как выполнение деятельности вовсе не состоит в применении этих принципов, а даже если бы и состояло, знание того, как применять их (знание фактического выполнения деятельности), не дается в их содержании»[808].
Знание того, как и когда применять практические правила в конкретной ситуации, составляет суть метиса. Очень существенны тонкости применения этих правил, потому что метис наиболее ценен в контекстах, которые изменчивы, не определены (неизвестен ряд фактов) и имеют частный характер[809]. Хотя мы еще вернемся к вопросу о неопределенности и изменчивости, я хочу остановиться на дальнейшем исследовании местного характера и специфичности метиса.
Поучительно различие между общей навигационной наукой и частным знанием правил навигации в судовождении. Когда большое грузовое судно или пассажирский лайнер приближаются к большому порту, капитан обычно передает управление местному лоцману, который проведет судно в гавань до причала. То же самое происходит, когда судно покидает причал: его ведет лоцман, пока оно благополучно не выйдет в открытое море. Эта разумная практика позволяет избежать многих несчастных случаев и отражает тот факт, что навигация в открытом море (в более «абстрактном» пространстве) представляет собой общую специализацию, а умение провести судно среди других в некотором определенном порту — сугубо контекстуальный навык. Мы могли бы назвать искусство навигации, которым обладает лоцман, «местным и специфическим знанием». Лоцману известны особенности местных приливов и отливов, течений вдоль побережья и морских рукавов, уникальные свойства местных ветров и характер волн, мели, неотмеченные рифы, сезонные изменения в течениях, условия движения морского транспорта в местных водах, ежедневные капризы ветров, дующих с мысов и вдоль проливов, и то, как провести судно в этих водах ночью, не говоря уже о том, как благополучно довести множество различных судов до причала в условиях, когда все это сразу меняется[810]. Такое знание по определению специфично, оно может быть приобретено только через практику и местный опыт. Подобно птице или насекомому, которое блестяще приспособилось к своей узкой экологической нише, лоцман знает только одну гавань. Если бы его вдруг перевели в другой порт, большая часть его знаний оказалась бы невостребованной[811]. Хотя информация об условиях определенного порта имеет довольно узкое содержание, именно эта информация должна преобладать в знаниях лоцмана, и с этим согласны командиры кораблей, капитаны портов и, не в последнюю очередь, те, кто страхует морскую торговлю от потерь. Практический опыт лоцмана в местном масштабе важнее общих правил навигации.
Классическое произведение Марка Твена «Жизнь на Миссиссипи» подробно описывает знания и навыки, приобретаемые речными лоцманами. Важная часть этих знаний — сугубо практические сведения о внешних приметах, которые могут предупреждать о мелях, подводных течениях или других опасностях. Многие из этих весьма специфических сведений получены в связи с плаванием именно по Миссиссипи в различные времена года и при разных уровнях воды — знания, которые могли быть приобретены в определенном месте только через опыт. Хотя имеется нечто, что собственно могло бы называться общей наукой о реках, это знание оказывается весьма ненадежным и неудовлетворительным, когда дело доходит до конкретного путешествия по конкретной реке. Местный лоцман не менее необходим на данной реке, чем местный проводник где-нибудь в джунглях или местный гид в бельгийском городе Брюгге или в медине древнего арабского города.
Практика и опыт, отраженные в метисе, всегда носят местный характер. Так, инструктор по скалолазанию может быть лучшим в Зермате, если он часто совершал там восхождения, пилот — лучшим на «Боинге-747», на котором он обучался, а хирург-ортопед может лучше всего разбираться в коленных суставах, потому что именно в этом он специализировался. Не вполне ясно, какой частью их собственного метиса могут воспользоваться эти специалисты, если каждого из них внезапно перебросить соответственно на Монблан, на борт маленького самолетика и на лечение кистей рук.
В каждом случае применение конкретного умения связано с некоторым приспособлением к местным условиям. Для ткача любая нить различима на ощупь. Для гончара новая глина «работает» по-другому. Длительный опыт работы с различными материалами в итоге создает эффект почти автоматического выполнения таких приспособлений. Специфичность знания идет даже глубже — каждый ткацкий станок или гончарное колесо имеет свои отличительные качества, которые ремесленник должен знать и оценивать (или уметь к ним приспособиться). Следовательно, общее знание, которое применяется на деле, требует некоторого образного перевода. Совершенное знание ткацких станков не переводится само собой в успешное овладение некоторым конкретным ткацким станком с особенностями его конструкции, использования, составных частей и ремонта. Разговоры о мастерстве овладения определенным ткацким станком, искусством плавания по такой-то реке, умении в совершенстве управлять конкретным трактором или автомобилем не нелепы; они указывают на размер и значимость разрыва между общим и частным знаниями.
Местное знание можно считать заинтересованным в противоположность общему знанию. Иначе говоря, носитель такого знания обычно сильно заинтересован в определенном результате. Компания, страхующая коммерческие грузовые перевозки крупной морской фирмы с высокими капиталовложениями, может позволить себе допустить вероятность непредвиденного несчастного случая. Но для моряка или капитана, рассчитывающего на безопасный рейс, авария есть исход единичного случая, конкретного плавания. Метис представляет собой способность и опыт, необходимые для того, чтобы повлиять на результат — усилить перевес в положительную сторону — именно в конкретном случае.
Все рассмотренные нами государственные упрощения и утопические схемы касались деятельности, которая давала в пространственном и временном отношении уникальный результат. Знание о лесоводстве, революции, городском планировании, сельском хозяйстве и поселении вообще будет полезно для нашего понимания этого леса, этой революции и этой фермы только до определенной степени. Все сельское хозяйство существует в определенном месте (поле, почва, культуры), в определенном времени (погодные условия, время года, смена популяций вредителей) и в определенных целевых объектах (потребности и вкусы семьи). Механическое применение общих правил, которое игнорирует эти особенности, приводит к практическим неудачам и социальному разочарованию. Общая формула не дает и не может давать местного знания, которое только и делает возможным успешное преобразование с необходимостью недостаточно подробных общих представлений в успешное и детальное приложение в местном контексте. Чем более общими оказываются правила, тем более подробного перевода на язык местных обстоятельств они требуют. И дело не просто в том, что капитан и штурман осознают, что их практические навыки уступают совершенному местному знанию лоцмана. Это скорее признание того, что сами практические правила в значительной степени являются кодификацией, выведенной из реальной практики мореплавания и навигации.
Последняя аналогия может помочь объяснить отношение между общими практическими правилами и метисом. Метис не простая спецификация местных значений (таких, как средняя температура и количество осадков), которая позволяет успешно применять общую формулу к данному случаю. Если сравнивать с разговорным языком, то практические правила родственны формальной грамматике, тогда как метис больше похож на реальную речь. Метис нельзя вывести из общих правил, как речь не выводится из грамматики. Речь развивается с младенчества путем подражания, попыток применения на практике, через пробы и ошибки. Изучение родного языка — стохастический процесс, процесс последовательных самокорректирующихся приближений. Мы не изучаем сначала алфавит, состав слова, части речи, правила грамматики и не пытаемся потом использовать это знание, чтобы построить грамматически правильное предложение. Более того, как указывает Майкл Оукшот, знание правил речи совместимо с полной неспособностью говорить связными предложениями. Скорее уж грамматические правила являются производными от практики реальной речи. Современное преподавание языков, цель которого — научить свободно вести разговор, признает это и начинает с простой речи и механического копирования для закрепления речевых образцов и акцента, оставляя грамматические правила нетронутыми, их вводят позже для систематизации и подведения итогов практического овладения языком.
Подобно языку, метис — местное знание, необходимое для успешного ведения сельского хозяйства, по всей вероятности, лучше всего приобретается через ежедневную практику и опыт. Подобно долгому ученичеству, воспитание в домашнем хозяйстве, где постоянно практикуется какое-то ремесло, часто представляет наиболее удовлетворительную подготовку к овладению этим ремеслом. Такой вид приобщения к профессии может больше способствовать закреплению навыков, чем смелые инновационные предложения. Любая методическая формула, которая исключает или подавляет опыт, знание и адаптивность метиса, рискует быть непоследовательной и неудачной; обучение говорить связными предложениями привлекает гораздо больше материала метиса, чем простое изучение правил грамматики.
Связь метиса с эпистеме и техне
Для греческих философов, особенно для Платона, эпистеме и техне представляли собой знание совершенно другого порядка, нежели метис[812]. Прагматично-техническое знание, или техне, могло быть выражено точно и исчерпывающе в форме строгих и неукоснительных правил (не эмпирические правила), принципов и заключений. В наиболее строгом отношении знание техне основано на логическом выводе из самоочевидных начальных постулатов. Как идеальный тип техне радикально отличается от метиса по тому, как оно получено, кодифицировано и преподносится, как модифицируется и какую аналитическую точность оно дает.
Где метис контекстуален и специфичен, техне универсален. В логике математики десять, помноженное на десять, всюду и всегда равняется сотне; в геометрии Евклида прямой угол — это угол в девяносто градусов; в физике точка замерзания воды принимается за нуль шкалы Цельсия[813]. Техне — твердое знание; Аристотель писал, что техне «возникает, когда многие представления, полученные из опыта, позволяют вывести универсальные заключения относительно группы сходных явлений»[814]. Универсальность техне является результатом того, что аналитически оно организовано с помощью простых, ясных и логических переходов и поддается анализу и проверке. Эта универсальность означает, что знание в форме техне можно преподавать как формальную дисциплину. Законы техне дают теоретическое знание, которое может иметь, а может и не иметь практическое приложение. Наконец, техне характеризуется безличной, часто количественной точностью и требует объяснения и проверки,а метис связан с личным навыком, возможностью «потрогать» и практическими результатами.
Если описание техне как идеальной или общепринятой системы знаний напоминает образ современной науки, это никакая не случайность. Однако актуальная практика науки представляет собой нечто совсем другое[815]. Правила техне учат кодифицировать, выражать и проверять знания, как только они обнаружены. Никакие правила техне или эпистеме не могут объяснить научного изобретения и его сути. Открытие математического закона требует гениальности и, возможно, метиса, но его доказательство должно следовать принципам техне[816]. Таким образом, методичные и объективные правила техне способствуют получению знания, которое может быть без особого труда организовано, полностью подтверждено и которое допускает формальное преподавание, но оно не может непосредственно само добавить что-либо к себе или объяснить, как оно появилось[817].
Кроме того, техне является характеристикой отдельных систем рассуждения, в которых выводы могут быть логически получены из начальных предположений. Степень, до которой форма знания удовлетворяет этим условиям, есть уровень ее объективности, универсальности и совершенной невосприимчивости к контексту. Но контекстом метиса, как подчеркивают Детьен и Вернан, всегда оказываются «ситуации, которые временны, изменчивы, неоднозначны и сбивают с толку; ситуации, которые не поддаются точной оценке, строгому анализу и твердой логике»[818]. Нусбаум убедительно показывает, как Платон попытался (главным образом в своем произведении «Республика») преобразовать царство любви, которое по определению полностью является сферой случайности, желания и импульса, в царство техне или эпистемы[819]. Платон расценивал мирскую любовь, как чувство, подвластное более низким желаниям, и надеялся очистить ее от этого основного инстинкта, чтобы она могла более походить на философский поиск истины. Превосходство чистого рассуждения, особенно научной и математической логики, заключается в том, что оно «сосредоточено на предмете, в высшей степени непоколебимо и стремится к истине». Цели такого рассуждения «извечны и независимы от того, что люди делают и говорят»[820]. То, что человек любит или должен любить, утверждал Платон, не есть сам объект любви, а идеализированные формы совершенной красоты, отраженные в любимом человеке[821]. Только на этом пути любовь могла бы оставаться прямой и разумной, свободной от желаний.
Сферы человеческой деятельности, наиболее свободные от случайности, неоднозначности, контекста, желания и личного опыта и, таким образом, свободные от метиса, в итоге оказались самыми высокими человеческими устремлениями. Таковы философские исследования. Можно понять, почему на основании таких критериев евклидова геометрия, математика, некоторые содержательные формы аналитической философии и, возможно, музыка рассматриваются как самые совершенные занятия[822]. В отличие от естествознания и конкретных экспериментальных наук эти дисциплины существуют как царства абсолютной мысли, не тронутые случайными обстоятельствами материального мира. Они рождаются в голове или на чистом листе бумаги. Теорема Пифагора a2 + b2 = c2 истинна для всех прямоугольных треугольников везде и всегда.
В западной философии и науке (включая социологию) периодически повторялись усилия переработать системы знания, чтобы исключить неопределенность и обеспечить логическую дедуктивную строгость, которой обладала евклидова геометрия[823]. В естествознании результаты попыток оказались впечатляющими. Что касается философии и гуманитарных наук, усилия были столь же настойчивыми, но результаты более неоднозначными. Известная декартовская эпистема «Я мыслю, следовательно, существую» представляла первый шаг математического доказательства и была «ответом на беспорядок, который угрожал уничтожением общества»[824]. Иеремия Бентам и утилитаристы пытались с помощью вычисления удовольствия и боли (гедонизм) свести изучение этики к чистой естественной науке, к исследованию «каждого, могущего повлиять на индивидуума обстоятельства, которое отмечается и регистрируется; ничто не... оставлено случайности, прихоти или неуправляемой свободе действий, все обследуется и заносится в размере, числе, весе и мере»[825].
В конце концов благодаря статистике и теории вероятностей даже сама случайность (tuche), которой техне стремилась овладеть, была представлена отдельным фактом, способным входить в формулы техне. Возможность сопутствующего ей риска могла быть определена с известной долей вероятности и становилась фактом, подобно всем другим, а неопределенность (где неизвестна упомянутая вероятность) все еще лежит вне досягаемости техне[826]. Интеллектуальная «карьера» риска и неопределенности характерна для многих областей исследования, в которых зона влияния анализа была переформулирована и сужена, чтобы исключить элементы, которые могли быть только определены, а не измерены. Лучше сказать, методы были направлены на изолирование и приручение тех аспектов ключевых переменных, которые можно было выразить количественно (общественное богатство — объемом национального продукта, общественное мнение — количеством голосов, ценности — психологическими опросами). Подобному преобразованию подверглась, например, неоклассическая экономика. Потребительские предпочтения считаются заранее известными, а затем учитываются, чтобы вынести за скобки вкус потребителя как главный источник неопределенности. С изобретательской и предпринимательской деятельностью обращаются как с чем-то внесистемным и выбрасывают их за рамки дисциплины как слишком неподатливые, чтобы подчиняться оценке и прогнозу[827]. Дисциплина вобрала в себя вычисляемый риск и изгнала те темы, где преобладала сущностная неопределенность (экологическая угроза, изменения потребительского вкуса)[828]. Стивен Марглин указывает, что «акцентирование личного интереса, вычисление и максимизация в экономике» являются классическими примерами «очевидных постулатов» и отражают «скорее идеологическое принятие превосходства эпистеме, чем серьезную попытку распутать сложности и тайны человеческой мотивации и поведения»[829].
Логика таких переформулирований аналогична экспериментальной практике и установлению границ современного научного сельского хозяйства. Сузив область своего изучения, оно чрезвычайно выиграло в четкости и научной силе, убрав возможные неуместные и неприятные сюрпризы за пределы своих искусственных границ[830]. Техне наиболее подходит тем видам деятельности, «которые имеют единственную цель, и цель эта может быть конкретно указана отдельно от самой деятельности и может быть измерена количественно»[831]. Так, решение задачи, с которой с наибольшим успехом справилось научное сельское хозяйство, — как собрать больше бушелей урожая при наименьших затратах на акр земли, было продемонстрировано на испытаниях одной культуры в течение одного сезона на опытных участках. Вопросы общественной и хозяйственной жизни, семейные нужды, длительное сохранение почвенной структуры, экологическое разнообразие и его поддержание трудно и вобрать, и целиком исключить. Формулы эффективности производственных функций и разумной деятельности могут быть выведены только тогда, когда желанные перспективы просты, ясно определены и, следовательно, измеримы.
Проблема, как признавал Аристотель, состоит в том, что некоторые реальные возможности «даже в принципе не могут быть как надо и полностью отражены системой универсальных правил»[832]. Он выделил навигацию и медицину как два вида деятельности, в которых практическая мудрость, связанная с большим опытом, обязательна для наилучшего выполнения работы. Таковы практики, полные метиса, в которых требуется быстрая реакция, импровизация и умелые последовательные приближения к ситуации. В отличие от Платона, Сократ преднамеренно воздерживался от записей своих обучающих бесед, поскольку верил, что область философии принадлежала больше метису, чем эпистеме или техне. Письменный текст, даже если он и принимает форму философского диалога, представляет собой выхолощенный набор кодифицированных правил. Устный диалог, напротив, является живым и зависящим от взаимопонимания участников, достигая таких результатов, которые не могли быть определены заранее. Сократ, несомненно, полагал, что взаимодействие между учителем и учениками, которое теперь называется сократическим, а не итоговый текст, и есть философия[833].
Практический опыт и научное знание
Только осознав потенциальные возможности и диапазон охвата метиса, можно оценить, какой ценной информации лишают себя высокомодернистские системы, когда, не обращая внимания ни на что, навязывают свои планы. Одной из основных причин отвержения метиса, особенно в самовластной империи научного знания, является довод о том, что «открытия» метиса практичны, контекстуальны и привязаны к конкретному времени, а научные рассуждения обещают обобщенные решения.
Мы проследили особенности метиса в действии на исторически сложившихся традиционных измерениях площади — веса и объема. Его задачей всегда было достижение частной цели или выражение характерной местной особенности (например, «ферма двух коров»), а не приспособление к какой-то универсальной единице измерения. Очевидно, что такие народные мерила, подобно примете Скванто, часто передавали больший объем информации,чем это смогла бы сделать абстрактная мера, причем эта информация, конечно, была более уместна локально. Этот локальный практический показатель менялся от места к месту и тем самым гарантировал, что он будет запутанным, невнятным и не поддающимся кодификации в целях политического государственного управления.
Подобной логике в основном следует классификация местной флоры среди туземцев. Важно то, что существенно для местного использования и ценности. Так, категории, согласно которым классифицируются различные растения, следуют за целями их практического использования: годится для приготовления супа, пригодно для изготовления бечевки, полезно для заживлении порезов, эффективно при расстройствах желудка, ядовито для рогатого скота, нужно для плетения ткани, предпочитается кроликами, подходит для изготовления ограды и т. д. Однако эта сумма знаний никогда не статична, она постоянно расширяется вследствие приобретения практического опыта. И категории, на которые разделена существующая совокупность растений, вовсе не похожи на ботанические категории Линнея, предпочитаемые научными исследователями[834].
Безошибочным показателем для метиса является практический успех. Благополучно ли прошло плавание для лоцмана? Перехитрили ли циклопа уловки Одиссея? Помог ли компресс от ожога? Был ли урожай фермера обильным? Если для поставленной цели метод работает эффективно и с неоднократно повторяющимся эффектом, носители метиса особенно не задумываются, почему и как он действует и каков точный механизм его действия. Их намерение состоит вовсе не в том, чтобы внести свой вклад в обширную сумму знаний, им нужно решить конкретные проблемы, которые стоят перед ними. Это не значит, что носители метиса не занимаются изобретательством. Большинство из них, бесспорно, занимается этим. До весьма недавнего времени фактически все сельскохозяйственные усовершенствования происходили скорее на местах, чем в промышленности или науке. Но это указывает, что новшества метиса будут обычно представлять собой некое новое сочетание существующих элементов системы (бриколаж, используя термин Леви-Стросса)[835], а не изобретение вроде трактора для увеличения силы тяги; трактор не фермеры выдумали[836]. Кроме того, в результате бриколажа практического знания часто появлялись сложные методы — поликультурность, стратегии закрепления почв, которые превосходно работают,но так и не поняты (пока?) наукой.
Сила практического знания зависит от скрупулезного и проницательного изучения окружающей среды. К настоящему моменту уже очевидно, почему традиционные земледельцы, подобные Скванто, такие превосходные наблюдатели, но причины этого стоит перечислить в контексте сравнения с научным знанием.
Во-первых, результаты тщательного наблюдения жизненно важны для этих земледельцев. В отличие от ученого-исследователя или консультанта по вопросам сельского хозяйства, которым не приходится следовать своим советам, крестьянин сам — является непосредственным потребителем собственных решений. В отличие от типичного современного фермера, у крестьянина нет дополнительных специалистов, на которых можно положиться, кроме как на своих соседей, имеющих кое-какой опыт; он должен принимать решения, опирающиеся на собственные знания.
Во-вторых, я уверен в том, что бедность, предельно низкое экономическое состояние многих земледельцев сами по себе уже представляют вескую причину для тщательного наблюдения и экспериментирования. Представьте гипотетический случай: два рыбака должны прокормиться от реки. Один рыбак живет у реки, где улов устойчив и избыточен, другой — у реки, где улов изменчив и редок, допускает только бедное и сомнительное пропитание. Более бедный из них, несомненно, будет непосредственно жизненно заинтересован в изобретении новых методов ловли рыбы, в тщательном наблюдении за повадками рыбы, в точном расположении сетей и запруд, в выборе времени, в признаках сезонных косяков различных видов рыб во время миграции и т. д. И при этом мы не должны забывать, что крестьянин-земледелец или пастух живет на месте своих наблюдений из года в год. Он будет наверняка знать то, чего никогда не заметит ни ленивый земледелец, ни ученый-исследователь[837]. Наконец, как упомянуто в предыдущей главе, такой земледелец всегда является членом сообщества, служащего его жизненным окружением, устной справочной библиотекой результатов наблюдений, использования методов и экспериментирования — суммарным знанием, которое никогда и никакой индивидуум не смог бы накопить в одиночку.
Пытливый характер донаучных людей, зачастую формируемый смертельными опасностями, привел ко многим важным открытиям. Южноамериканские индейцы обнаружили, что кора хинного дерева — очень эффективное средство против малярии, ничего не зная об активном компоненте коры — хинине или о механизме его действия. На Западе знали, что некоторые пищевые продукты вроде ревеня, используемые ранней весной, помогают ослабить симптомы цинги, хотя никто не имел никакого представления о витамине C. Плесень, появляющаяся на некоторых сортах хлеба, использовалась для задержания развития инфекции задолго до появления пенициллина[838]. Согласно Анилу Гупта, по грубой прикидке три четверти современной фармакопеи — производные традиционно известных медицинских средств[839]. Даже при отсутствии лекарств люди часто знали, как уменьшить возможность подцепить страшную инфекционную болезнь. Лондонцы в романе Даниэля Дефо «Дневник чумного года» знали, что переезд в сельскую местность, а если не удастся, уединение в своем доме значительно повышали шансы выживания в период бубонной чумы в 1665 г.[840] Поскольку теперь известно, что переносчиками чумы были блохи, распространяемые крысами, можно понять, почему эти способы часто срабатывали, но современники Дефо, даже при их ошибочном представлении, что чума была вызвана испарениями, тем не менее своими решениями попали в точку.
Наиболее впечатляющая иллюстрация практики, предшествующей науке, — использование натурального оспопрививания с целью проверки его влияния на распространение оспы, которое было известно задолго до разработки сэром Уильямом Дженнером метода прививки оспы в 1798 г. История, которую выразительно и подробно анализирует Фредерик Апффел Марглин, потому поучительна, что она демонстрирует, как только в силу метиса был создан метод прививок, который предвосхитил открытие, справедливо считающееся великой вехой в научной медицине[841]. Вообще, защита традиционной медицины перед лицом современных медицинских исследований и результатов экспериментальной практики — последняя тема, которую я намерен затронуть здесь[842]. Мое изложение истории внедрения вакцинации должно прояснить, как часто местное знание, пробы и ошибки, которые великодушнее назвать стохастическим методом, давали практические решения, не использующие преимуществ научного метода.
По крайней мере, к XVI в. прививка оспы была широко распространена в Индии, на Ближнем Востоке, в Европе и Китае. Практика состояла в использовании вводимой неглубоко в кожу или вдыхаемой человеческой оспенной субстанции, которая заражала человека слабой формой оспы, редко когда с летальным исходом. Никогда не использовался «свежий» оспенный материал — из пустул или струпьев больного с натуральной инфекцией в активной форме. Прививочный материал обычно изготавливался из разжиженного вещества, взятого у тех людей, у которых наблюдался слабый характер течения болезни в период эпидемии предыдущего года, или из вещества, взятого из пустул тех, кому была сделана прививка за год до этого. Дозировка регулировалась согласно весу и возрасту пациента.
Принцип, на котором основано оспопрививание, тот же самый, что лежит в основе гомеопатии, и отражал очень старую практику. Прививка в той или иной форме широко проводилась задолго до рождения современной медицины. В Индии оспопрививание выполнялось жрецами и входило в обряд поклонения богине Ситале[843]. В других обществах культурные установления, несомненно, были иными, но фактическая практика были той же самой.
Надо заметить, что открытие Дженнером вакцины, использующей сыворотку коровьей оспы, не было совсем уж новостью. Молодая доярка как-то сказала ему, что она защищена против оспы, потому что уже переболела коровьей оспой. Следуя этой подсказке, Дженнер вколол коровью оспу своим собственным детям и увидел, что они не дали никакой реакции на последующую прививку натуральной оспы. Конечно, вакцинация была большим прогрессом по сравнению с натуральным оспопрививанием. Поскольку в оспопрививании использовался свежий материал, он вызывал хоть и слабую, но все же активную форму инфекции, и от 1 до 3% тех, кому делали прививку, умерли от этой процедуры; тем не менее это гораздо лучше по сравнению с одним или двумя из шести людей, погибающих в эпидемию. Метод Дженнера использовал умерщвленный вирус, избегая таким образом инфекции, и его прививка имела замечательно низкий ятрогенный уровень: только один из тысячи умирал непосредственно от прививки. Такому достижению справедливо отдается должное, но важно признать, что «вакцинация Дженнера была не резким скачком вперед, а прямым потомком и наследником натурального оспопрививания»[844].
И хотя оспопрививание трудно сравнивать с вакцинацией, оно было впечатляющим достижением практической донаучной медицины. Принцип прививки был оценен издавна, и можно себе представить огромное число практикующих специалистов в инфицированных сообществах, прилагающих усилия к развитию успешного метода борьбы с болезнью. Как только была установлена эффективность нового метода лечения, информация о нем распространилась быстрее, чем любая эпидемия, заменив менее успешные профилактические меры. Здесь нет никакого волшебства. Компоненты такого практического знания просты: давление необходимости (в данном случае речь шла буквально о жизни и смерти), несколько подающих надежду примеров, которые сработали в аналогичных ситуациях (прививка), большая армия добровольных экспериментаторов, желающих опробовать почти любое средство[845], время, чтобы навык «отстоялся» (экспериментаторы и их клиенты наблюдали за результатами различных стратегий в течение последовательных эпидемий) и на распространение (через коммуникативные связи) экспериментальных результатов. И было бы удивительно, если бы такое объединение жгучего интереса, тщательного наблюдения, большого количества специалистов-энтузиастов, пробующих различные возможные варианты, и времени, необходимого для проведения опытов и исправления возможных ошибок, не дало бы множества новых решений практических проблем. Те, кто занимался прививкой оспы до Дженнера, мало чем отличались от земледельцев, ведущих поликультурные посадки, описанные Полом Ричардсом. Они действительно изобретали, а не просто натыкались на нечто такое, что успешно действовало, совершенно не имея понятия о механизме работы этого нечто. И хотя существовал большой риск, что они сделают ложные выводы из того, что они видели, это не уменьшало практической ценности их бриколажа.
Метис с его упором на практическое знание, опыт и стохастическое рассуждение, конечно же, не просто ныне вытесненный предшественник научного знания. Это способ рассуждения, наиболее соответствующий сложным материальным и социальным задачам, где неопределенность так велика, что мы должны доверяться нашей интуиции, основанной на опыте, и проверять каждый свой шаг. Описание управления гидроресурсами в Японии, данное Альбертом Говардом, предлагает нам поучительный пример: «Контроль почвенной эрозии в Японии подобен игре в шахматы. Лесничий, изучив размытую водами долину, делает свой первый ход, расположив и построив в определенном месте одну или несколько контрольных дамб. Он ждет ответного хода матушки-природы. Она, в свою очередь, определяет последующий ход лесничего, который может состоять в строительстве еще одной или двух дополнительных дамб, увеличении размеров прежней дамбы или в строительстве опоры, подстраховывающей стены дамбы. Еще одна пауза для размышления, потом следующий ход и т. д., пока эрозии не нанесено поражение. Действия естественных сил, таких, как образование осадка и появление новой поросли, находятся под присмотром и используются с наибольшей выгодой, чтобы снизить затраты и получить практические результаты. Невозможно предпринять что-либо большее, чем это уже сделано самой природой в данном месте»[846]. В своем примере Говард неявно признает, что имеет дело со «знанием определенной долины».
Каждый благоразумный маленький шаг вперед, основанный на предшествующем опыте, порождает новые и не вполне предсказуемые эффекты, которые станут точкой отсчета для следующего шага. Фактически любая сложная задача, содержащая множество переменных, значение и взаимовлияние которых невозможно точно спрогнозировать, принадлежит к подобным сюжетам: строительство дома, ремонт автомобиля, усовершенствование нового реактивного двигателя, хирургическая операция на колене или возделывание участка земли[847]. Там, где во взаимодействие вовлекается не только материальное окружение, но и социальное — строительство и заселение новых деревень или городов, организация революционного захвата власти или коллективизация сельского хозяйства — разум может оробеть перед множеством взаимодействий и их неопределимости (в отличие от измеримых возможностей).
Более 35 лет тому назад, признавая невыразимую сложность амбициозной социальной политики, Чарльз Линдблом подбросил в речевой обиход незабываемое выражение «наука выкарабкивания»[848], пытаясь с его помощью выразить сущность практического подхода к крупномасштабным политическим проблемам, которые не могли быть полностью понятыми, не говоря уже о всестороннем подходе к ним. Структуры государственных служб, жаловался Линдблом, неявно допускали предсказуемость политического действия, в то время как на практике знание было ограничено и фрагментарно, а средства никогда не могли быть четко отделены от целей. Его характеристика существующей политической практики подчеркивала постепенность подобного подхода, последовательность проб и ошибок, которая постоянно должна была пересматриваться в свете предыдущего опыта и прирастала урывками[849]. Альберт Хиршман сделал тот же самый вывод, хотя и более метафорический, сравнивая социальную политику со строительством дома: «Архитектор социального переустройства никогда не сможет иметь надежного проекта. Не только каждое здание, которое он строит, отлично от любого, уже построенного; в его строительстве обязательно используются новые материалы и даже эксперименты с не проверенными еще на практике законами напряжений и принципами конструкции сооружений. Так что наибольшую пользу строители получат от осознания того, что только опыт позволит закончить данное строительство при других обстоятельствах»[850].
Взятые вместе позиции Линдблома и Хиршмана равнозначны хорошо продуманному стратегическому отступлению от претенциозного к всестороннему и рациональному планированию. Если отбросить социологический жаргон, термины «угадывание»(а не «искусство предсказания») и «удовлетворительность» (а не «максимизация») описывают мир, живущий и действующий с помощью догадок и житейских правил, что очень похоже на метис.
Познание не из книг
Подход постепенного «выкарабкивания» кажется единственным логичным курсом в такой сфере, как контроль эрозии или социальная политика, где наверняка что-нибудь пойдет не так. Тот факт, что в этих случаях уровень неопределенности, а следовательно, и потенциальной угрозы может быть уменьшен при ведении процесса более управляемыми шагами, вовсе не означает, что любой новичок сможет взять на себя ответственность за его выполнение. Напротив, только человек с большим опытом окажется способным взвесить все за и против результатов начального шага, чтобы определить последующий. Представьте себе гидрологов или политических руководителей, которые не раз попадали во внештатные ситуации и сумели выкрутиться. Их реакция будет более квалифицированной, их суждение в оценке среды надежнее, их понимание того, какие здесь возможны неожиданности, более точным. Еще раз подчеркнем, что некоторую часть их способностей можно выразить и передать другим, но многое из них так и осталось бы скрытым, прежде всего интуиция, которая появляется в результате долгой практики. Рискну сказать кое-что о совершенно невыразимом, хочу дать понять, насколько важно такое знание и насколько труден его перевод в кодифицируемую форму[851].
Информация метиса зачастую настолько неявна и непроизвольна, что его носитель не может объяснить, чем он, собственно, руководствуется[852]. На ранних стадиях обучения медицине всегда рассказывают историю о враче, который в начале века имел небывалый успех в диагностике сифилиса на ранних стадиях. Лабораторные испытания подтверждали его диагнозы, но сам он не знал точно, что именно вело его к верным заключениям. Заинтригованные его успехом руководители больницы попросили двух других докторов в продолжение нескольких недель пристально понаблюдать за ним во время приема пациентов и определить, какие же признаки болезни он замечал. В конце концов и наблюдатели, и сам врач поняли, что он подсознательно регистрировал небольшое подергивание глаз пациентов. В результате подергивание глаз стало признанным признаком сифилиса. И хотя это интуитивное чувство и смогло принять кодифицированную форму, поучительно здесь, что этот признак мог быть распознан только благодаря скрупулезному наблюдению и длительному клиническому опыту, и то подсознательно.
У любого опытного ремесленника развивается большая совокупность действий, визуальных оценок, чувство осязания или чувство структурного видения, помогающие ему выполнять работу, а также круг тонких интуитивных подходов, рожденных посредством опыта и не поддающихся передаче иначе как через практику. Несколько примеров помогут передать тонкости и нюансы подобного репертуара умений. В Индонезии бывалые бугисские морские капитаны, крепко спящие в каюте, моментально просыпаются при изменении курса корабля, погоды, морского течения или возможной комбинации всех трех условий. Когда волны океана изменяют амплитуду колебаний или начинают ударять в судно с другой стороны, шкипер немедленно чувствует перемену благодаря небольшим изменениям в бортовой качке и крене судна.
В те времена, когда при заболевании дифтерией в городе пациента изолировали дома, один доктор взял с собой молодого студента-медика на обход. Когда их впустили в переднюю дома, в котором был карантин, прежде чем они начали осматривать пациента, врач остановился и сказал: «Погодите. Принюхайтесь! Никогда не забывайте этот запах, это — запах дифтерийного дома»[853]. Другой доктор однажды сказал мне, что, осмотрев в большой клинике тысячи младенцев, он может, только взглянув на младенца, точно сказать, серьезно ли тот болен и нуждается ли в немедленном лечении. Врач не мог указать визуальную подсказку, которая позволяла ему делать заключение, но предполагал, что это было какое-то сочетание цвета лица, выражения глаз, состояния кожи и живости ребенка. Альберт Говард приводит еще один убедительный пример «пристрелянного» взгляда: «Опытный фермер может сделать вывод о плодородии почвы и качестве перегноя с помощью растений — по их силе, развитию, обилию корней, здоровому „румянцу“... Это также подходит и для определения здоровья животных на хорошем пастбище». Действительно, продолжает он, «нет необходимости взвешивать или обмерять их. Достаточно взглянуть глазами успешного скотовода или мясника, привыкших иметь дело с первосортными животными, чтобы заключить, все ли нормально или что-то не так с почвой, содержанием скота или обоими условиями одновременно»[854].
Какова основа такого понимания или интуиции? Мы могли бы назвать эти навыки «профессиональными хитростями» (не в смысле ввода в заблуждение), которыми обладают наиболее «искусные» практикующие специалисты[855]. Важно обратить внимание на то, что фактически все суждения, основанные на интуиции, которые описаны в этих коротких эпизодах, могли быть проверены путем опытов и измерений. Дифтерия может быть обнаружена лабораторным путем, анемия ребенка может быть подтверждена анализом крови, а бугисский морской волк может выйти на палубу, чтобы удостовериться в изменении направления ветра. Это дает уверенность тем, кто имеет и интуицию, и доступ к формальному измерению, в том, что их заключение может быть подтверждено. Но эпистемическая альтернатива метису гораздо медленнее, более кропотлива, требует более интенсивного капиталовложения и не всегда убеждает. Нет никакой замены метису, когда нужны быстрые суждения высокой (но не совершенной) точности, когда важно оценить ранние признаки, которые подскажут, насколько хорошо или плохо идут дела. В случае опытного доктора именно метис на деле подскажет решение относительно того, необходимы ли анализы, и если да, то какие именно.
Даже та часть метиса, которая может быть передана житейскими правилами, есть кодификация практического опыта. Варить кленовый сироп — большое искусство. Если переварить, сок выкипит. Конечную точку работы можно определить с помощью термометра или ареометра (который укажет определенную вязкость). Но люди с опытом ждут пену из маленьких пузырей, образующихся на поверхности сока непосредственно перед тем, как он начинает выкипать, и эта картина представляет собой визуальное практическое правило, которое гораздо легче использовать. Однако, чтобы выработать интуицию, необходимо по крайней мере единожды ошибиться и испортить дело. Китайские рецепты, что всегда развлекало меня, часто содержат следующую инструкцию: «Нагрейте масло, пока оно почти не закипит». Рецепты предполагают, что повар достаточно часто ошибался, чтобы помнить о том, как выглядит масло непосредственно перед тем, как оно начинает кипеть. Сугубо практические правила для кленового сиропа и масла, по определению, есть правила, полученные благодаря опыту.
Те, у кого не было доступа к научным методам и лабораторной проверке, часто полагались на метис и в результате получали ценный ряд необыкновенно точных знаний и искусных умений. Традиционные навигационные навыки до эпохи секстантов, компасов, карт морских путей и гидролокатора представляют подходящий пример. Я здесь снова обращаюсь к знаменитым бугисским мореплавателям,потому что их навыки были столь блестяще документированы Джином Аммареллом[856]. В отсутствие таблиц морских приливов они разработали надежные схемы прогноза увеличения и уменьшения морских приливов и отливов, направления течений и относительной силы потоков, которые все были жизненно важными для их навигационных планов и гарантии безопасности[857]. Делая расчеты на основе времени дня, числа дней в лунном цикле и периода муссонов, бугисский шкипер держит в своей голове схему, которая обеспечивает его всей точной и необходимой информацией о морских приливах. С точки зрения астронома кажется странным, что схема никак не ссылается на угол склонения Луны. Но так как сезон муссонов непосредственно связан с этим явлением, он эффективно служит полномочным замещающим признаком. Система знаний бугисского шкипера может быть восстановлена в письменной форме, что и сделал Аммарелл для иллюстрации, но среди бугисов ее изучали устно и в повседневном ученичестве. Учитывая сложность явления,с которым приходилось иметь дело, схема для оценки и прогнозирования морских приливов и отливов была изящной, простой и чрезвычайно эффективной.
Динамизм и пластичность метиса
Термин «традиционный» в выражении, например, «традиционное знание» — слово, которого я тщательно избегал, уводит в сторону[858]. В середине XIX в. исследователи Западной Африки наткнулись на племена, выращивающие кукурузу, злак Нового Света, в качестве своего главного продукта. Хотя было маловероятно, что западноафриканские народности возделывали кукурузу более чем два поколения, но ее выращивание уже было окружено сложными ритуалами и мифами о богине кукурузы или духе, который дал им первые зерна. Поразительной была и готовность, с которой люди приняли кукурузу, и быстрота, с которой они ввели ее в свои традиции[859]. Наблюдаемое распространение метода прививок по четырем континентам представляет еще один пример того, как быстро и повсеместно «народы, поддерживающие традиции» перенимают методы, которые относятся к жизненно важным проблемам. Примеров тому множество. Швейные машины, спички, электрические фонари, керосин, пластиковая посуда и антибиотики представляют только крошечную часть изделий, которые позволили решить насущные вопросы или облегчили тяжелую и нудную работу и потому были с готовностью приняты[860]. Как уже отмечалось, практическая эффективность — основное испытание метиса, и все эти изделия выдержали его блестяще.
Мысль, которую я выражаю,не нуждалась бы в подчеркивании или сложной иллюстрации, если бы узкое понимание науки, современности и эволюции не определяло полностью доминирующий способ мыслить, не заставляло рассматривать все другие виды знания как отсталую косную традиционность, бабушкины сказки и предрассудки. Высокий модернизм нуждался в этом «другом» — невежественном двойнике, чтобы проявиться в качестве противодействующей силы и ратовать против отсталости[861]. Бинарная оппозиция исходит из истории возникшего вокруг этих двух форм знания противоборства институций и их кадров. Современные исследовательские учреждения, сельскохозяйственные экспериментальные станции, поставщики удобрений и техники, проектировщики высокомодернистских планов города, разработчики планов развития стран третьего мира и чиновники Всемирного банка проложили себе узаконенный путь преуспевания в значительной степени систематическим очернением практического знания, которое мы назвали метисом.
Нет ничего более далекого от истины, чем такая характеристика. Метис, далекий от косности и монолитности, отличается пластичностью, локальностью и дивергентностью[862]. Именно эти особенности стиля метиса, его контекстуальный и фрагментарный состав делают его столь восприимчивым и столь открытым для новых идей. Метис не имеет никакой доктрины или централизованного обучения — здесь каждый практик имеет свою собственную точку зрения. В экономическом смысле одним из самых лучших испытаний для метиса зачастую является рынок, местная монополия, вероятнее всего, будет разрушена новаторством снизу или извне. Если новая технология работает, она наверняка найдет клиентуру.
Защищая приверженность традиционализму от рационализма, Майкл Оукшот подчеркивает прагматизм реальных существующих традиций: «Большая ошибка рационалистического подхода, хотя это и не свойственно самому методу, состоит в предположении, что „традиционное“ или, лучше сказать, „практическое“ знание неподатливо, фиксированно и неизменно, фактически же оно исключительно подвижно»[863]. Традиция, отчасти в силу местных вариаций, является гибкой и динамичной. «Никакой традиционный способ поведения, никакой традиционный навык никогда не остаются неизменными, — подчеркивает Оукшот всюду. — Его история — непрерывное изменение»[864]. Изменения, возможно, скорее будут небольшими и постепенными, чем внезапными и прерывистыми.
Стоит подчеркнуть степень, до которой устное народное творчество в противоположность письменной культуре избегает ортодоксальности. Поскольку устная культура не имеет никакого текстового ориентира для сравнения отступлений, ее религиозные мифы, обряды и фольклор склонны к изменениям в зависимости от рассказчика, аудитории и местных потребностей. Не имея никакого критерия, подобного Священному Писанию, для измерения степени отклонения от своих древних обычаев, такая культура может сильно изменяться с течением времени и одновременно сохранять верность традициям[865].
Возможно, лучшим примером социального накопления метиса является его язык. Конечно, бытуют сугубо практические правила для обиходных выражений: клише, формулы вежливости, привычные образцы клятв и ругательств и общепринятая речь. Но, несмотря на центральный комитет грамматиков с драконовскими цензурными полномочиями, в языке всегда появляются свежеизобретенные выражения и новые словесные комбинации, а также иронически переосмысливаются старые формулы. Под большим давлением и при резких общественных переменах язык может меняться довольно разительно, в результате чего появляются новые гибриды, но для людей, которые говорят на нем, он все же остается узнаваемо родным. Влияние по направлениям разговорного языка никогда не распределяется одинаково, но инновация прибывает издалека и отовсюду, и, если многие найдут новшество полезным и уместным, они примут его как часть своего языка. В языке, как и в метисе, редко помнится имя изобретателя, и это также помогает сделать результат объединенным общим продуктом.
Социальный контекст метиса и его разрушение
Выполняя полевые исследования в маленькой деревне в Малайзии, я постоянно поражался широте навыков моих соседей и их казуальному знанию местной экологии. Показателен такой случай. На огороженном участке вокруг дома, где я жил, росло примечательное в этой местности манговое дерево. Родственники и знакомые обычно приходили в гости, когда фрукты созревали, надеясь получить несколько плодов и, что более важно, возможность сохранить и посадить косточки манго рядом с собственным домом. Однако незадолго до моего прибытия на дерево напали большие рыжие муравьи, которые портили большинство плодов прежде, чем они успевали созреть. Казалось, что ничем невозможно было помочь, кроме как поместить каждый плод в мешок. Несколько раз я видел пожилого главу дома Мат Иса, приносящего к основанию мангового дерева высушенные ветви нипаховой пальмы и проверяющего их. Когда я наконец решил выяснить, чем же он занимается, он объяснил мне, но с видимой неохотой, поскольку, на его взгляд, тут не о чем было говорить. Он знал, что маленькие черные муравьи, которые жили повсеместно в задней части огороженного участка, были врагами больших рыжих муравьев. Он знал также, что тонкие, подобные остриям копья листья нипаховой пальмы, упав с дерева и засохнув, сворачивались в длинные жесткие трубки. (Кстати, местные жители использовали эти листья в качестве курительных трубок.) Он знал также, что такие листовые трубки обычно были идеальным местом для маток колоний черных муравьев при откладывании яиц. Уже несколько недель он клал высушенные ветви нипаховой пальмы с листьями в нужных местах, пока у него не набралось множества яиц с готовыми вылупиться черными муравьями. Тогда он положил ветви с листьями, наполненными яйцами, около манго и стал очевидцем итогового Армагеддона сроком в неделю. Несколько соседей, многие из них скептически настроенные, и их дети пристально следили за ходом муравьиного сражения. Хотя черные муравьи были вполовину меньше и даже более того, они в конце концов возобладали над рыжими муравьями и завладели землей в основании мангового дерева. Поскольку черные муравьи не интересовались листьями или плодами манго, пока плоды еще висели на дереве, урожай был спасен.
Этот успешный полевой эксперимент по биологической защите от вредителей предполагает наличие определенных познаний о среде обитания и пище черных муравьев, их способах кладки яиц, о соображениях относительно того, какой материал можно использовать в качестве переносных камер для яиц, и знание об отношениях между красными и черными муравьями. Мат Иса объяснил, что подобные знания, относящиеся к практической энтомологии, довольно широко распространены, по крайней мере, среди его пожилых соседей, и люди помнили, что нечто вроде такой стратегии помогало один или два раза в прошлом. И мне совершенно ясно, что никакой официальный консультант по вопросам сельского хозяйства и не подумал бы о муравьях, не говоря уже вообще о биологическом методе борьбы с вредителями — большая часть сельскохозяйственных консультантов выросла в городе и в основном интересовалась рисом, удобрениями и ссудами. И при этом большинство их и не подумало бы посоветоваться с людьми; ведь, в конце концов, именно они были экспертами, обученными для обучения крестьян. А подобное знание приобретается и хранится пожизненно, это – наблюдения постоянного сообщества, итог опыта многих поколений, люди обменивается такими знаниями и сохраняют их.
Единственная цель этой иллюстрации – поставить вопрос о социальных условиях, необходимых для воспроизводства сопоставимого практического знания. Эти социальные условия, как минимум, требуют заинтересованного сообщества, накопленных знаний и постоянно продолжающегося экспериментирования. Иногда существуют формальные организации, которые кажутся почти идеально структурированными для собрания и обмена практической информацией, такие, как veilles во Франции девятнадцатого века. Veillee, как видно из названия, были традиционными посиделками, проводимыми фермерскими семействами в течение зимних вечеров, часто в сараях, чтобы использовать тепло помещения, согретого домашним скотом и, таким образом, сэкономить на топливе. Не имея определённой повестки дня за исключением социальных и экономических вопросов общины, эти посиделки представляли местные собрания, где шёл обмен мнениями, историями, сельскохозяйственными новостями, советами, сплетнями и религиозными рассказами или народными сказками, в то время как люди лущили орехи или занимались рукоделием. Учитывая тот факт, в что каждый член сообщества имел большой жизненный опыт целенаправленного наблюдения и практики, приобретаемый каждым семейством в процессе своих хозяйственных решений, эти посиделки представляли запланированный ежедневный семинар по практическому знанию.
Это напрямую подводит нас к двум из больших парадоксов метиса. Первый состоит в том, что метис не распределяется демократически. Он не только зависит от способности к восприятию, сноровки, которая не может быть присуща всем, но также и от доступа к опыту и практике, необходимым для его приобретения, которые могут оказаться ограниченными. Ремесленные гильдии, талантливые мастеровые, определённые общественные слои, религиозные братства, целые сообщества и вообще люди часто относятся к некоторым видам знания, как будто они имеют монополию на них, которую отказываются разделять с другими. Лучше сказать, что доступность такого знания для других сильно зависит от социальной структуры общества и преимуществ, которую даёт монополия на некоторые формы знания[866]. В этом отношении метис не унитарен, и мы, возможно, должны говорить о разных видах метиса, признавая его неоднородность. Второй парадокс состоит в том, что, каким бы пластичным и восприимчивым ни был метис, развитие и передача некоторых его форм кажутся зависимыми от ключевых моментов жизни доиндустриального общества. Сообщества, маргинальные для рынков и государства, наверняка сохранят высокий уровень метиса — у них нет другого выбора, они должны в значительной мере полагаться на свои собственные знания и подручные материалы. Если бы, делая покупки в местном магазине или при посещении ассоциации фермеров, Мат Иса нашел дешевый пестицид, который покончил бы с красными муравьями, он, без сомнения, использовал бы его.
Некоторые формы метиса исчезают на глазах[867]. Так как средства передвижения людей, товарные рынки, формальное образование, профессиональная специализация и средства массовой информации достигли даже наиболее удаленных сообществ, подорваны социальные основы его развития. Можно только приветствовать, причем с большими основаниями, исчезновение великого множества некоторых местных знаний. Как только спички стали широкодоступными, с чего бы вдруг кому-то захотелось узнать, кроме как из праздного любопытства, как высечь огонь с помощью кремня и трута? Умение отстирывать одежду с помощью стиральной доски или на камне на реке требует несомненного искусства, но его с удовольствием потеряли те, кто может позволить себе купить стиральную машину. Подобным же образом и без большой ностальгии были забыты навыки штопки, когда на рынке появились дешевые носки машинной вязки. Старые бугисские моряки говорят: «Теперь, имея таблицы и компасы, любой может управлять судном»[868]. Действительно, почему нет? Производство стандартизированного знания сделало некоторые навыки более доступными, поскольку они уже не являются заповедной зоной гильдии, которая может отказать в допуске к ним или настаивать на долгом ученичестве[869]. Многое из мира метиса, что мы потеряли, есть почти неизбежный результат индустриализации и разделения труда. И многие из этих потерь были осознаны как освобождение от тяжелого труда и нудной работы.
Но было бы серьезной ошибкой полагать, что разрушение метиса — непреднамеренный и неизбежный побочный продукт экономического прогресса. Разрушение метиса и замена его стандартизированными формулами, узаконенными сверху, входит в проект действия и государства, и крупномасштабного бюрократического капитализма. Говоря о «проекте», заметим, что это скорее объект постоянных инициатив, которые никогда не были полностью успешны, потому что ни одна форма производства или социальной жизни не может быть приведена в действие одними формулами, т. е. без метиса. Однако движущая цель проекта отражает логику контроля и присвоения. Местное знание ввиду его рассредоточенности и относительной независимости позволяет все, кроме регламентации. Сокращение или, что более соответствует утопической картине, устранение метиса и местный контроль, который следует за этим, и есть предпосылки проектов государства, административного порядка и финансового управления, а также трудовой дисциплины и прибыли, если речь идет о крупной капиталистической фирме. Подчинение метиса довольно легко видеть в развитии массового производства на фабрике. Я полагаю, что сопоставимый процесс деквалификации рабочей силы в сельскохозяйственном производстве труднее преодолим и, учитывая препятствия на пути полной стандартизации, в конечном счете, менее успешен.
Как убедительно показал в одной из ранних работ Стивен Марглин, капиталистическая прибыль требует не просто эффективности, а комбинации эффективности и контроля[870]. Решающие инновации разделения рабочей силы на уровне комплектующих изделий и концентрация производства на фабрике — ключевые шаги в постановке трудового процесса под унитарный контроль. Эффективность и контроль, в принципе, могли бы совпадать, как, например, в случае механизированного прядения и плетения из хлопка. Однако иногда они абсолютно не связаны и даже несовместимы. «Эффективность в лучшем случае создает потенциальную прибыль, — замечает Марглин. — Без контроля капиталист не может превратить эту прибыль в реальную. Таким образом, организационные формы, которые усиливают капиталистический контроль, могут увеличивать прибыль и тем самым привлекать капиталистов, даже если они неблагоприятны для производительности и эффективности. Наоборот, более действенные пути организации производства, уменьшающие капиталистический контроль, могут в результате сократить прибыль и поэтому отвергаться капиталистами»[871]. Типичная структура кустарного производства часто служила для эффективности. Но она почти всегда была помехой для капиталистической прибыли. На выходе текстильного производства, которое преобладало до фабричной организации, те, кто обрабатывал хлопок, имели контроль над ним, могли устанавливать темп работы и увеличивать свой оборот путем различных стратегических приемов, которые трудно поддавались контролю. Решающее преимущество фабрики, с точки зрения хозяина, состояло в том, что он непосредственно мог устанавливать часы и интенсивность работы, а также контролировать сырье[872]. Уровень, до которого все еще могло организовываться эффективное производство на ремесленной основе (по типу раннего производства шерсти и шелка, согласно Марглину), не устраивал капиталиста, ставящего целью получение прибыли от рассеянного ремесленного населения.
Фредерик Тейлор, гений современных методов массового производства, с большой отчетливостью представлял конечный результат разрушения метиса и превращения сопротивляющегося якобы независимого ремесленного населения в более подходящие единицы или «рабочие руки». «Под научным управлением... руководители понимают.. бремя общего сбора всего традиционного знания, которым обладали рабочие в прошлом, а затем классификации и сведения этого знания к правилам, законам, формулам... Таким образом, все технологические наработки, которые были у рабочих при старой системе, при новой системе должны быть рассмотрены управляющей структурой в соответствии с научными законами»[873].
На тейлористской фабрике только управляющий имел доступ к знанию и управлению всем процессом, а роль рабочего была сведена к выполнению небольших, часто минутных операций общего производства. Производительность зачастую была поразительно высокой, как на первых заводах Форда; однако всегда контроль и получение прибыли оставались наибольшим преимуществом[874].
Утопическая мечта тейлоризации — фабрика, в которой движения каждой пары рук сводились к автоматизму, как у запрограммированных устройств, — на деле оказалась нереализуемой. И не потому, что не делалось попыток. Дэвид Нобл описал хорошо профинансированный проект разработки станков с цифровым управлением, так как он обещал «освобождение от рабочего-человека»[875]. Потому и произошел полный провал этих попыток, что при разработке системы Тейлора не учитывался метис — практическое приспособление опытного рабочего, направленное на компенсацию небольших изменений в материале, температуре, износа или неисправности механизма, технических сбоев и т. д. Один оператор сказал: «Думают, что цифровые средства управления — это какое-то волшебство, но все, что вы можете сделать автоматически, так это только выпустить брак»[876]. Это заключение можно обобщить. В блестящем описании рутинной работы станочников, чьи профессии, казалось, были полностью деквалифицированными, Кен Кастерер показал, как рабочим все же пришлось развить индивидуальные навыки, которые совершенно необходимы для успешного производства, но никогда не могут быть выражены в руководствах для новичков. Один станочник, чья работа считалась малоквалифицированной, провел аналогию между выполнением своей работы и вождением автомобиля: «Все автомобили в основном похожи, но каждый автомобиль своеобразен... В начале обучения вы просто изучаете правила движения. Но как только вы научились ездить, вы приобретаете чувство автомобиля, которым управляете. Вы понимаете, как он ведет себя при различных скоростях, как работают тормоза, когда мотор начинает перегреваться, как завести его, когда холодно... Теперь, если представить себе старые автомобили, похожие на эти станки, причем некоторые из них работали по три смены в течение 20 лет, это будет похоже на то, как если бы у вас был автомобиль без гудка, который начинает поворачивать направо, когда вы нажимаете на тормоз, который не заводится, если вы не зальете бензин определенным образом, — тогда, возможно, вы поймете, что значит пытаться работать на таком старом станке»[877].
Тейлоризация имеет свой аналог и в сельскохозяйственном производстве, аналог с длинной и разнообразной историей. В сельском хозяйстве, как и в промышленности, просто эффективность формы производства не гарантирует присвоения налогов или получения прибыли. Как мы уже отмечали, независимое хозяйство мелкого фермера может представлять наиболее эффективный способ выращивания многих культур. Но такие формы сельского хозяйства, хотя и допускают налогообложение и получение прибыли после полного сбора, обработки и продажи своей продукции, относительно непроницаемы и трудны для контроля. Как это уже было с независимыми ремесленниками и мелкобуржуазными владельцами магазинов, контролирование коммерчески успешных мелких ферм представляет собой кошмар для администратора. Возможностей для уклонения и сопротивления масса, а цена получения точных ежегодных данных очень уж высока, если вообще не чрезмерна[878].
Государство, заинтересованное главным образом в присвоении и контроле, всегда предпочтет оседлую форму сельского хозяйства пастбищному хозяйству или переложному земледелию. По тем же причинам государство вообще предпочитает крупную земельную собственность мелкой и, в свою очередь, плантации или коллективное сельское хозяйство им обеим. Там, где контроль и присвоение являются наиважнейшими соображениями, очевидно, что только две последние формы предлагают прямой контроль над рабочей силой и доходом, возможность выбора культур и методов их возделывания и, наконец, прямой контроль над продукцией и прибылью хозяйства. Хотя, как мы уже знаем, коллективные хозяйства и плантации редко бывают эффективными, они представляют наиболее четкие, прозрачные и потому облегчающие присвоение формы сельского хозяйства.
Крупный капиталистический сельскохозяйственный производитель стоит перед той же проблемой, что и владелец фабрики: как преобразовать ремесленную или метисную науку фермеров в стандартизированную систему знаний, которая позволит ему больше контролировать работу и ее интенсивность. Одним из решений были плантации. В колониальных странах,где здоровых мужчин насильно вербовали на работы, плантации представляли своего рода частные коллективные хозяйства, которые для управления рабочей силой полагались на государственные внерыночные санкции. Не одна плантация, потерпев неудачу в эффективности, восполняла ее, используя свои политические связи, чтобы получить гарантированные субсидии, ценовую поддержку и монополистические привилегии.
Контроль на плантациях, не говоря уже о коллективном хозяйстве, влек за собой (за небольшими исключениями) такие высокие издержки жесткого надзора и расходов, что оказался неэффективным. Теперь, когда ведение сельского хозяйства на плантациях уже дискредитировано, поучительно рассмотреть некоторые более современные альтернативы, отражающие такой же контроль и стандартизацию, поскольку они высвечивают функциональное подобие, которое может принимать различные формы[879]. Повсеместное внедрение контрактного сельского хозяйства — только один из показательных примеров[880]. Когда фермеры, занимающиеся разведением цыплят, поняли, что выращивать их централизованно и в большом количестве не только неэффективно, но и связано с серьезными заболеваниями и проблемой сохранения окружающей среды, они изобрели своего рода высокотехнологичную систему производства[881]. Большая фирма заключает с фермером контракт на поставку цыплят, а затем (по прошествии приблизительно шести недель) выкупает у него птицу, соответствующую стандартам. Фермер, в свою очередь, обязан построить и оплатить ферму, которая соответствует общей спецификации, а также согласно точному расписанию, предписанному корпорацией, кормить, поить и вводить в рацион цыплят лекарственные средства. Договор часто пересматривается. Для корпорации преимущества огромны:она не рискует никаким капиталом, кроме вложенного в стоимость цыплят; ей не требуется никакой собственной земли; ее расходы по управлению малы; она получает одинаково стандартную продукцию и, что немаловажно, без ущерба для себя может отказаться возобновить контракт или изменить цену после каждого раунда соглашения.
Логика, хотя не сама форма, подобна той, что существовала на плантации. Согласно потребности внутреннего или международного рынка корпорация нуждается в абсолютной гарантируемой однородности и надежности поставки продукции[882]. Необходимость управления производством стандартных цыплят во многих разных местах требует, чтобы стандарты были видны на глаз и их можно было легко объединить. Как мы видели в случае научного лесоводства, это не просто вопрос разработки мер оценки, точно передающих факты, которые отражают основной производственный цикл и могут быть переданы руководителям. Это прежде всего вопрос изменения среды в таком направлении, чтобы она была стандартизирована с самого начала. Только стандартизированное разведение птицы, здание фермы, удовлетворяющее требованиям спецификации, фиксированный режим и оговоренное расписание кормления, предусмотренные контрактом, позволяют одному специалисту проинспектировать сотню ферм по выпуску цыплят, скажем, для компании «Кентуки Фрайд Чикен» и убедиться, что отклонения от стандарта минимальны. Можно даже представить себе удобный бланк для проверки. Цель контрактного хозяйства состоит совсем не в том, чтобы понять особенности фермы и приспособиться к ним; скорее оно стремиться преобразовать ферму и ее работников с самого начала так, чтобы они соответствовали сетке контракта.
Фермеры, которые подписывают контракт, пока он в силе, могут получить прибыль, хотя и при значительном риске. Контракты краткосрочны, календарные планы работ детализированы, процесс поставок оговорен. Фермеры, работающие по контракту, теоретически являются предпринимателями мелкого бизнеса, но эта теория не отражает того факта, что они рискуют своей землей и постройками, что они не больше располагают своим временем, чем рабочие сборочного конвейера.
Доводы против имперского знания
Говорят...‚ что он был так предан Чистой Науке...‚ что предпочел бы, чтобы люди умирали от правильной терапии, чем вылечивались благодаря неправильной.
Синклер Льюис. Эрроусмит
Позволю себе заявить, что первоначальные земельные реформы в большевистской России и в послереволюционном Китае были упрощениями при содействии государства, которые предоставляли действительные права миллионам людей, прежде жившим при фактическом крепостничестве. Эпистемическое знание, никогда не отделяемое в жизни от метиса, обеспечило нас наукой о мире, от которой, несмотря на все ее темные аспекты, вряд ли кто-то хотел бы отказаться.
Действительно опасной для нас и для нашей среды оказалась, я думаю, комбинация претензии эпистемического знания на универсальность и авторитарности проектирования социальной жизни. Такая комбинация имела место в планировании городов, в ленинском понимании революции (но не в его практической деятельности), в эпоху коллективизации в Советском Союзе и в виллажизации в Танзании. Она же скрыта в логике научного сельского хозяйства и совершенно очевидна в колониальной практике. Когда подобные схемы почти достигают выполнения своих на самом деле невыполнимых утопий об игнорировании или подавлении метиса и местного своеобразия, они разве что гарантируют собственную практическую неудачу.
Заявления об универсальности кажутся свойственными пути, по которому идет рационалистическое знание. Хотя я не филоcoф, занимающийся вопросами знания, мне кажется, что в эпистемическом здании отсутствует дверь, через которую метис или практическое знание могли бы войти на собственных условиях. Это и есть тот самый империализм, который имеется в виду. Как писал Паскаль, «большая ошибка рационализма состоит не в его признании технического знания, а в его отказе признавать любое другое»[883]. В противоположность этому, метис не кладет все яйца в одну корзину; он не претендует на универсальность и в этом смысле обладает плюрализмом. Конечно, определенные структурные условия могут противоречить имперскому духу эпистемических заявлений. Демократические и коммерческие требования иногда обязывают сельскохозяйственных ученых отталкиваться в своей работе от практических задач, поставленных фермерами. В период революции Мейдзи технические команды из трех человек начали исследовать фермерские новации с их последующим лабораторным анализом для усовершенствования. Строительные рабочие, отказавшиеся покинуть город Бразилиа, как было запланировано, или разочарованные жители деревень уджамаа, сбежавшие из своих поселений, в некоторой степени расстроили предназначавшиеся для них планы. Однако такое сопротивление лежит вне парадигмы самого эпистемического знания. Когда кто-нибудь вроде Альберта Говарда, дотошного ученого, признает «искусство» ведения сельского хозяйства не поддающимся количественной оценке способом приобретения знаний, он выходит за пределы царства кодифицируемого научного знания.
Авторитарные высокомодернистские государства, находящиеся во власти самоочевидной (но, как правило, незрелой) социальной теории, принесли непоправимый вред человеческому сообществу и жизни человека. Ущерб вырос, когда лидеры пришли к выводу, как выразился Мао, что люди — это чистые листы, на которых новый режим может писать. Социалист-утопист Роберт Оуэн полагал то же самое относительно фабричного городка Нью-Ланарк, хотя скорее на гражданском, чем на национальном уровне: «Каждое поколение, во всяком случае каждая администрация, должно видеть раскрытую для них незаполненную страницу неограниченных возможностей, и если случайно этот чистый лист будет исковеркан неразумными набросками скованных своими традициями предков, то первая задача рационалиста должна состоять в том, чтобы отскрести его до блеска»[884].
На мой взгляд, консерваторы вроде Оукшота упустили из виду, что высокий модернизм естественно притягателен для интеллигенции и людей, имеющих достаточно причин ненавидеть прошлое[885]. Колониальные модернизаторы последних лет иногда немилосердно употребляли свою власть для преобразования населения, которое они считали отсталым и весьма нуждающимся в руководстве. У революционеров было достаточно причин презирать феодальное прошлое, погрязшее в бедности и неравенстве, с которыми они надеялись покончить навсегда, но у них были и основания подозревать, что безотлагательная демократия просто возвратит старый порядок. Лидеров государств, только что получивших независимость в непромышленном мире (иногда это были сами революционные лидеры), нельзя обвинять в ненависти к своего колониальному прошлому и экономическому застою, а также в том, что они не прилагали никаких усилий или не имели демократического самоуважения, чтобы сотворить народ, которым они могли бы гордиться. Однако понимание хода исторического развития и логики их приверженности целям высокого модернизма не позволяет нам умолчать о том огромном ущербе, понесенном в результате соединения их убеждений с авторитарной государственной властью.
10. Заключение
Они перестраивали общество на основе абстрактного плана во многом так же, как астрономы переделывали вселенную для удобства вычислений.
Пьер-Жозеф Прудон. Что такое собственность
Все же человек, который использует абстрактный план и доверяет ему, может проиграть тому, у кого вообще нет плана; последнему не нужно тщательно обследовать каждую деталь на своем пути и постоянно искать указаний, в каком направлении ему следует двигаться, напрягая все свои чувства и интеллект.
Е.Ф.Шумахер. Малое — прекрасно
Великие высокомодернистские исторические эпизоды, исследованием которых мы занимались, следует рассматривать как трагедии, по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, интеллектуалы-мечтатели, а также планировщики, исполнявшие их волю, были повинны в гордости — в упущении того факта, что они, смертные, действуют, как если бы они были божествами. Во-вторых, в их действиях, далеких от циничного захвата власти и богатства, явно просматривалось подлинное желание улучшить условия человеческого существования — в том и состоял их фатальный изъян. То, что эти трагедии оказались так глубоко связанными с оптимистическими картинами прогресса и рационального порядка, — уже сама по себе причина для поиска диагноза. Другая причина лежит в подлинно вселенском характере веры в высокий модернизм. Мы сталкиваемся с этим в различных обличьях: в колониальных путях развития; спланированных городских центрах как на Востоке, так и на Западе; коллективных хозяйствах; масштабных планах Всемирного банка; переселении кочевников и управлении рабочими за дверями фабрик.
Если в государствах бывшего социалистического блока и в странах третьего мира подобные схемы, как правило, приноси- ли разрушительные человеческие и природные потери, то это объясняется только тем, что авторитарная государственная власть без препятствий со стороны представительных органов могла подавлять сопротивление и подталкивать проект вперед. Однако идеи, наполнявшие схемы, от которых зависела их законность и привлекательность, были полностью западными. Порядок и гармония, которые когда-то казались находившимися в ведении единого Бога, были заменены верой в идею прогресса, за которую ручались ученые, инженеры и планировщики. Их компетентность, стоит напомнить, меньше всего оспаривалась в те моменты, когда другие формы координации действий потерпели неудачу или казались крайне неадекватными для решения глобальных задач того времени: в период войны, революции, экономического кризиса или недавней борьбы за независимость. Планы, которые они вынашивали, были подобны четким схемам стандартизации, изобретенным абсолютистскими королями XVII и XVIII в. Но полностью обновлен был не только масштаб планов всеобщего социального преобразования, но и средства государственного управления: переписи, кадастровые карты, удостоверения личности, статистические бюро, образование, средства массовой информации, органы внутренней безопасности — все это могло позволить им идти по намеченному пути гораздо дальше, чем мог мечтать каждый монарх XVII в. В результате множество политических трагедий XX в. прошло под лозунгом прогресса, освобождения и реформирования.
«Все дело в невежестве, дурачок!»
У них только одна ошибка: позже они уверовали, что они есть последнее число — какого нет в природе, нет.
Евгений Замятин. Мы
Сентенция, служащая заголовком этой части, не просто подходит для наклеек на бампере и подражает хорошо известному лозунгу кампании по выборам Билла Клинтона в президенты в 1992 г.: «Все дело в экономике, глупыш!» Она имеет целью привлечь внимание к тому, как привычно планировщики игнорируют возможность радикальной перемены обстоятельств в будущем. Очень редко встречается совет о будущем, который начинается с предположения о несовершенстве наших знаний. Одно небольшое отступление — о циркуляре по поводу продуктов питания, опубликованном поликлиникой Йельского университета, где я преподаю, — подчеркнет редкость подобных событий. Обычно такие проспекты дают информацию об основных питательных веществах, витаминах и микроэлементах, существенных для сбалансированного питания, и предлагают основанную на них диету. Однако этот циркуляр подчеркивал, что в последние два десятилетия было обнаружено много новых необходимых компонентов правильного питания и что предположительно еще больше будет найдено исследователями в последующие годы. Поэтому, понимая несовершенство своих знаний, авторы рекомендовали разнообразить питание, насколько возможно, предусмотрительно полагая, что оно содержит многие из этих доныне не выявленных существенных компонентов.
Социальные и исторические исследования неизбежно преуменьшают роль и значение вероятности в совершении событий. Историческое событие или состояние государства часто кажется направленным и вынужденным, в то время как фактически оно легко могло бы пойти в своем развитии другим путем. Даже социальная наука, учитывающая теорию вероятности, какой осторожной она ни была бы в установлении конечных пределов, наверняка будет склонна обращаться с этими возможными событиями как с твердыми фактами. Когда приходится думать о будущем, обычно не ставится под сомнение возможность нештатной ситуации, равно как и способность людей справляться с непредвиденными обстоятельствами и помогать будущему обрести форму. Но в тех случаях, когда спорящие думают, что знают, каким будет будущее, и знают это на основании их понимания исторических законов прогресса или научной истины, какую бы трезвость они ни сохраняли, они не учитывают возможности неожиданной перемены обстоятельств.
Как можно было предсказать, каждая из этих схем терпела неудачу под воздействием непредвиденных обстоятельств, находящихся вне внимания планировщиков. Даже если бы исторические законы были справедливы, а спецификация переменных и вычисления производились корректно, сфера действия и всесторонность их планов были таковы, что они все равно не могли иметь определенные результаты. Несмотря на все амбиции, они могли с некоторой уверенностью предугадывать только ближайшие последствия своих действий, но не определять, а тем более просчитывать последствия второго или третьего порядка и результаты их взаимодействий. В схемах проектировщиков не предсказуемыми оставались естественные события в природе и в обществе, не укладывающиеся в их модели: засухи, войны, восстания, эпидемии, процентные ставки, мировые потребительские цены, эмбарго на нефть. Они могли и, безусловно, пытались приспосабливаться к этим неучтенным обстоятельствам и импровизировать по этому поводу их чрезвычайные меры. Но размеры начального вмешательства были настолько велики, что многие из оплошностей уже не могли быть исправлены. Стивен Марглин коротко сформулировал их ошибку: если «несомненный факт относительно будущего состоит в том, что оно является неопределенным, если единственное, что можно признать безусловным, то, что мы живем в мире неожиданностей, тогда никакое планирование, никакие рецепты не помогут справиться с непредвиденными обстоятельствами, которые преподнесет будущее»[886].
Любопытно совпадение подходов в этом отношении, но не в других, у такого критика командной экономики справа, как Фридрих Хаек, и у критика коммунистического авторитаризма слева князя Петра Кропоткина, заявившего, что «невозможно издавать законы для будущего». Оба они прекрасно понимали значение разнообразия человеческих действий и непреодолимые трудности успешного координирования миллионов взаимодействий. В критическом анализе неудавшихся парадигм развития Альберт Хиршман призывал к «чуть большему «благоговению перед жизнью», чуть меньшей прямолинейности в планировании будущего, чуть большему допущению неожиданного и чуть меньшему принятию желаемого за действительное»[887].
На основе опыта можно выделить несколько сугубо практических правил, соблюдая которые, можно попытаться сделать запланированный процесс развития менее подверженным неожиданностям. И хотя моей главной целью едва ли является реформа методов развития, в такие правила наверняка вошли бы кое-какие из следующих советов.
Делайте небольшие шаги. В экспериментальном подходе к социальным изменениям всегда предполагайте, что мы не можем заранее предугадать последствия наших вмешательств. Учитывая этот постулат нашего невежества, постарайтесь везде, где это возможно, сделать маленький шаг, отойти в сторону, понаблюдать, а затем планировать следующее небольшое движение. Вот как биолог Д.Б.С. Холдейн метафорически описал преимущества малости: «Вы можете бросить мышь в глубокую угольную шахту — когда она достигнет дна, она слегка ушибется и убежит. Крыса убьется, человек переломает все кости, от лошади останется мокрое место»[888].
Предусмотрите возможность отступления. Выбирайте действия, которые можно обратить вспять, если они оказываются ошибочными[889]. Необратимые вмешательства имеют необратимые последствия[890]. Вмешательства в экосистемы требуют особого внимания, учитывая наше дремучее невежество относительно их взаимодействий. Альдо Леопольд так передает дух необходимой осторожности: «Чтобы что-нибудь починить, надо прежде всего иметь все нужные детали»[891].
Планируйте неожиданности. Выбирайте планы, которые до- пускают наибольшую оперативность в случае непредвиденных обстоятельств. В сельском хозяйстве это может означать выбор и подготовку земли таким образом, чтобы на ней можно было выращивать любую из нескольких культур. В планировании жилья это означает универсальный дизайн, предусматривающий возможность изменения семейных структур или стиля жизни. На фабрике это может означать выбор местоположения, планировки и механизмов, которые по своей сущности легко допускают использование новых технологических процессов, материалов или производственных линий.
Планируйте человеческую изобретательность. При планировании всегда предполагайте, что люди, принимающие участие в проекте, будут иметь или разовьют опыт и интуицию, которая позволит им этот проект усовершенствовать.
Планирование для абстрактных граждан
Сила и точность схем высокого модернизма ограничивали не только вынесение за скобки непредвиденных обстоятельств, но и стандартизацию субъектов нового строительства. Даже при самых благородных целях планировщиков некоторая стандартизация неявно присутствовала. В своей массе планировщики были преданы идеям эгалитарного общества, удовлетворения основных потребностей его граждан (особенно рабочего класса) и создания удобств современного общества, доступных для всех.
Давайте остановимся и рассмотрим внимательно образ человека, для которого планировались все эти преимущества. Прежде всего, он предельно абстрактен. Такие разнообразные деятели, как Ле Корбюзье, Вальтер Ратенау, те, кто проводил коллективизацию в Советском Союзе, и даже Джулиус Ньерере (несмотря на всю его риторику относительно африканских традиций), занимались планированием для абстрактных субъектов, которые нуждались в таком-то количестве квадратных футов площади для жилья, акров земельных угодий, литров чистой воды и единиц транспорта, а также в определенном количестве продовольствия, чистого воздуха и мест отдыха. Стандартизированные граждане были однородны в своих потребностях и даже взаимозаменяемы. Как ни поразительно, такие субъекты, подобно «немаркированным гражданам» либеральной теории, не имели никакого пола, никаких вкусов, никакой предыстории, никаких ценностей, мнений или собственных идей, никаких традиций и отличительных индивидуальных признаков, которые учитывались бы при планировании. У них не было никакой особенности, никаких ситуативных и контекстуальных признаков, которых можно ожидать от любого населения и которые мы, кстати, всегда приписываем элитам.
Недостаток в этих схемах контекста и специфичности не является случайной оплошностью: это первая и необходимая предпосылка любого крупномасштабного планирования. Разрешающая способность планирования возрастает в той степени, до которой с людьми можно обращаться как со стандартизированными единицами. Вопросы, поставленные в этих четких пределах, могут иметь ясные количественные ответы. Та же самая логика применяется и к преобразованию природного мира. Вопросы об объеме коммерческой древесины или урожая пшеницы в бушелях допускают более точные вычисления, чем, скажем, вопросы о качестве почвы, вкусе зерна или благосостоянии общества[892]. Экономика достигает своей огромной разрешающей способности, переводя все, что иначе было бы качественными проблемами, в количественные задачи с единой системой измерений и в конечном итоге сводя их к вопросу: прибыль или убыток?[893] Если понимать, сколь решительные упрощения необходимы для достижения подобной точности, а также что сохраняются не подвластные ей проблемы, то единую систему мер следует признать неоценимым инструментом. Проблемы же возникают тогда, когда она становится единственной.
Самое поразительное, что высокомодернистские системы, несмотря на подлинно эгалитарные и часто социалистические побуждения, так мало доверяют навыкам, уму и опыту простых людей. Это достаточно очевидно на тейлористской фабрике, где логика организации работы направлена на сведение участия рабочих рук к серии повторяющихся, отлаженных движений, как можно более машиноподобных. Но это также очевидно и в коллективных хозяйствах, деревнях уджамаа и запланированных городах, куда людей переселяли по заранее составленному плану. Стремления Ньерере к кооперативному государственному хозяйствованию потерпели крах вовсе не потому, что планом не была предусмотрена совместная работа. Чем более амбициозным и мелочным в деталях является план, тем меньше в нем остается места — теоретически — для местной инициативы и опыта.
Разложение действительности на составляющие
Количественные технологии, как правило, лучше всего исследовали процессы социальной и экономической жизни, если мир, который они стремились описать, мог быть переделан по их образцу.
Теодор М. Портер. Доверие числам
Если факты — т. е. поведение живых людей — не соответствуют теоретическим ожиданиям, экспериментатор раздражается и пытается приспособить факты к теории, которая на деле означает своего рода вивисекцию общества, пока они не станут тем, что от них теоретически ожидалось с самого начала.
Исайя Берлин. О политическом суждении
Ясность высокомодернистской оптики обязана своей разрешающей силе. Ее упрощающая фикция состоит в том, что для любой исследуемой деятельности или процесса рассматривается только один определенный план развития. В научном лесу есть только выращиваемая коммерческая древесина; в запланированном городе существенно только перемещение товаров и людей; в жилищном хозяйстве важно лишь снабжение кровом, теплом, канализацией и питьевой водой, в запланированной больнице — только быстрое обеспечение профессиональными медицинскими услугами. И все же и мы, и планировщики знаем, что каждый из этих пунктов является переплетением множества взаимосвязанных действий, не подчиняющихся подобным простым описаниям. Даже дорога от A до B, которая, казалось бы, обладает только одной функцией, может использоваться и в качестве места для отдыха, общения, приключений и просто для того, чтобы наслаждаться видами природы между A и B[894].
В любом случае полезно представить себе две различные оперативные карты. Для запланированного городского квартала первая карта показывает улицы и здания, прослеживая маршруты, которые разработчики предусмотрели для связи между рабочими местами и жильем, поставкой товаров, подъездов к магазинам и т. д. Вторая карта состоит из маршрутов всех незапланированных движений — как при замедленной съемке: вот люди катят детские коляски, гуляют и разглядывают витрины магазинов, прогуливаются друг с другом, играют в «классики» на тротуаре, выгуливают собак, глазеют по сторонам, срезают углы по пути с работы домой и т. д. Эта вторая карта, гораздо более сложная, чем первая, отражает разнообразные детали городской жизни. В старых районах более вероятно, что вторая карта почти вытеснит первую, примерно так же, как это произошло по истечении 50 лет с запланированными предместьями Левиттауна, ставшими совсем непохожими на то, что первоначально предполагалось проектировщиками.
Если наше исследование и научило нас чему-то, так это тому, что первая карта, взятая отдельно, не отражает действительность и на деле нежизнеспособна. Монокультурный лес одного возраста, очищенный от всякой «дряни», в конечном счете, представляет собой экологическое бедствие. Никакая тейлористская фабрика не может наладить производство без непланируемых импровизаций опытных рабочих. Запланированная Бразилиа разнообразно проигрывает незапланированной. Без хоть какого-то разнообразия, как отметила Джекобс, голый жилищный проект (подобно кварталам Прют-Айгоу в Сент-Луисе или Кабрини-Грин в Чикаго) не подойдет жителям. Даже для ограниченных целей близорукого плана — планов производства коммерческой древесины или фабричной продукции — одномерный план просто не сработает. Как с индустриальным сельским хозяйством и его зависимостью от культурных сортов, первая карта может существовать только благодаря деятельности, протекающей вне ее пределов, которую она игнорирует на свой страх и риск.
Наше исследование также научило нас, что такие планы четкости и контроля, особенно когда за ними стоят авторитарные государства, действительно отчасти преуспели в формировании природы и социальной среды по своим предначертаниям. Как могут впечатлять столь неадекватные планы, что за люди их вынашивают? По этому поводу я могу только сказать, что точно так же, как монокультурный лес одного возраста представляет собой бедную и нежизнеспособную экосистему, так и высокомодернистский городской комплекс представляет бедную и нежизнеспособную социальную систему.
Люди сопротивляются серьезным формам социального ущемления, и это предотвращает возможную реализацию однообразных систем централизованной рациональности. Если их претворить в жизнь в наиболее чистых формах, это составит очень мрачную перспективу для человечества. Один из планов Ле Корбюзье, например, предусматривал сегрегацию фабричных рабочих и их семей в бараках вдоль главных транспортных артерий.
Теоретически это было эффективным решением транспортных и производственных проблем. Если бы этот план осуществился, результатом стало бы удручающее окружение строго регламентированных мест работы и жительства без какого-либо оживления. Этот план имел всю привлекательность тейлористской схемы, где, используя сравнимую логику, была достигнута эффективная организация работы, при которой все движения рабочих были сведены к нескольким повторяющимся жестам. Шаблонные конструктивные принципы, лежащие в проектах советского колхоза, деревень уджамаа или поселений в Эфиопии, страдают той же узостью видения. Их основной целью было прежде всего облегчение управления производством из центра и контроля общественной жизни.
Почти все строго функциональные узкоспециализированные учреждения имеют свойства бассейнов для сенсорной депривации, используемых в экспериментальных целях. В пределе они приближаются к крупным социальным надзорным учреждениям XVIII и XIX вв.: приютам, работным домам, тюрьмам и исправительным заведениям. Мы уже достаточно хорошо изучили такие учреждения, чтобы понимать, что через некоторое время они приведут к характерному неврозу своих обитателей, характеризующемуся апатией, замкнутостью, недостатком инициативы и свободы в поведении, необщительностью и несговорчивостью. Такой невроз является приспособлением к депривированной, вялой, однообразной и управляемой среде, он приводит к тупости и безразличию[895].
Суть состоит в том, что высокомодернистские проекты организации производства и социальной жизни направлены на ослабление навыков, сноровки, инициативы и боевого духа тех, кому предназначены служить. Они вызывают умеренную форму такого институционального невроза. Или, пользуясь утилитарным стилем, который признают многие из представителей этого направления, эти проекты уменьшают «человеческий капитал» рабочей силы. Сложная, разнообразная, одушевленная среда, по Джекобс, формирует бодрого и адаптивного человека, который умеет бороться с трудностями и проявлять инициативу. Узкая запланированная среда, напротив, способствует формированию менее умелого, менее творческого и менее находчивого населения. Такое население, однажды сотворенное, действительно, как это ни горько, представляло бы собой человеческий материал, нуждающийся в пристальном надзоре сверху. Другими словами, логика социальной инженерии такого масштаба должна была произвести тот вид субъектов, который был предусмотрен ее планами с самого начала.
Подобная авторитарная социальная инженерия, не сумевшая создать мир по своему собственному образу, не должна затмевать перед нами тот факт, что она, как минимум, причинила вред многим из более ранних структур взаимодействия и практики, существенных для метиса. Советский колхоз не оправдал возлагавшихся на него ожиданий, обращаясь со своими работниками как с фабричными рабочими, он уничтожал многие из профессиональных навыков, которыми обладало крестьянство накануне коллективизации. И даже если было в прежних отношениях то, что следовало устранить (в частности, ущемления, связанные с классом, полом, возрастом и происхождением), вместе с этим упразднялась всякая самостоятельность. Здесь, я думаю, есть что-то похожее на классическое анархистское заявление: государство с его позитивными законами и центральными учреждениями подрывает способность граждан к автономному самоуправлению, которое, кстати, тоже может обратиться к планировочным сеткам высокого модернизма. Их собственная институциональная законность может оказаться хрупкой и недолговечной, но они могут существенно обеднить местные источники экономического, социального и культурного самовыражения.
Неудачи схематизации и роль метиса
Говорят, что всем руководит партия. Никто не отвечает за промахи и накладки, а они всегда есть.
Вьетнамский крестьянин из деревни Ксуан Хэй
Вскоре после начала решительных политических перемен в Советском Союзе, в 1989 г., был созван съезд сельскохозяйственных специалистов для обсуждения реформирования сельского хозяйства. Большинство участников выступило за прекращение коллективного хозяйствования и приватизацию земли. Они надеялись на воссоздание в современном виде частного сектора, который был на подъеме в 1920-х годах и начисто разрушен Сталиным в 1930 г. Кроме того, делегаты были почти единодушны в своем осуждении полного развала, который произошел за эти три поколения с навыками, инициативой и опытом колхозников. Они сравнивали ситуацию в России с положением в Китае, где, как они считали, двадцатипятилетний период коллективизации не затронул предприимчивость крестьянства. Вдруг одна женщина из Новосибирска проворчала: «А как, вы думаете, крестьяне смогли вынести шестьдесят лет этого кошмара? Без ума и инициативы они не смогли бы пережить это! Им нужны кредиты и поставки, но с инициативой у них все в порядке»[896].
Несмотря на многообразную несостоятельность коллективизации, колхозники, кажется, нашли способы и средства, по крайней мере, пройти сквозь все это. В этой связи мы не должны забывать, что первой реакцией на коллективизацию в 1930 г. было решительное сопротивление и даже волнение среди крестьян. После подавления этого сопротивления у оставшихся в живых выбор был небольшой, но они только сделали вид, что подчинились. Крестьяне вряд ли могли сделать успешной командную систему сельского хозяйства, но они сумели сделать лишь самое необходимое: выполняя нормы, обеспечить собственное экономическое выживание.
Свидетельством различных возможных импровизаций, которые допускались по необходимости, может служить показательное сравнение двух восточногерманских фабрик перед самым разрушением Берлинской стены в 1989 г.[897] На руководство обеих фабрик сильно давили, чтобы они выполняли план, несмотря на старые механизмы, плохое качество сырья и недостаток запасных частей — от этого зависели премии сотрудников. При таких драконовских условиях фабрики вынуждены были держать в штате двух совершенно необходимых служащих, хотя их должности занимали довольно скромное место в официальной иерархии. Один из них был мастером на все руки, который мог поддерживать в рабочем состоянии механизмы, исправлять или маскировать производственный брак и экономить запасы сырья. Второй был ловким махинатором, находившим и покупавшим (или выменивавшим) запасные части, машины и сырье, которые невозможно было своевременно получить по официальным каналам. Для облегчения работы снабженца фабрика обычно использовала свои фонды, стараясь запастись такими дефицитными непортящимися товарами, как стиральный порошок, косметика, качественная бумага, пряжа, хорошее вино и шампанское, лекарства и модная одежда. Когда перед предприятием вставала угроза невыполнения плана из-за отсутствия нужных приборов или инструментов, эти знающие умельцы пересекали страну на своих маленьких «Трабантах», забитых всем необходимым для обмена. Ни одна из функций этих людей не была предусмотрена в официальном перечне работ организации, и тем не менее для выживания фабрик их умения, знания и опыт значили больше, чем чьи-нибудь другие. Ключевым элементом централизованной плановой экономики всегда был — неофициально, подпольно — все тот же метис.
Случаи, подобные описанному, были правилом, а не исключением. Они свидетельствуют, что формальный порядок, закодированный в разработках социальной инженерии, неизбежно упускает самые существенные элементы для фактического функционирования этих проектов. Если фабрика была вынуждена работать только в пределах своих прямых обязанностей и функций, указанных в упрощенном проекте, это обычно быстро приводило к ее остановке. Коллективизированная командная экономика всегда продвигалась вперед только благодаря отчаянной импровизации неофициальной экономики, полностью лежащей вне регламентации.
Если выразиться несколько иначе, все формальные системы социальной инженерии фактически являются подсистемами большой системы, от которой они предельно зависят, если не сказать, на которой паразитируют. Подсистема полагается на разнообразие процессов, часто неофициальных, уже происшедших, которые она не может самостоятельно создавать или поддерживать. Чем более схематичен, неадекватен и упрощен формальный порядок, тем он менее гибок и более уязвим для любого возмущения вне его узких параметров. Такой анализ высокого модернизма проявляет необходимость в подпольной рыночной координации, противоречащей централизованной экономике. Однако здесь важно иметь в виду следующее. Сам рынок есть институциональная, формальная подсистема и, следовательно, несмотря на простор действий, который он обеспечивает своим участникам, он подобным же образом зависит от большой системы социальных отношений, которые он не может ни вычислить, ни создать, ни поддерживать. Здесь я имею в виду не только очевидные элементы контрактов и прав собственности, а также поддерживающей их принудительной власти государства, но и всю историю существующих образцов и норм социальных отношений доверия, сосуществования и сотрудничества, без которых рыночный обмен просто невообразим. Наконец, и самое важное — сама экономика есть «подсистема ограниченной сложившейся экосистемы», чьи существующие возможности и взаимодействия она должна уважать как условие своего существования[898].
Я думаю, это вообще характерно для больших формальных систем координации: они обязательно включают в себя то, что кажется аномалией, а при ближайшем рассмотрении оказывается их неотъемлемой частью. Многое из этого могло бы называться «метисом во спасение», хотя для людей, поддавшихся обману авторитарной социальной инженерии и вынужденных жить в этих условиях, такие импровизации отражают отчаянную борьбу за существование. Многие современные города, причем не только в странах третьего мира, выживают за счет трущоб и незаконных самовольных поселений, жители которых обеспечивают основными жизненно важными услугами остальных. Официальная командная экономика, как мы видели, зависит от мелкой торговли, бартера и сделок, обычно незаконных. Официальная экономика пенсионных систем, социального обеспечения и медицинских страховок имеет дело с подвижным, текучим населением, обладающим немногими из этих социальных защит. Подобным же образом в практике механизированных. хозяйств гибридные сорта сохраняются только благодаря разнообразию и иммунитету к болезням предшествующих культурных сортов. В каждом примере неформальная практика является необходимым условием существования формального порядка.
Примеры общественных институтов, дружественных метису
Разработки проектов научного лесоводства, свободного землевладения, запланированных городов, колхозов, деревень уджамаа и промышленного сельского хозяйства при всей их изобретательности представляли собой довольно простые вмешательства в неимоверно сложные естественные и общественные системы. Абстрагировавшись от систем, взаимодействия которых не подчинялись расчетам, в основу нового порядка заложили всего несколько элементов. В лучшем случае новый порядок был хрупким и уязвимым, поддерживаемым импровизациями, вовсе не предусмотренными его создателями. В худшем случае он приносил непоправимый вред людям, ломая судьбы, повреждая экосистемы, раскалывая и разоряя общества.
Этот довольно общий приговор должен быть смягчен, особенно в случае социальных систем, по крайней мере по четырем соображениям. Во-первых, и это самое важное, социальный порядок, на смену которому они приходили, был настолько явно несправедливым и репрессивным, что любой новый порядок казался предпочтительным. Во-вторых, высокомодернистская социальная инженерия обычно представала облаченной в прогрессивные, эгалитарные и освободительные идеи: равенство перед законом, гражданство для всех, право на средства к существованию, здоровье, образование и крышу над головой. Предпосылкой, обеспечивающей большую притягательную силу высокомодернистского кредо, было обещание со стороны государства сделать выгоды технологического прогресса доступными для всех граждан.
Две оставшиеся причины для смягчения приговора таким схемам относятся не к самим их потенциально разрушительным последствиям, а к способности обычных людей изменять эти последствия или, в конце концов, обращать вспять. Там, где функционировали представительные учреждения, определенный компромисс был неизбежен. Когда их не было, весьма примечательно, что упорное ежедневное сопротивление тысяч граждан вынуждало власти отказаться от проекта или изменить его. Конечно, если времени достаточно, любой высокомодернистский план будет постепенно изменен вплоть до полной переделки народной практикой. Советские коллективные хозяйства, представляющие наиболее безжалостный пример этих проектов, в конце концов пришли в упадок как из-за бессмысленности работы и сопротивления колхозников, так и благодаря политическим переменам в Москве.
Не отрицая бесспорных выгод разделения труда и иерархической координации для некоторых задач, я хочу привести пример других социальных институтов, которые являются полифункциональными, пластичными, разносторонними и приспособляемыми, другими словами, институтов, которые в большой мере сформированы метисом. Тот факт, что люди, захваченные ограниченными системами формального порядка, кажутся постоянно работающими в своих собственных интересах, делая систему более многосторонней, — один из признаков общего процесса «социального приручения». Другой показатель — это социальная притягательность самостоятельности и разнообразия, что видно, например, в популярности кварталов смешанного назначения у Джекобс и в неизменной привлекательности занятия собственным бизнесом.
Разнообразие и определенные формы сложности кроме своей привлекательности имеют и другие преимущества. В природных системах, как мы знаем, эти преимущества многообразны. Естественный лес, поликультурные посевы и сельское хозяйство с открытым опылением могут, не быть столь же производительными за короткий промежуток времени, как монокультурные леса и поля с идентичными гибридами. Но совершенно очевидно, что они более устойчивы, более самостоятельны, менее подвержены заболеваниям и опасностям со стороны окружающей среды и меньше нуждаются во внешних усилиях для самосохранения. Каждый раз, когда мы заменяем «естественный капитал» (такой, как запасы рыбы в естественных водоемах или девственные леса) тем, что можно назвать «культивированным естественным капиталом» (вроде рыбных хозяйств или лесных плантаций), мы приобретаем легкость присвоения и немедленную продуктивность за счет больших расходов по эксплуатации и малой «избыточности, способности к самовосстановлению и надежности»[899]. Если трудности с окружающей средой, с которыми сталкиваются такие системы, сравнительно скромны и предсказуемы, то определенное упрощение могло бы быть и относительно устойчивым[900]. Однако при прочих равных условиях меньшее разнообразие культивированного естественного капитала делает его более уязвимым и нежизнеспособным. Проблема состоит в том, что в большинстве экономических систем внешние издержки (например, загрязнение воды или воздуха или истощение невосполнимых ресурсов, включая сокращение биологических разновидностей) накапливаются намного быстрее, чем снижается рентабельность самой практической деятельности (в узком смысле, оцениваемой по соотношению прибылей и убытков).
Мне кажется, аналогично можно рассмотреть социальные институты, для которых недолговечность ригидных и узконаправленных централизованных форм резко контрастирует с адаптивностью более гибких, многоцелевых и нецентрализованных. Пока ближайшее проблемное окружение института остается повторяющимся, устойчивым и предсказуемым, набор определенных установившихся практик может оказаться исключительно эффективным. Но в большинстве экономических структур и в человеческих делах вообще так бывает редко, и рутинная практика перестанет работать, если среда вдруг заметно изменится. Долгосрочное существование некоторых социальных институтов: семьи, небольшого сообщества, мелкого хозяйства, семейной фирмы в некоторых делах — есть результат их определенной приспособляемости к резко меняющимся обстоятельствам. Они никоим образом не являются бесконечно приспосабливаемыми, но при этом пережили не одно предсказание своего неизбежного упадка. Небольшое семейное хозяйство в результате мобильности своей рабочей силы (включая использование детского труда), способности к быстрой смене культур или видов домашнего скота и склонности к использованию разнообразных возможностей сумело сохраниться среди конкурирующих экономических структур, а множество огромных высокоразвитых, механизированных и специализированных акционерных и государственных хозяйств потерпело неудачу[901]. В секторе экономики, где важнее местное знание, быстрая реакция на погоду и состояние сельскохозяйственных культур, а также меньше накладные расходы (малость!), чем в крупной промышленности, семейная ферма имеет значительные преимущества.
Даже в огромных организациях многообразие приносит дивиденды за счет стабильности и способности к быстрому восстановлению. Город, имеющий однонаправленное производство, как, например, жемчужина в короне сталинской металлургической промышленности — Магнитогорск, уязвим, когда меняется технологический процесс и требуется производить новые изделия, а неспециализированный город, в котором много предприятий и разнообразной рабочей силы, может перенести довольно сильные удары. Поразительно, что в наиболее индустриализированных экономиках сложные и зачастую низкодоходные способы добывания пропитания, домашняя заготовка продовольствия, неучитываемая работа и широко распространены, и необходимы, хотя едва отражаются в большинстве форм экономической отчетности[902]. Примером могут служить развитые семейные фирмы из Эмилии-Романья в Италии, которые поколениями процветали на чрезвычайно конкурентном мировом рынке текстиля благодаря сети согласованных взаимоотношений, адаптивности и высококвалифицированной и стабильной рабочей силе. Одновременно семейные фирмы укоренялись в местном обществе, в котором все знали друг друга и которое за несколько столетий приобрело большой опыт совместной жизни и гражданские навыки[903]. Эти фирмы вместе с плотными, разнообразными сообществами, в которые они были внедрены, воспринимались все менее архаично и казались идеально подходящими для экономики постиндустриального капитализма. Даже в узких границах рыночной конкурентоспособности в либеральных индустриальных обществах поливалентные, адаптивные, небольшие структурные единицы имеют больше преимуществ, чем мог бы вообразить любой приверженец высокого модернизма 1920-х годов.
И более того, как только мы оцениваем такие поливалентные учреждения в соответствии с более широкими критериями, пример становится даже более веским. Если рассуждать на этом уровне, нужно возвратиться к ранее поставленному вопросу: какие люди вынашивают мысль о подобных учреждениях? Лучше всех установил связь между экономической предприимчивостью и политическими навыками Томас Джефферсон в своем прославлении мелких фермеров-землевладельцев. Джефферсон был уверен, что самостоятельность и навыки, нужные для ведения независимого сельского хозяйства, помогли взрастить гражданина, привыкшего ответственно принимать решения, имеющего достаточно собственности, чтобы избежать социальной зависимости, и включенного в традицию обсуждения проблем и ведения переговоров со своими согражданами. Короче говоря, сословие мелких фермеров-землевладельцев было идеальной основой для демократического гражданства.
К любой запланированной, построенной и узаконенной форме социальной жизни можно применить сравнительный тест: до какой степени обещает она увеличить навыки, знание и чувство ответственности тех, кто является ее носителем? На более узком институциональном уровне вопрос звучал бы так: насколько глубоко эта форма отмечена ценностями и опытом тех, кто ее составляет? В каждом случае целью является различение ситуаций, допускающих лишь незначительную модификацию (а то и вовсе никакой), и ситуаций, поддерживающих развитие и применение метиса.
Здесь может помочь простой пример со сравнением военных памятников. Мемориал ветеранов Вьетнама в Вашингтоне, судя по числу и интенсивности его посещений, несомненно, один из наиболее удачных. Построенный по проекту Майи Лин Мемориал представляет собой неглубокую траншею, внешняя стена которой облицована черным полированным гранитом. На стене высечены имена погибших и пропавших без вести. Имена перечисляются не по алфавиту и не по принадлежности военным подразделениям, а в хронологическом порядке, по точной или предполагаемой дате гибели[904]. Другого словесного или скульптурного выражения отношения к войне нет, что вряд ли удивительно в свете того, какие политические бури вызывает до сих пор эта война[905]. Особенно примечательно то, как вьетнамский мемориал влияет на тех людей, которые приходят сюда помянуть друга или любимого. Они касаются имен, высеченных на стене, гладят их и оставляют свои произведения и памятные подарки, от стихов и женской туфли на высоком каблуке до бокала шампанского и набора карт «полного дома» в покере. Эта дань памяти погибших настолько обильна, что музей создал для них специальное здание. Картина множества людей, стоящих вместе у стены, прикасающихся к именам своих любимых, погибших на одной и той же войне, трогает человека независимо от его отношения к самой войне. Я уверен, что значительная часть символической мощи мемориала состоит в том, что он дает возможность посетителям воздать почести умершим и тем самым выразить собственный смысл, свою историю и свою память. Мемориал требует сопереживания для полного осознания его значения. Хотя его нельзя сравнить с тестом Роршаха, тем не менее Мемориал достигает своей цели и тем, что люди ему приносят, и тем, какое впечатление производит он сам.
А теперь сравним Мемориал ветеранов Вьетнама с другим, сильно отличающимся от него американским военным мемориалом на острове Иводзима: скульптурной группой, изображающей подъем американского флага на горе Сурибачи во Второй мировой войне. Волнующая сама по себе, относящаяся к заключительному моменту победы, завоеванной огромной ценой человеческих жизней, Иводзимская группа явно героична. Ее патриотизм (символизируемый флагом), ее указание на победу, ее преувеличенный масштаб и ее неявная тема единства в победе оставляют мало места для сопереживания, которое ожидается от зрителя. Учитывая единодушие, с которым относились и относятся к той войне в Соединенных Штатах, совсем не удивительно, что Иводзимский мемориал должен был быть монументальным и внятным в своем посыле. Этот памятник, хотя и не вполне «самодостаточный», все же символически более независим, как и большинство военных памятников. Посетители могут испытывать благоговейный трепет, вглядываясь в образ, который благодаря фотографии и скульптуре стал символом войны на Тихом океане, но они скорее получают от него сообщение, чем взаимодействуют с ним[906].
Социальный институт, форма или предприятие, которое сформировалось под влиянием метиса людей, занятых в нем, расширит рамки своего опыта и навыков. Следуя поговорке «Пан или пропал», дружественный метису социальный институт использует и обновляет ценные для общества товары. Это, конечно, не может служить лакмусовой бумажкой для всех социальных форм. Все социальные формы «искусственно» сконструированы, чтобы служить целям человека. Когда цель узкая, простая и постоянная во времени, ее можно кодифицировать, и иерархическая рутина, возможно, будет наиболее адекватна в небольшом промежутке времени. Однако даже в таких случаях мы должны осознавать цену человеческих затрат, сводящих на нет результаты рутинной деятельности, и возможное сопротивление ей.
Когда же качество учреждения и продукт его деятельности зависит от наличия энтузиазма участников, такая лакмусовая проба имеет смысл. Например, при строительстве жилья успех нельзя оценить, не узнав мнения тех, кто в нем живет. Проектировщики жилья, принимающие как должное разнообразие человеческих вкусов и неизбежные (и непредсказуемые) изменения в составе семьи, с самого начала предусмотрят некоторые вариации, создавая гибкие строительные проекты и поэтажные планы, которые можно менять. Тем же способом разработчики планов кварталов обеспечат разнообразие и комплексность, которые смогут гарантировать их жизнеспособность и долговечность. Кроме того, те, кто занимается планированием и зонированием, обычно не ставят своей задачей дать гарантию того, что в конце концов кварталы дойдут до разработанных ими форм. Можно представить много типов общественных институтов: школы, парки, детские площадки, гражданские ассоциации, деловые предприятия, семьи, даже планирующие органы, которые вполне можно оценить с тех же самых позиций.
В либеральных демократических государствах многие общественные институты уже принимают такую форму и могут служить образцами для моделирования новых. Можно сказать, что сама демократия основана на предположении, что метис населения страны в опосредованном виде непрерывно изменяет законы и политику государства. Право по обычаю, как общественный институт, обязано своей долговечностью тому, что оно является не окончательной кодификацией неких правил, а набором процедур для непрерывного приспосабливания неких широких принципов к новым обстоятельствам. Наконец, наиболее характерный из всех человеческих общественных институтов — язык — является и наилучшей моделью: он представляет собой структуру смыслов, последовательность, которая никогда не останавливается в своем развитии и дает широкий простор импровизациям всех говорящих на нем.
Источники иллюстраций
Рис. 1. Фотография из собрания П. Марка С. Эштона. С разрешения П. Марка С. Эштона.
Рис. 2. Фотография Анджело Ломео. С разрешения фотографа Булати Ломео.
Puc. 3-6. Из: George Yaney. The Urge to Mobilize: Agrarian Reform in Russia, 1861—1930. Urbana: University of Illinois Press, 1982. P. 147, 149, 148, 150. Copyright 1982 by the Board of Trustees of the University of Illinois. Использовано с разрешения университета Иллинойса.
Рис. 7. Фотография Алекса С. Маклина из: James Corner and MacLean. Taking Measures Across the American Landscape. New Haven: Yale University Press, 1996. P. 51. С разрешения Алекса С. Маклина.
Puc. 8. Из: Mark Girouard. Cities and People: A Social and Architectural History. New Haven: Yale University Press, 1985. P. 91. С разрешения города Брюгге.
Рис. 9. Карта из Чикагского Исторического общества. Использована с разрешения Чикагского Исторического общества.
Рис. 10 Карта из: A. Alphand. Les promenades de Paris 2 vols (Paris 1867—1873), plates 11 and 12.
Рис. 13. Фотография карты с выставки «Голодная зима и освобождение Амстердама», Амстердамский исторический музей, 1995 г. С разрешения Амстердамского исторического музея.
Рис. 14-17. Из: Le Corbusier. The Radiant City / Trans. Pamela Knight, 1933. New York: Orion Press, 1964. P. 204, 220, 225, 149.
Рис. 18. План Лючио Коста перепечатан из: Lawrence Vale, Architecture Power, and National Identity. New Haven: Yale University Press, 1992. P. 118.
Рис. 19—26. Фотографии Джеймса Холстона. Из: Holston. The Modernist City: An Anthropological Critique of Brasilia. Chicago: University of Chicago Press, 1989. P. 100, 102, 132, 313. Рис. 23 — фотография Абриля Имаенса / Карлоса Фененха. С разрешения Джеймса Холстона.
Puc. 27. Фотография из: Ravi Kalia. Chandigarh: In Search of an Identity. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1987. P. 97. Copyright 1987 by the Board of Trustees, Southern Illinois University. Использовано с разрешения попечительского совета университета Южного Иллинойса.
Рис. 28—30. План и фотографии печатаются с разрешения Теодора Шанина.
Рис. 31. Jannik Boesen, Birgit Storgaard Madsen, Tony Moody. Ujamaa: Socialism from Above. Uppsala: Scandinavian Institute of African Studies, 1977. P. 178. Использовано с разрешения издателей.
Рис. 32. John M. Cohen and Nils-Ivar Isaksson. Villagization in Ethiopia’s Arsi Region // Journal of Modern African Studies. 1987. Vol. 15, №3. P. 450. Воспроизведено с разрешения Cambridge University Press.
Рис. 33. Jason W. Clay, Sandra Steingraber, Peter Niggli. The Spoils of Famine: Ethiopian Famine Policy and Peasant Agriculture. Cambridge, Mass.: Cultural Survival, 1988. Report №25, P. 248. Использовано c разрешения Cultural Survival, Inc.
Puc. 34. Картина Davis Meltzer us: James B. Billard. The Revolution in American Agriculture, с иллюстрациями James R. Blair // National Geographic. 1970. Vol. 137, №2 (Еебгчагу). P. 184—185. Использовано с разрешения Davis Meltzer/National Geographic Image Collection.
Рис. 35. Фотография из: Paul Richards. Indigenous Agricultural Revolutions: Ecology and Food Production in West Africa. London: Unwin Hyman, 1985. Pt. 3. С разрешения Пола Ричардса.
Puc. 36-37. Рисунок из: Edgar Anderson. Plants, Man, and Life. Boston: Little, Brown, 1952. P. 138—139. Использовано с разрешения Ботанического сада Миссури.
[1] Bauman Z. How the Defeated... // Times Literary Supplement, 11.01.1991.
[2] Разделение проходит здесь между обществоведами (и «человековедами»), особо интересующимися субъективными и интерсубъективными смыслами в определении причин человеческого поведения, и теми, кто фокусирует внимание на «объективных», т.е. вне-смысловых его факторах.
[3] J.C. Scott. Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. Yale University Press, 1976.
[4] E.P. Tompson. The Making of the English Working Class. L.: Penguin, 1991; К. Polanyi. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beakon Press, 1957.
[5] J.C. Scott. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. Yale University Press, 1985.
[6] J.C. Scott. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. Yale University Press, 1990.
[7] J.C. Scott. Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Yale University Press, 1998. Перевод введения и заключения к книге см. в: Рефлексивное крестьяноведение: Десятилетие исследований сельской России / Под ред. Т. Шанина, А. Никулина, В. Данилова. М.: МВШСЭН, РОССИЗН, 2002.
[8] Яшин А.Я. Рычаги // Литературная Москва. 1956. №2.
[9] Merton R.K. Social Theory and Social Structures. Free Press, 1964.
[10] Henry E. Lowood. The Calculating Forester: Quantification, Cameral Science, and the Emergence of Scientific Forestry Management in Germany // The Quantifying Spirit in the Eighteenth Century. Berkeley: University of California Press, 1991. P. 315-342. Дальнейшее изложение в значительной степени обязано прекрасному анализу Лоувуда.
[11] Поразительное исключение здесь монаршее внимание к «благородной игре» — охоте на оленей, кабанов, лис и, следовательно, к защите их среды обитания. Чтобы читатель не усмотрел в этом некой причудливой вычурности времени премодерна, напомним об огромной социальной важности охоты для таких недавних «монархов», как Эрих Хонекер, Николае Чаушеску, Георгий Жуков, Владислав Гомулка и маршал Тито.
[12] Evelyn J. Sylva, or A Discourse of Forest Trees. London, 1664, 1679. P. 118 (цит. по: John Brinckerhoff Jackson. A Sense of Place, a Sense of Time. New Haven: Yale University Press, 1994. P. 97—98).
[13] Рамачандра Гуха указал мне, что глагол «игнорировать» здесь неадекватен, что государству свойственно стремление управлять, регулировать и уничтожать те практики, которые идут вразрез с его политикой управления. Своими знаниями по истории лесоводства (весьма, впрочем, ограниченного) я во многом обязан Рамачандре Гухе и двум его книгам: The Unquiet Woods: Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalaya. Berkeley: University of California Press, 1989; This Fissured Land: An Ecological History of India. Delhi: Oxford University Press, 1992 (совместно с Мадхавом Гаджилем). Увлекательное и всестороннее исследование изменений культурного значения леса для Запада см. в: Robert Pogue Harrison. Forests: The Shadow of Civilization. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
[14] Harrison. Forests. P. 121.
[15] Это своего рода «вывернутый» принцип Гейзенберга. Там наблюдаемое явление изменяется благодаря акту наблюдения, а состояние до наблюдения в принципе неизвестно, здесь же влияние (заинтересованного) наблюдателя должно со временем так изменить явление, чтобы оно фактически, на самом деле стало соответствовать тому, что видит наблюдатель через применяемую им оптику.
[16] См. Keith Tribe. Governing Economy: The Reformation of German Economic Discourse, 1750—1840. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Более полно процесс кодификации принципов государственного управления в Европе XVII-XVIII вв. исследован Мишелем Фуко в лекциях о «государственности», прочитанных в Коллеж де Франс — под несколько дезориентирующей рубрикой «полицейское государство» (от Polizeiwissenschaft). Cm.: Graham Burchell, Colin Gordon. The Foucault Effect: Studies in Governmentality. London: Harvester Wheatsheaf, 1991.
[17] В конце XVII в. Жан-Батист Кольбер строил планы «рационализации» управления лесами с тем, чтобы предотвратить браконьерство и обеспечить стабильность доходов. С этой целью Этьен Драле в своем произведении «Traite du regime forestier» предлагал систематизировать участки (tire-aire) «так, чтобы обеспечить регулярный рост и надежную охрану леса». Несмотря на эти инициативы во Франции ничто не менялось вплоть до 1820 г., когда началось внедрение новых немецких методов. См.: Peter Sahlins. Forest Rites: The War of the Demoiselles in Nineteenth-Century France // Harvard Historical Studies. №115. Cambridge: Harvard University Press, 1994.
[18] Lowood. The Calculating Forester. P. 338.
[19] Для измерения и расчета объема древесины в «условном» дереве привлекались и проверялись на опыте самые разные методы. Например, такой: реальное дерево разрубали в щепу, которую затем прессовали в заданную форму и обмеряли. Или такой: древесину складывали в бочку известного объема, а затем доливали в бочку воду с помощью мерного сосуда, что позволяло определить объем бочки, не занятый древесиной (там же, p. 328).
[20] Утилитарный подход можно было; в принципе, использовать и для некоторых других измеримых «назначений» леса, например, для расчета популяций охотничьих животных, объемов мачтовой древесины или площади пастбищ. Однако, когда использованием леса для разных и противоречивых утилитарных целей руководят разные ведомства, возникает большая неразбериха, а у местного населения появляется свобода маневра. См. замечательное исследование: K.Sivaramakrishnan. Forests, Politics, and Governance in Bengal, 1794-1994. Ph.D. diss. Department of Anthropology, Yale University, 1996.
[21] Хочется добавить, что в отношении лесов позиция государства нередко оказывалась более дальновидной и широкой, чем позиция частных фирм, способных разорить девственные леса и неоднократно это проделавших, а затем продать землю, на которой они росли, или уступить ее в счет налогов (примером могут служить «вырубки» на севере Среднего. Запада США на рубеже XIX-XX вв.). Беда, однако, в том, что в случае войны или финансового кризиса и государство тоже оказывается близоруким.
[22] Lowood. The Calculating Forester. P. 341. Cm. также Harrison. Forests. P. 122—123.
[23] Недавнее клонирование деревьев для получения генетически однородных членов данной разновидности — еще более драматический шаг в направлении однородности и контроля.
[24] Одна из новаций, которым такое экспериментирование дало ход, была «финансовая ротация». Пристальное внимание к ежегодным нормам роста чистых посадок и уверенное знание о возможностях лесозаготовок позволили лесоводам точно вычислить момент, когда добавленная стоимость еще одного года роста была превышена добавленной стоимостью (минус амортизационные расходы более раннего лесоповала и повторной посадки) нового роста. Точность была, конечно, основана на сравнениях, которые стали возможными благодаря предположению о гомогенных единицах древесины и рыночных цен.
[25] Термин «заново спроектированный» или «перепроектированный» взят из ценной книги C. Maser. The Redesigned Forest (San Pedro: R. and E. Miles, 1988). Многое из его аргументов может быть выведено из оппозиций, которые он подчеркивает в заголовках начальных разделов: «Природа разработала лес как непредсказуемый эксперимент... Мы пытаемся спроектировать регулируемый лес»; «Природа разработала лес долгосрочных тенденций... Мы пытаемся спроектировать абсолютно кратковременный лес»; «Природа разработала разнообразный лес... Мы разрабатываем упрощенно однородный лес»; «Природа разработала лес с процессами, находящимися во взаимосвязи... Мы пытаемся спроектировать лес, основанный на изолированных процессах».
[26] См., например, Honore de Balzac’s. Lespaysans. Paris: Pleiades, 1949; Thompson E.P. Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act. New York: Pantheon, 1975; Hay Douglas. Poaching on Cannock Chase // Albion’s Fatal Tree. New York: Pantheon, 1975; Hahn Steven. Hunting, Fishing, and Foraging: Common Rights and Class Relations in the Postbellum South // Radical History Review. 1982. №26. P. 37-64. B качестве соответствующего немецкого примера см. одну из первых изданных статей Карла Маркса, связывающую воровство леса с деловым циклом и безработицей в Rhineland: изложено в Linebaugh Peter. Karl Marx, the Theft of Wood, and Working-Class Composition: A Contribution to the Current Debate // Crime and Social Justice, Fall-Winter, 1976. P. 5-16.
[27] Результаты трех ротаций могли бы потребовать целых двести лет или рабочие жизни шести наблюдающих лесников. Сравните это, скажем, с результатами наблюдения трех ротаций кукурузы, которые потребовали бы только три года. Для современных лесов результаты третьей ротации еще не наступили. Экспериментальный период с лесом выходит за пределы жизни отдельного человека. См. Maser. The Redesigned Forest.
[28] В Германии состоялись дебаты представителей утилитарных взглядов, которые я описал, и антиутилитарных, антиманчестерский подход которых представлял среди прочих Карл Гейер, ратовавший за естественную регенерацию. Но быстрый успех утилитаристов обеспечил главенствующее положение их взгляда, он стал «экспортной моделью» немецкого научного лесоводства. Я благодарен Арвиду Нельсону за эту информацию за то, что он поделился со мной своими глубокими знаниями об истории лесной политики в Германии. В 1868 г. Дитрих Брандес, немецкий руководитель лесов колониальной Индии, предложил план, который принес бы пользу и лесу сообщества, и государственному производительному лесу, но на первую часть его плана наложили вето британские администраторы. Интересы чиновников, как уже становится очевидно, сводятся к тем элементам смешанного наследия немецкого лесоводства, которые наиболее благоприятны в смысле четкости, управления и дохода.
[29] Пинчот посетил прусские и швейцарские леса после своего обучения в Нанси. Карл Шенк, основатель первой школы лесоводства в Соединенных Штатах, был немецким иммигрантом, окончившим немецкий университет, а Бернард Фернов, руководитель отделения лесоводства федерального правительства с 1886 до 1898 г. (прежде, чем Пинчот), — дипломированным специалистом Прусской академии леса в Меундене. Я благодарен Карлу Якоби за эту информацию.
[30] Детальное и аналитичное изложение лесной колониальной политики в Индии см. Sivaramakrishnan. Forests, Politics, and Governance in Bengal. B гл. 6 он показывает, как три принципа научного лесоводства — чистые посадки коммерческой древесины лучше, чем смешанные; пожар — разрушительный фактор, которого нужно избегать; использование леса как пастбища или места для сбора дров может только угрожать программе лесного управления — были отвергнуты под давлением очевидности в Индии.
[31] Plochmann Richard. Forestry in the Federal Republic of Germany // Hill Family Foundation Series. Corvallis: Oregon State University School of Forestry, 1968. P. 24—25; приводится в: Maser. The Redesigned Forest. P. 197—198. Опущенные предложения для тех, кто специально заинтересован в предмете, следующие: «Посадка ели может служить примером. Корни наших елей обычно очень мелкие. Высаженные на почве, где прежде росли лиственные деревья, корни ели могли следовать за глубокими каналами корней деревьев первого поколения. Но уже во втором поколении корневая система стала мелкой из-за прогрессивного уплотнения почвы. В результате питание деревьев стало меньше. Молодые ели могли получать питание от перегноя, накопленного в первом поколении деревьев, но не были способны произвести перегной сами. Отходы ели гниют намного медленнее, чем слетает хвоя, и намного труднее разлагаются фауной и флорой верхнего слоя почвы. Поэтому в большинстве случаев получается недозрелый перегной. Его гумические кислоты начали выщелачивать почву при нашем влажном климате и обедневших фауне и флоре почвы. Это приводило даже к ослаблению разложения и ускоренному отсыреванию перегноя. Плочман указывает, что в сосновых плантациях наблюдается сходный процесс. Этот результат мне подтвердил Дэвид Смит с Йельского факультета лесоводства и изучения окружающей среды, автор The Practice of Silviculture, важного источника по современным методам лесоводства. Чтобы узнать, как методы научного лесоводства, особенно отвращение к огню и предпочтение монокультуры, отрицательно воздействуют на здоровье леса и производство, см.: Langston Nancy. Forest Dreams, Forest Nightmares: The Paradox of Old Growth in the Inland West. Seattle: University of Washington Press, 1995.
[32] «Когда нет препятствий посадкам с короткой ротацией, будут элиминированы 10% разновидностей живой природы(не считая птиц); будут элиминированы 29% разновидностей живой природы, когда оба препятствия и к тому же упавшие деревья (бревна) будут удалены от интенсивно управляемых молодых растущих лесов. Поскольку из леса, в основе управления которым лежит так называемая интенсивная разработка древесины, непрерывно удаляются важные части, мы приходим к окончательному упрощенному представлению современного лесоводства — плантация или «ферма рождественских елок» (Maser. The Redesigned Forest. P. 19).
[33] Ключевой шаг в этом процессе — симбиотические структуры корня гриба под землей (микоризальная ассоциация), изучаемые сэром Альбертом Говардом.См. гл. 7.
[34] Некоторые из вредителей, о которых идет речь: «сосновая пяденица, боярышница, сосновая совка, монашенка, листовертка, жуки-короеды, бражники, опенок настоящий, красная гниль» (Maser. The Redesigned Forest. P. 78).
[35] Краткое описание этих методов см.: Carson Rachel. Silent Spring. Boston: Houghton Mifflin, 1962, 1987. Карсон хвалит эти обещающие методы, потому что они используют скорее биологические средства управления, чем пестициды.
[36] Неблагоприятные последствия разработки леса для максимизации производства единственного товара к настоящему времени стали уже всемирным опытом. После Второй мировой войны Япония приняла политику замены многих смешанных лесов, разграбленных на топливо и строительные материалы, лесом с единственной разновидностью — японским кедром, отобранным ради его быстрого роста и коммерческой ценности. Только теперь стало ясно, что мили высоких, стройных кедров, легко падающих при сильном ветре, стали причиной тяжелой эрозии почвы и оползней, уменьшили водное питание. Они дают мало солнечного света поросли, и слабую защиту, и плохое питание фауне. Для городских японцев преобладающее краткосрочное неудобство кедров — их массивный сезонный выпуск пыльцы, вызывающей серьезные аллергические реакции. Но аллергии — только наиболее показательный симптом более глубоких последствий такого радикального упрощения. См.: Sterngold James Japan’s Cedar Forests Are a Man-Made Disaster // New York Times. 1995. 17 Jan.
[37] Maser. The Redesigned Forest. P. 54—55. «Товар», ожидаемый от современных лесов, — не древесина сама по себе, а целлюлоза для создания бумаги. Это привело, в свою очередь, к генной инженерии разновидностей и увеличило количество деревьев, из которых производится идеальная по качеству и количеству целлюлоза.
[38] В контексте экономики практика научного лесоводства оказалась способна ввергнуть общество в большие убытки, которые не покрыть никаким доходом. Эти убытки объясняются, например, истощением почвы, потерей способности задерживать воду, ухудшением качества воды, сокращением охоты и потерей биологического разнообразия.
[39] Plochmann. Forestry in the Federal Republic of Germany. P. 25. Имеются, конечно, естественно встречающиеся монокультурные массивы деревьев, обычно в стесненных экологических условиях, включая, что показательно, те, которые находятся на абсолютно деградирующихся участках. Подборку сведений по этой проблеме см.: Matthew J. Kelty, Bruce C. Larson and Chadwick D. Oliver, eds. The Ecology and Silviculture of Mixed-Species Forests: A Festschrift for David W. Smith. Dordrecht and Boston: Kluwer Academic Publishing, 1992.
[40] Нэнси Лэнгстон дает более глобальную оценку: «Каждый, кто когда-либо начинал сажать леса, находил их при окончании гораздо худшими» (Dreams Forest. Forest Nightmares, P. 2).
[41] Краткое описание, которое следует, взято в значительной степени у James B. Collins. Fiscal Limits of Absolutism: Direct Taxation in Early Seventeenth-Century France. Berkeley: University of California Press, 1988.
[42] Jones P.M. The Peasantry in the French Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 17.
[43] Collins. Fiscal Limits of Absolutism, P. 201, 204. Эта способность к уклонению от налогов придала финансовому режиму неожиданную (на вершине, по крайней мере) гибкость и помогла государствам избежать больших восстаний в неспокойном XVII в.
[44] Дж. Л. Хейлброн замечает, что в 1791 г. английский полковник обязал шотландское духовенство снабжать его, угрожая в противном случае послать отряд войск к их приходу (введение к Tore Frangsmyr, J.L. Heilbron, and Robin E. Rider, eds. The Quantifyirig Spirit in the Eighteenth Century. Berkeley: University of California Press, 1991. P. 13).
[45] Это предполагает, что корона хотела в конечном счете максимизировать свои доходы: Это, конечно, естественно для режимов, находящихся в политическом или военном кризисах: заложить свое будущее, выжимая максимально возможные прибыли из леса или подданных. См., в этом контексте, превосходный анализ Charles Tilly. Coercion, Capital, and European States, a.d. 990-1992. Oxford: Blackwell, 1990, в котором подчеркнуто влияние подготовки к войне и самой войны в государстве как формации и описан переход от государств, получающих дань, к государствам, изымающим все нужное непосредственно у граждан.
[46] Kula Witold. Measures and Men. Princeton: Princeton University Press, 1986.
[47] Heilbron J.L. The Measure of Enlightenment // Tore Frangsmyr, J.L. Heilbron and Robin E. Rider, eds. The Quantifying Spirit in the Eighteenth Century. Berkeley: University of California Press, 1991. P. 207-208.
[48] Эти вопросы обсуждаются в Appadurai Arjun. Measurement Discourse in Rural Maharastra, а также в Appadurai et al. Agriculture, Language, and Knowledge in South Asia: Perspectives from History and Anthropology (в печати).
[49] Там же, p. 14.
[50] Тот же самый мотив прослеживается в категориях народной стратификации, используемой яванскими сельскими жителями: Kekurangans (те, кто имеют меньше, чем достаточно) и Kecukupans (те, кто имеет достаточно). См.: Geertz Clifford. Agricultural Involution. Berkeley: University of California Press, 1963.
[51] Как было отмечено, традиция могла не иметь очень уж длинной родословной. По крайней мере одна сторона всегда боялась невыгодного пересмотра, полагая существующую договоренность установленной и священной.
[52] Иногда равновесие сил могло качнуться в другую сторону. См. в этой связи свидетельство длительного снижения платежей десятины во Франции Emmanuel Le Roi Ladurie and Joseph Gay. Tithe and Agrarian History from the Fourteenth Century to the Nineteenth Century: An Essay in Comparative History. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. P. 27.
[53] Kula. Measures and Men. P. 150. В нижней Бирме в 20-е и 30-е годы XX в. корзина риса, получаемая в виде арендной платы, называлась «телеголом» (Scott James C. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven: Yale University Press, 1976. P. 71).
[54] Так, знаменитый парижский железный туаз (toise) был установлен в одной из стен Гран Шатле; см.: Alder Ken. A Revolution Made to Measure: The Political Economy of the Metric System in France // Norton W. Wise, ed., Values of Precision. Princeton: Princeton University Press, 1995. P. 44.
[55] Марсенн в духе точности XVII в. вычислил, что бушель без горки содержал 172 000 зерен пшеницы, а с горкой — 220 160 (Kula. Measures and Men. P. 172).
[56] Там же, p. 73—74. Как в других случаях вызова общепринятым мерам, это побудило муниципальные власти и народные массы настаивать на взвешивании и измерении батонов, чтобы предотвратить такие методы.
[57] Там же, p. 98—99.
[58] Там же, p. 173.
[59] Фактически это происходило благодаря активному уклонению регионов, подвергнутых сильному финансовому нажиму. Уклонение позволяло затягивать дело, что часто приводило к отмене необдуманного налогового требования.
[60] Как полагает Кен Адлер, отсутствие центральной власти, которая могла бы узаконить стандартизацию, кажется, не препятствует росту национальных рынков в Англии, Германии или Соединенных Штатах (A Revolution Made to Measure. P. 62). Мобильность и экономический рост одни способны вызвать к жизни общие стандарты обмена. Более общее историческое рассмотрение см.: Swetz Frank J. Capitalism and Arithmetic: The New Math of the Fifteenth Century, La Salle, 111.: Open Court, 1987.
[61] Цит. по: Kula. Measures and Men. P. 203—204.
[62] Alder. A Revolution Made to Measure. P. 48.
[63] Там же, p. 54.
[64] Там же, p. 56. Метр был только одним из элементов реформ измерения. Какое-то время предпринимались усилия разделить день на десять часов по сто минут в каждом, а минуту — на сто секунд, одновременно предполагалось создать двенадцатиричную систему измерения времени.
[65] Там же, p. 122—123.
[66] Я полагаю, что недавние дебаты во Франции относительно того, можно ли позволить мусульманским школьницам носить головные платки в классе, объяснялись желанием сохранить эту традицию невыделенного гражданина в светском образовании.
[67] Alder. A Revolution Made to Measure. P. 211.
[68] Как проницательно отметил Тони Джудт, различие между правами граждан, установленными в соответствии с революционными декретами, и естественными или индивидуальными правами — в том, что первые находятся в принципиальном согласии с государством и его законами и, следовательно, могут быть отменены в соответствии с уставом, а последние в принципе неотменяемы. Judt. Past Imperfect: French Intellectuals, 1944—1956. Berkeley: University of California Press, 1992.
[69] Революционная концепция гражданства во Франции уничтожила юридические препятствия, под гнетом которых находилось еврейское сообщество. Появление наполеоновских армий всюду сопровождалось расширением прав гражданства евреям вплоть до полного. См.: Pierre Birnbaum and Ira Katznelson, eds. Paths of Emancipation: Jews, States, and Citizenship. Princeton: Princeton University Press, 1995.
[70] Poggi Gianfranco. The Development of the Modern State: A Sociological Introduction. Stanford: Stanford University Press, 1978. P. 78. При всем прогрессе прав человека, которые принесло с собой гражданство, стоит вспомнить, что этот важный шаг также ограничивает посреднические структуры между государством и гражданином и впервые дает государству прямой доступ к его подданным. Равное гражданство означает не только юридическое равенство и универсальное мужское избирательное право, но и универсальную воинскую повинность, что вскоре обнаружили те, кого мобилизовали в армию Наполеона. С позиции государства общество внизу все более представляется бесконечным рядом национально равных отдельных граждан, которых оно имеет благодаря их способности быть подданными, налогоплательщиками и потенциальными призывниками.
[71] Цит. по: Kula. Measures and Men. P. 286.
[72] Как писал Thompson E.P. в Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act. New York: Pantheon, 1975: «В течение XVIII в. одно юридическое решение за другим показывает нам, что адвокаты стали придерживаться понятия абсолютной собственности, и что (везде, где могло быть найдено малейшее сомнение) закон толковался в пользу последней» (p. 241).
[73] Гражданский кодекс не имел дела с сельским хозяйством явно, за одним исключением: он определил руководящие принципы для фермера (fermage), учитывая интересы богатых и влиятельных арендаторов в бассейне Парижаи к северу от него. Я благодарен Питеру Джонсу за то, что он обратил мое внимание на исследование, на котором это краткое обсуждение основывается: Aberdam Serge. Aux origines du code rural, 1789—1900: Un siecle de debat (возможно, 1978—1980).
[74] «En resume, la ligne generate du projet de 1807 est de refuser toute specificite au droit rural en ramenant, autant que possible, les rapports socieux a la campagne a la forme d’authorite legate que la bourgeoisie projette sur l’ensemble de la population» (Короче говоря, общая буржуазная политика, предложенная в 1807 г., должна отрицать любую особенность сельского закона, а сельские социальные отношения в максимально возможной степени относить к юрисдикции, распространяющейся на население в целом [перевод мой]; там же, p. 19).
[75] Политические колебания не были свойственны колониям, где административное удобство и коммерческая логика преобладали над мнением народа и практикой. См., например; исследование Galvan Dennis. Land Pawning as a Response to the Standardization of Tenure. C. 4. The State Is Now Master of Fire: Peasant Lore, Land Tenure, and Institutional Adaptation in the Siin Region of Senegal. (Ph.D. diss., Department of Political Science, University of California Berkeley, 1996).
[76] Там же, p. 18.
[77] Там же, p. 22.
[78] В колониальном Вьетнаме подушным налогом облагались целые общины на основе только предполагаемого населения. Если требуемая сумма не вносилось, полиция захватывала, что могла (буйволов, мебель, драгоценности), и держала, пока деньги не были собраны. Эта система породила деревенских нотаблей, которые, владея большим количеством ценного имущества, имели стимул удостовериться, что налоги внесены вовремя.
[79] Это обобщение справедливо также для современных социалистических форм коллективного сельского хозяйства. Значительное количество сельхозугодий, например, «исчезло» из книг, когда в Венгрии были созданы колхозы; см.: Rev Istvan. The Advantages of Being Atomized: How Hungarian Peasants Coped with Collectivization // Dissent. 1987. №34 (Summer). P. 335—349. В Китае после смертоносного Большого скачка многие колхозы систематически скрывали производство от центральных властей в интересах местного выживания; см.: Kelliher Daniel. Peasant Power in China. New Haven: Yale University Press, 1992.
[80] Кадастровые обзоры также составляли хозяева больших феодальных владений, полагавшие, что могли таким образом определить подлежащую налогообложению землю и уклоняющихся от него подданных.
[81] Датские и норвежские примеры взяты из ценного исторического анализа в Kain Roger J.P., Baigent Elizabeth. The Cadastral Map in the Service of the State: A History of Property Mapping. Chicago: University of Chicago Press, 1992. P. 116.
[82] Большая эффективность гуттеритских фермеров в северных равнинных штатах и Канаде — всего лишь одно из многих противоречивых свидетельств. Подробности см.: Yaney George. The Urge to Mobilize: Agrarian Reform in Russia. Urbana: University of Illinois Press, 1982. P. 165—169.
[83] Современный пример из Мексики можно найти в анализе Sergio Zendejas. Contested Appropriation of Governmental Reforms in the Mexican Countryside: The Ejido as an Arena of Confrontation of Political Practices»; см. также Zendejas Sergio, Pieter de Vries, eds. Rural Transformation as Seen from Below: Regional and Local Perspectives from Western Mexico. La Jolla, Calif.: Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego, 1997. Как показывает Зендейас, система ejido, основанная в результате Мексиканской революции, позволяла не давать государству сведений о традиционном землевладении большинства из 28 000 ejido в стране. Сельские жители Михоакана расценили национальную программу, регистрирующую и именующую каждый участок сельской земли, как прелюдию к индивидуализации прав собственности, разделению общих владений и обложению индивидуальных участков налогами, поэтому они и сопротивлялись измерению их земель. Поправка к статье 27 конституции, которая предполагает национальный рынок земли, оправдывает их опасения. Речь шла о не местном рынке; как сказал один сельский житель, «разве мы всегда не продавали и не арендовали [ejido] участки с удостоверениями или без них?» Государственная власть ставила вопрос о создании регионального и национального рынка земли. Первоочередной задачей на этом пути было принятие законов о наследовании, которое местная автономия, достигнутая в результате революции, всячески замедляла. См. также в этом контексте: Goldring Luin. Having One’s Cake and Eating It, Too: Selective Appropriation of Ejido Reform in an Urbanizing Ejido in Michoacan (в печати).
[84] Здесь я виноват в передаче ложного смысла однородности. Фактически имелся хозяин распределения земли, даже в «черноземной» России, и многие деревни не перераспределяли землю (Yaney. The Urge to Mobilize. P. 169).
[85] Там же, p. 212.
[86] Йени указывает, что принадлежащие меннонитам земли независимо от того, разделялись ли они на полосы или объединялись в фермы, были плодоносными (там же, p. 160).
[87] Впрочем, на вновь заселяемых землях общинное заселение (с общей нераздельной собственностью) было довольно обычным, чего правительство, конечно, не поощряло.
[88] Там же, гл. 7 и 8. Крестьянский банк, под большим давлением дававший ссуды бедным крестьянам, фактически поощрял старую систему земельной собственности. Банк нуждался в имущественном залоге, который он мог бы забрать в случае неплатежа, но беднейшие крестьяне не имели вообще никакой земли. Встав перед этим затруднительным положением, банк нашел возможным дать ссуду целым деревням или группам крестьян, работавшим на смежных, опознаваемых участках. Стоит отметить, что, как и современная налоговая система, современная система кредита требует четкого права собственности для своего функционирования.
[89] Там же, p. 412—442.
[90] Figes Orlando. Peasant Russia, Civil War: The Volga Countryside in Revolution, 1917-1921. Oxford: Clarendon Press, 1989. С. 6. The Rural Economy Under War Communism.
[91] До всесторонних кадастровых обзоров некоторые земли были открыты для всех и не принадлежали никому, хотя использование такой земли могло бы регулироваться социальными мерами. Начиная с первой кадастровой карты такая земля обозначалась как государственная. Вся земля была измерена; все, не находящееся в частной собственности, стало собственностью государства.
[92] Kain and Biagent. The Cadastral Map. P. 33. Моря, реки и пустыни должны были быть опущены как не приносящие доход. Все действие направлялось руководством, озаглавленным Mode d’arpentagepour I’impot fonder.
[93] Приведено там же, p. 5.
[94] Как указывает Питер Вандергист, в условиях третьего мира кадастровая карта позволяет экспертам формулировать правила и претворять в жизнь политику использования земли, не посещая внесенные в нее земли («Mapping Resource Claims, or, The Seductive Appeal of Maps: The Use of Maps in the Transformation of Resource Tenure» — статья, представленная на конференцию Ассоциации изучения общественной собственности, Berkley, June 1996).
[95] Сама земля иногда смещается из-за оползней, эрозии, разрывов и наносов. Интереснейшее изложение законов о собственности, о том, как справляться с «подвижностью» его предмета, см.: Steinberg Theodore. Slide Mountain, or The Folly of Owning Nature. Berkeley: University of California Press, 1995.
[96] О моем более детальном исследовании этой проблемы в контексте Юго-Восточной Азии см.: The Moral Economy of the Peasant. С. 4.
[97] Император Австрии Франц Иосиф в 1785 г. в качестве основания для налогообложения земли должен был выбрать либо чистый доход, либо доход брутто. Он остановился на доходе брутто, поскольку его было проще рассчитать (например, средний урожай с единицы земли × единица земли × средняя цена на зерно = доход брутто). При этом, чтобы сделать процедуру административно выполнимой, потребовалось пожертвовать точностью и справедливостью. См.: Kain, Biagent. The Cadastral Map. P. 193.
[98] Там же, p. 59.
[99] Проблема прав на минералыи доход от их добычи была существенным исключением из этого обобщения.
[100] Weber Eugen. Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914. Stanford: Stanford University Press, 1976. P. 156.
[101] Блестящий анализ процесса «постоянного заселения» в Индии и его интеллектуальных корней см.: Guha Ranajit. A Rule of Property for Bengal: An Essay on the Idea of Permanent Settlement. Paris: Mouton, 1963. Как замечает Гуха, существующая система землевладения, с которой британские колониальные правители столкнулись в XVIII в., была полностью мистифицирована: «На каждом шагу они наталкивались на квазифеодальные права и обязанности, которые бросали вызов любой попытке интерпретации в знакомых западных терминах. Непонятные выражения на персидском языке, описывающие учет земельных владений, просто ставили их в тупик. Только отчасти трудности объяснялись тем, что колониальные власти не могли свободно владеть языком, на котором были написаны древние и средневековые тексты, касающиеся законов о собственности; основная трудность заключалась в том, что главное оставалось недосказанным: для традиции, запечатленной только в памяти и выраженной во всем разнообразии ее применений, тексты не имели особого значения. Власть традиции сильнее письменного кодекса» (p. 13).
[102] Замечательно и полное рассмотрение того, как колониальный юридический кодекс преобразовал заселение, споры о земле, землевладение и социальную структуру, см.: Sally Falk Moore. Social Facts and Fabrications: «Customary» Law on Mount Kilimanjaro, 1880—1980. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
[103] Сочетание полного кадастрового регистра, свободного землевладения и национального рынка на землю придает делу такой уровень четкости, которая столь же выгодна и спекулянту землей, и налоговому сборщику. Наполнение рынка товарами вообще, наименование всех товаров и услуг согласно общей валюте, делает то, что Тилли назвал «видимостью коммерческой экономики». Он пишет: «В экономике, где только малая доля товаров и услуг покупается и продается, преобладает множество условий: сборщики дохода не способны наблюдать и оценивать ресурсы с нужной точностью, [и] много людей претендуют на какой-то определенный pecypce» (Coercion, Capital, and European States. P. 89, 85).
[104] Равенство было, конечно, вполне нереальным. См.: Kain and Biagent. The Cadastral Map. P. 225. Лесной кодекс Кольбера 1667 г. был также первой последовательной попыткой кодифицировать лесное пространство Франции остроугольными декартовскими линиями. В этой связи cm.: Sahlins. Forest Rites. P. 14.
[105] В Малайзии закон запрещал китайцам владеть некоторыми видами сельскохозяйственной земли. Чтобы обойти этот барьер, китаец регистрирует землю на имя своего малайского соотечественника. Чтобы быть уверенным, что малаец не попытается на деле осуществить свои формальные права собственности, он одновременно подпишет вексель на гораздо большую сумму, чем стоит эта собственность, с китайцем как кредитором.
[106] Революционное законодательство во Франции не сразу отменило десятину, а ввело постепенное и временное сокращение платежей выкупа. Народное неповиновение было столь массовым, что платежи были наконец вовсе прекращены. См.: Scott James C. Resistance Without Protest and Without Organization: Peasant Opposition to the Islamic Zakat and the Christian Tithe // Comparative Study in Society and History 29, №3 (1987): 417—452.
[107] Hacking Ian. The Taming of Chance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 17. Петти, ученик Гоббса, провел обзор оценок ценности и производительности. Его теорию политической экономии можно найти в Political Arithmetik, or A Discourse Concerning the Value of Lands, People, Buildings... (1691).
[108] Вымысел, что североамериканские и австралийские пейзажи были по существу пусты, означающий, что они не использовались как фактор производства в рыночном обмене, и был основанием, на котором такие страны были «переопределены». Этот вымысел оправдывает конфискацию земель у природных американцев, новозеландских маори, австралийских аборигенов, аргентинских туземцев и т. д.
[109] Heilbron, введение к The Quantifying Spirit in the Eighteenth Century. P. 17.
[110] Porter Theodore M. Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. Princeton: Princeton University Press, 1995. P. 22. Портер убедительно показывает, как «механическая объективность» служит средством для бюрократии (особенно в демократических государствах, где экспертное суждение и экспертиза всегда подозреваются в маскировке корыстных мотивов) создавать безличный набор правил решения, по-видимому, одновременно демократических и нейтральных.
[111] Приведено в: Kain, Biagent. The Cadastral Map. P. 320.
[112] Изучающие эти проблемы, возможно, зададутся вопросом, почему я не занимался упрощением, касающимся времени. Модернизация и приспособление линейного времени в работе и управлении действительно составляют сопутствующую историю, за которую я не брался здесь, потому что это сделало бы эту главу слишком длинной, а частично потому, что к этому уже обращались. Среди других см.: Thompson E.P. в работе «Time, Work, Discipline, and Industrial Capitalism» Past and Present 38 (Dec. 1967), а также превосходный обзор Aminzade Ronald. Historical Sociology and Time // Sociological Methods and Research. 1992. Vol. 20. №3 (May). P. 456—480.
[113] Hacking. Введение к The Quantifying Spirit in the Eighteenth Century. P. 22-23.
[114] Hacking. The Taming of Chance. P. 145. Наполеон остерегался проводить перепись после 1806 г., иначе ее результаты показали бы катастрофическое воздействие, которое его войны оказали на население Франции.
[115] Как и следовало ожидать, в независимых городах местное знание имело гораздо большее значение, чем в имперских столицах, которые проектировались с учетом административных и военных задач.
[116] В конце концов запутанность Казбы оказалась преодолимой. Сопротивление национального фронта освобождения было постепенно сломлено упорством полиции, пытками, использованием местных информаторов, хотя в долгосрочной перспективе за это пришлось заплатить очень высокую политическую цену.
[117] Неспособность муниципальных властей многих американских городов эффективно управлять ими вызвала к жизни идею возврата к системе участковых полицейских или общественного патрулирования.
[118] Я благодарен Рону Аминзаде за присланные пояснения (memories) к двум картам из числа подготовленных военными должностными лицами в процессе военно-геодезической разведки Тулузы в 1843 г. Карты находятся в архиве Archives de I’Armee, Paris, дело MR 1225. В его пояснениях отмечены труднопреодолимые улицы или природные преграды, ручьи, которые могли бы оказаться препятствием на пути движения войск, отношение местного населения, особенности местного диалекта, местоположение рынков и т. д.
[119] Декарт Рене. Размышление о методе.
[120] Mumford Lewis. The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1961. P. 364.
[121] Там же, p. 387.
[122] Цит. там же, p. 369.
[123] В частности, утопические города Томаса Мора должны были быть совершенно одинаковыми, чтобы «тот, кто знает один из этих городов, знал их все, за исключением тех мест, где этого не допускают природные условия» (Мор Томас. Утопия. Цит. там же, p. 327).
[124] Санкт-Петербург — поразительнейший пример спланированной утопической столицы, города, который Достоевский называл «самым абстрактным и придуманным городом в мире»(см.: Berman Marshall. All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. New York: Penguin, 1988. Chap. 4.) «Сетчатые поселения» строили и вавилоняне, и египтяне и, конечно, римляне. Задолго до эпохи Просвещения прямые углы считались свидетельством культурного превосходства. Как пишет Ричард Сеннетт, «Гипподамий Милетский считается первым градостроителем, который усмотрел в сетчатой застройке воплощение культуры; он полагал, что сетка выражает рациональность цивилизованной жизни. В процессе своих военных походов римляне тщательно разработали военные лагеря (castra), резко отличавшиеся от грубых и бесформенных лагерей варваров» (The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities. New York: Norton, 1990. P. 47).
[125] Ну, почти вся. Есть несколько улиц — среди них Линкольна, Арчер и Блю Айленд, следующих вдоль старых индейских троп и поэтому отклоняющихся от геометрической логики.
[126] Как, возможно, уже догадался читатель, некоторые сектора сетки верхнего Манхэттена и Чикаго, несмотря на их формальную упорядоченность, фактически остаются неуправляемыми и опасными.
[127] См. непредвзятую работу географа Йи-Фу Туана: Tuan Yi-Fu. Dominance and Affection: The Making of Pets. New Haven: Yale University Press, 1984.
[128] Cosgrove Denis. The Measure of America; Corner James and MacLean Alex S., eds. Taking Measures Across the American Landscape. New Haven: Yale University Press, 1996. P. 4. Меркаторские карты, конечно, приучили людей к проецированию уменьшенных моделей обширных ландшафтов на плоскость.
[129] Mumford. The City in History. P. 422.
[130] План не только создавал более четкое финансовое пространство, но и способствовал финансовому благосостоянию узкой группы лиц, использовавших свое «местное знание» его для извлечения прибыли из спекуляций недвижимостью.
[131] Существовал и еще более старинный, мало связанный проектами барочный город, завещанный Парижу его абсолютистскими правителями, особенно предшествовавшими Луи XIV, который, в свою очередь, решил реализовать собственные расточительные проекты на «чистом месте» — в Версале.
[132] Как отмечает Марк Гируар, план включал такие общественные заведения и учреждения, как парки (в первую очередь, огромный Булонский лес), больницы, школы, колледжи, казармы, тюрьмы и новый оперный театр (Cities and People: A Social and Architectural History. New Haven: Yale University Press, 1985. P. 289). Примерно через столетие Роберт Мозес предпринял аналогичную перестройку Нью-Йорка.
[133] Цит. по: Cities and People: A Social and Architectural History, New Haven: Yale University Press, 1985. P. 289, позднее изданной по-французски в качестве главы 9 в: Merriman. Aux marges de la ville: Faubourgs et banlieues en France, 1815—1871. Paris: Seuil, 1994. Эта часть моей работы в большой мере основана на подробных и точных описаниях Мерримана. Если не обозначено иное, все переводы выполнены мною.
[134] Мамфорд пишет: «Не были ли средневековые улицы Парижа одним из последних прибежищ городских свобод? Неудивительно, что Наполеон III санкционировал ликвидацию узких улиц и тупиков и снос целых кварталов, чтобы проложить широкие бульвары. Это было наилучшим из возможных способов защититься от нападения изнутри» (The City in History. P. 369—70).
[135] Цит. по: Girard Louis. Nouvelle histoire de Paris: La deuxieme republique et le second empire, 1848—1870. Paris, 1981. P. 126. Цит. по: Merriman. Aux marges de la ville. P. 15. Аналогии с более поздними «красными предместьями» — левыми рабочими предместьями, окружившими Париж, просто поразительны. Соуэто и другие поселения чернокожих жителей Южной Африки при апартеиде, хотя и строились с явной целью сегрегации, тоже стали непроходимыми и подрывными, на взгляд властей, местами.
[136] Так как у проектировщиков не было надежной карты города, им пришлось прежде всего провести триангуляцию, для чего были построены временные деревянные башни. См.: Pinkney David H. Napoleon III and the Rebuilding of Paris. Princeton: Princeton University Press, 1958. P. 5.
[137] Цит. по: Gaillard Jeanne. Paris, la ville, 1852—1870. Paris, 1979. P. 38. Цит. по: Merriman. Aux margesdela ville. P. 10.
[138] Там же, p. 8—9.
[139] Там же, p. 9.
[140] Pinkney. Napoleon III. P. 23. Городские поселения Западной Европы вследствие эпидемий и в целом высокой смертности в XIX в. были не способны воспроизводить население, что хорошо известно исторической демографии; рост городов происходил в значительной степени благодаря миграции из более здоровой сельской местности. Хотя это положение и оспаривается, данные в его поддержку довольно убедительны. См. выводы и оценки Jan de Vries. European Urbanization, 1500—1800. Cambridge: Harvard University Press 1984. P. 175-200.
[141] Pinkney. Napoleon III. Chap. 2.
[142] Merriman. Aux marges de la ville. P. 7—8. См. также: T.J. Clark. The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and His Followers. Princeton: Princeton University Press, 1984. P. 35. Одержимость Луи Наполеона и Хаусманна прямыми линиями служила предметом многих шуток. Например, персонаж пьесы Эдмона Абуа мечтает о дне, когда сама Сена будет выпрямлена, потому что, по его словам, «ее изгибы довольно отвратительны»(цит. по: Clark. The Painting of Modern Life. P. 35).
[143] Pinkney. Napoleon III. P. 93.
[144] Clark. The Painting of Modern Life. P. 66. Замечательный анализ того, как ориенталистские выставки, подробно изображавшие Старый Каир, деревню и т. п., дали арабским гостям Парижа совершенно новый взгляд на их общество, см. в: Mitchell Timothy. Colonizing Egypt. Chap. 1-3. Berkeley: University of California Press, 1991.
[145] Gaillard. Paris, la ville. P. 568, цит. по: Merriman. Aux marges de la ville. P. 20.
[146] Harvey David. Consciousness and the Urban Experience. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985. P. 165, цит. по: Merriman. Aux marges de la ville. P. 12. См. также: Harvey David. The Urban Experience. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989, посвященную в основном тому же предмету.
[147] Rougerie Jacques. Paris libre, 1871. Paris, 1971. P. 19, цит. по: Merriman. Aux marges de la ville. P. 27.
[148] Merriman. Aux marges de la ville. P. 28.
[149] Там же, p. 30.
[150] Этим проницательным наблюдением я обязан Бенедикту Андерсону. И вообще, его анализ переписи и карты как суммирования классификационных сеток, особенно в колониальном контексте, очень повлиял на мои размышления здесь. См.: Anderson. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1983, а также замечательную книгу Winichakul Thongchai. Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation. Honolulu: University of Hawaii Press, 1994.
[151] См., например, Wormsley William E. Traditional Change in Imbonggu Names and Naming Practices // Names 28 (1980): 183—94.
[152] Принятие постоянных, унаследованных патронимов зашло далеко, но прошло не весь путь. Как государство должно связать имя, уникальное и однозначное, с индивидуумом? Подобно удостоверениям личности, номерам социального обеспечения и пропускным системам имена требуют сотрудничества населения, ношения их и предъявления по требованию должностного лица. В наиболее современных государственных системах это сотрудничество обеспечивается благодаря тому, что ясная идентификация личности становится предпосылкой получения ее прав; в более принудительных системах в случае отказа носить с собой идентификационные документы применяются штрафы. Если, однако, неповиновение широко распространено, люди будут либо не в состоянии идентифицировать себя, либо использовать ложные идентификации. Предельным удостоверением личности является неискоренимая отметка на теле: татуировка, отпечатки пальцев, «подпись» ДНК.
[153] Я чрезвычайно благодарен Биллу Дженнеру и Йену Уилсону из Австралийского национального университета и Полу Смиту из Хейверфордского колледжа за их щедрый подарок — совет по поводу Китая. Административные планы регистрации населения династий Чин и Хан были честолюбивыми, но остается важным вопросом, насколько были осознанными их цели. Дженнер утверждает, что цели были в значительной степени осознаны, а Александр Вудсайд считает, что существовало значительное их недопонимание.
[154] См., например, Jenner W.J.F. Freedom and Backwardness: Europe and China, издание центра гуманитарных исследований австралийского национального университета «Ideas of Freedom in Asia,» July 4—6, 1994; а также Ebrey Patricia. The Chinese Family and the Spread of Confucian Values, in Gilbert Rozman, ed., The East Asian Region: Confucian Heritage and Its Modem Adaptation. Princeton: Princeton University Press, 1991. P. 45—83.
[155] Ebrey. The Chinese Family. P. 55—57.
[156] Там же, p. 59.
[157] По моим сведениям, Исландия — единственная европейская страна, в которой к концу XX в. не были приняты постоянные фамилии.
[158] Сведения о флорентийской переписи взяты полностью из Herlihy David. Christiane Klapisch-Zuber, Tuscans and Their Families: A Study of the Florentine Catasto of 1427. New Haven: Yale University Press, 1985.
[159] Вопрос о возрасте, как и вопрос о владении землей, был по-разному значим для государства и для обычной практики (см. там же, p. 162—169). В местной практике точный возраст человека был не важен. Существеннее были примерное число лет и порядок рождения (например, старший сын, младший сын); в catasto это отражено тенденцией считать возраст в числах, кратных пяти или десяти (например, 35, 40, 45, 50 и 60 лет). Однако для государства точный возраст был важен по нескольким причинам. Возраст «взрослой финансовой жизни», как и возраст воинской повинности, наступал в 18 лет, и каждый человек старше 60 лет не был обязан платить подушный налог. Как можно было ожидать, декларации были переполнены демографически невероятными сведениями о возрасте ниже 18 и более 60. Подобно фамилии, указание возраста в строгом хронологическом смысле было государственным проектом.
[160] На Западе женщины и домашняя прислуга обычно последними получали фамилии (и право голоса), потому что они были юридически включены в категорию младших при мужчине — главе семьи.
[161] Для других фамилий ссылка на отца не настолько очевидна. Так, имя «Виктор Гюго» первоначально означало бы просто «Виктор, сын Гюго».
[162] Я очень обязан Кейт Стантон, проницательному исследователю, за ее исследование истории этой проблемы.
[163] См.: Matthews C.M. English Surnames. London: Weidenfeld and Nicolson, 1966. P. 35—48.
[164] Как отмечает Мэтьюз, «скромный крестьянин с одним только куском земли так же стремился к признанию его старшим сыном своего отца, как и богатый человек, наследующий большое состояние. Землю можно было требовать и получить только в Манориальном Суде, при этом нужно было иметь «свиток Суда» [то есть копию], который содержал имя владельца, внесенное в постоянную запись. Эта система дала людям прямой стимул иметь ту же самую фамилию, которую внесли в свиток их отец и дед» (там же, p. 44). И учитывая капризы смертности в Англии XIV в., младшие сыновья тоже хотели носить эту фамилию, на всякий случай.
[165] В исторических документах можно иногда заметить момент, когда постоянная фамилия только устанавливалась. При Генрихе VIII в начале XVI в., например, валлиец, который явился в суд и был спрошен об имени, ответил, в валлийской манере: «Томаса Ап [сын] Уильяма, Ап Томас, Ап Ричард, Ап Ноэл, Ап Эван Воган». Судья разбранил его и велел «оставить старую манеру... После чего он назвал себя Мостон, по имени его основного дома, и оставил это имя своему потомству» (Comden William. Remains Concerning Britain, ed. R. D. Dunn [1605; Toronto: University of Toronto Press, 1984]. P. 122). Эта «административная» фамилия, конечно же, осталась почти неизвестной соседям Томаса.
[166] См. классическую paboty Hilton Rodney. Bond Men Made Free: Medieval Peasant Movements and the English Rising of 1381. New York: Viking Press, 1977. P. 160—164.
[167] Я особенно признателен Rosanne Ruttan, Otto van den Muijzenberg, Harold Conklin u Charles Bryant, которые навели меня на след филиппинского примера. Ключевой документ — Domingo Abella, ed., Catalogo alfabetico de Apellidos (Manila: National Archives, 1973). См. также краткое изложение в Corpuz O.D. The Roots of the Filipino Nation. Vol. 1. Quezon City: Aklahi Foundation, 1989. P. 479-80. Проницательный анализ процесса наименования и формирования идентичности среди народа Каро-Батак колониальной Восточной Суматры см.: Steedly Mary Margaret. The Importance of Proper Names: Language and “National” Identity in Colonial Karoland // American Ethnologist. 1996. Vol. 23. № 3. P. 447—475.
[168] Почти триста лет испанский календарь для Филиппин был на один день впереди основного испанского календаря, потому что экспедиция Магеллана, конечно же, не перевела часы, пройдя при движении на запад полпути вокруг земного шара.
[169] Abella. Catalogo alfabetico de Apellidos
[170] Там же.
[171] Как будто филиппинцы не имели совершенно адекватных устных и письменных генеалогических схем, чтобы достичь той же самой цели.
[172] Abella. Catalogo alfabetico de Apellidos
[173] Об истории постоянных патронимов во Франции и их отношении к строящемуся государству см. замечательную книгу Lefebvre-Teillard Anne. Le nom: Droit et histoire. Paris: Presses Universitaires de France, 1990. Она исследует процесс принятия государственными чиновниками, административными и судебными, некоторых методов наименования и ограничения условий изменения имен. Гражданские регистры наряду с livre famille (семейными книгами) стали к концу XIX в. важными инструментами для полицейской администрации, воинской повинности, гражданского и уголовного судопроизводства и контроля выборов. Возникновение стандартной фразы при столкновении между полицейским и гражданином: «Vos papiers, Monsieur» (Ваши документы, господин) датируется этим периодом. Испытав «ослепление» администрации, вызванное потерей гражданских регистров при пожаре отеля Вийе (здание муниципалитета) и Дворца Правосудие в конце Коммуны в 1871 г., чиновники озаботились дубликатами регистров.
[174] Chazon Robert. Names: Medieval Period and Establishment of Surnames. Encyclopedia Judaica. Jerusalem and Philadelphia: Keter Publishers and Coronet Books, 1982. P. 809-813. B 30-e годы XX в. нацисты приняли ряд «декретов об имени», единственная цель которых состояла в том, чтобы отличить евреев от арийцев. Евреи, носящие имена, обычные для арийцев, должны были изменить их (или добавить к ним «Израиль» или «Сарра»), поскольку были арийцы, которые носили имена, звучащие как еврейские. Списки одобренных имен компилировались, а спорные случаи представлялись в Государственную канцелярию для генеалогического исследования. После окончания этих административных экзерсисов одно только имя человека могло послужить причиной депортации или экзекуции. См.: Rennick Robert M. The Nazi Name Decrees of the Nineteen Thirties // Journal of the American NameSociety. 1968. №16. P. 65—88.
[175] В Турции, например, фамилии были приняты только в 20-е годы XX в. как часть кампании модернизации Ататюрка. Костюмы, шляпы (а не фески), постоянные фамилии и современный статус государственности — все принималось вместе в схеме Ататюрка. Реза Шах, отец свергнутого шаха, приказал всем иранцам брать в качестве фамилии название города, где они жили, чтобы навести порядок в фамилиях, употреблявшихся в стране. Таким образом, Али Акбар Рафзаньяни означает Али Акбар из Рафзаньяна. Хотя при такой системе фиксируется местожительство представителей того поколения, которое приняло ее, в масштабе города Рафзаньяна ее преимущества сомнительны. Разве что государство особенно заинтересовано в контроле тех, кто передвигается или вообще кочует.
[176] Диетические законы, практически исключающие возможность совместной трапезы, также мощные способы социальной изоляции. Установить набор таких культурных правил, которые стеной отделяют сообщество от его окружения, лишают его членов возможности говорить или есть с другими — первоклассное начало.
[177] Это — чистая правда, несмотря на тот факт (проницательно указанный Бенедиктом Андерсоном), что «национальное прошлое» часто является подделкой.
[178] Weber Eugen. Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870—1914. Stanford: Stanford University Press, 1976. Chap. 6. Вебер указывает, что в последнюю четверть XIX в. половина взрослых французов имела другой родной язык, не французский. Для обсуждения французской языковой политики на периферии см. замечательную книгу Peter Sahlins’s Boundaries: The Making of France and Spain in the Pyrenees. Berkeley: University of California Press, 1989. Хотя происхождение административных официальных языков уходит корнями по крайней мере в XVI в., навязывание национального языка в других сферах происходило самое раннее в середине XIX в.
[179] Освещающий этот процесс аналитический обзор см.: Abram de Swaan. In Care of the State. Oxford: Polity Press, 1988, особенно chap. 3, «The Elementary Curriculum as a National Communication Code» pp. 52-117.
[180] Weber, Peasants into Frenchmen. P. 73.
[181] Там же, p. 113.
[182] Там же, p. 197.
[183] Тщательное описание географии стандартных рыночных областей см.: Skinner G. William. Marketing and Social Structure in Rural China. Tucson: Association of Asian Studies, 1975.
[184] Многое из следующего материала о централизации транспорта во Франции взято из обзора Smith Cecil O. Jr., The Longest Run: Public Engineers and Planning in France // American Historical Review 95. 1990. № 3 (June). P. 657-692. Интересное обсуждение и сравнение Corps des Ponts et des Chaussees с американским корпусом армейских инженеров см. также: Porter Theodore. Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. Princeton: Princeton University Press, 1995. Chap. 6.
[185] Weber. Peasants into Frenchmen. P. 195.
[186] Шли непрерывные дебаты различного плана: стоимость, коммерческая жизнеспособность, военная эффективность. Часть этой истории можно найти в Caron Francois. Histoire de l’exploitation d’un grand reseau: La compagnie des chemins de fer du Nord. Paris: Mouton, 1973, а также Jouffroy Louis-Maurice. L’ere du rail. Paris: A. Colin, 1953. Я благодарю Эзру Сулеймана за его библиографическую помощь.
[187] Техническая близость путешествия по рельсам к прямым линиям и точному расписанию становится наряду со «стремительностью» важной эстетической характеристикой модернизма вообще.
[188] Smith. The Longest Run. P. 685—710. По утверждению Смита, план «Звезда Леграна» предназначался для того, чтобы множество резервистов Первой мировой войны направлялись на фронт через Париж. Более децентрализованный план имел бы более прямые маршруты к фронту: «Некоторые резервисты из Страсбурга ехали через столицу, чтобы надеть свою форму в Бордо, и возвращались, чтобы сражаться в Альсаче». Генерал фон Мольтке заметил, что он имел шесть различных рельсовых дорог для перемещения отрядов от Северной немецкой конфедерации до зоны военных действий между Мозелем и Рейном, в то время как французские отряды, прибывающие на фронт, должны были переправляться в Страсбург или Метц, объезжая Вогезские горы. Наконец, возможно,самое главное, как только Париж был окружен, «Звезда Леграна» уже не могла функционировать. После войны высшее командование настаивало на постройке поперечных путей, чтобы исправить положение.
[189] См.: Hacking Ian. The Emergence of Probability: A Philosophical Study of Early Ideas About Probability, Induction, and Statistical Inference. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.
[190] Я чрезвычайно благодарен Городскому музею Амстердама за предоставление копии карты, воспроизведенной на рис. 13 этой книги, и прежде всего за организацию прекрасной выставки «Голодная зима и освобождение Амстердама» и издание сопроводительного каталога к ней Here, back when... (Amsterdam: City Museum, 1995).
[191] Here, back when... P. 10.
[192] С тех пор, как известно, в частности, из истории Анны Франк, многие голландцы в городе и в сельской местности прятали евреев, поэтому депортация как систематическое административное мероприятие в конечном счете потерпела неудачу. Поскольку еврейское население становилось все более невидимым для властей, они были вынуждены обратиться к коллаборационистам, которые стали их местными осведомителями.
[193] Даже если эти факты кажутся динамичными, они обычно представляют собой результат многократных статических наблюдений, а за время, через которое «соединяют точки» процесса, происходит появление непрерывного движения. На самом деле то, что фактически случилось между, скажем, наблюдением A и наблюдением B, остается тайной, которая прикрывается в соответствии с соглашением простым соединением этих двух моментов сбора данных.
[194] Именно таким путем Бенедикт Андерсон помещает факты в Imagined Communities. P. 169.
[195] Я благодарен Лэрри Ломанну: он отстаивал передо мной тот взгляд, что чиновники не обязательно обладают более абстрактным и узким видением действительности, чем обычные люди. Скорее, они нуждаются в фактах, которые отвечают интересам и методам их институциональных ролей. По-моему, Ломанн предпочел бы, чтобы я вообще опустил термин «упрощение», но я все-таки его употребляю.
[196] Здесь имеются по крайней мере три проблемы. Первая — главенство категорий. Как классифицировать человека, обычно работающего на родственников, которые кормят его, позволяют ему использовать часть их земли как собственную: платить ему натурой или наличными деньгами? Иногда весьма произвольные решения о том, как классифицировать такие случаи, скрываются в тени конечных результатов, в которых появляются только преобладающие категории. Теодор Портер обращает внимание на сообщение чиновников Французской канцелярии национальной статистики, что даже обученные сборщики информации зафиксируют до 20% профессиональных категорий по-разному (Trust in Numbers. P. 41). Цель статистического офиса состоит в том, чтобы обеспечить максимальную надежность работы сборщиков информации, даже если соглашения, принимаемые для достижения этой цели, жертвуют кое-какими государственными интересами. Вторая проблема, к которой мы возвратимся позже, состоит в том, как категории и особенно стоящая за ними государственная власть формируют данные. Например, во время экономического спада в Соединенных Штатах в 70-е годы XX в. имелись подозрения, что официальный уровень безработицы был преувеличенна 13%. Главная причина, как утверждалось, состояла в том, что многие номинально безработные были заняты «без записей» в неофициальной экономике и не сообщали о своем доходе из страха перед налоговой службой. Можно было говорить тогда, да и сегодня можно сказать, что финансовая система спровоцировала теневую деятельность, которой было суждено остаться вне банка данных. Третья проблема состоит в том, что те, кто собирают и обобщают информацию, могут быть заинтересованы в этих данных. Во время вьетнамской войны число жертв и усмиренных деревень служило мерой успеха командования в антипартизанском движении. Это соблазняло командиров в угоду начальству завышать эти числа.
[197] Цель состоит в том, чтобы избавиться от субъективизма со стороны сборщиков данных или кодировщиков. И это требует стандартных, механических процедур, которые не оставляют никакого места для личного суждения. См.: Porter. Trust in Numbers. P. 29.
[198] Tilly Charles. Coercion, Capital, and European States, a.d. 990—1992. Oxford: Blackwell, 1990. P. 100.
[199] Для этой тенденции в научном лесоводстве показательно наличие обширной литературы об «оптимальной теории управления», которая взята из науки управления. Для справок и библиографии см.: Donnelly D.M. and Betters D.R. Optimum Control for Scheduling Final Harvest in Even-Aged Forest Stands // Forest Ecology and Management 46 (1991): 135—149.
[200] Карикатура не приводится, потому что она не относится к лирическому утопизму ранних сторонников государственных наук. Я цитирую отца прусской статистики Эрнста Энгеля: «Чтобы получить точное представление о жизни человека, статистическое исследование должно сопровождать все его земное странствование. Оно учитывает рождение, крещение, вакцинацию, успехи в обучении, усердие, окончание школы, последующее образование и развитие, а в зрелом возрасте — его телосложение и способность носить оружие. Оно также сопровождает последующие его шаги по жизненному пути; учитывает выбранное им занятие, как он основывает свое домашнее хозяйство и управляет им, экономил ли он в юности, заботился ли о старости, когда и в каком возрасте он женится, и кого он выбирает, кто его жена. Статистика заботится даже о том, какие вещи ему подходят, а какие — нет. Статистика принимает во внимание, перенес ли он корабле крушение в жизни, подвергся ли материальному, моральному или духовному крушению. Статистика оставляет человека только после его смерти — после того, как она установила точную дату его смерти и отметила причины, которые вызвали его конец». (Цит. по: Hacking Ian. The Taming of Chance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 34). Трудно представить себе более полный список государственных интересов начала XIX в. и тот бумажный след, который они вызывали.
[201] Тилли, вторя колониальной тематике, описывает многие из этих процессов в пределах европейского национального государства как замену косвенного правления прямым принуждением (Coercion, Capital, and European States. P. 103—126).
[202] Chisholm Donald. Coordination Without Hierarchy: Informal Structures in Multiorganizational Systems. Berkeley: University of California Press, 1989. P. 10.
[203] Этот процесс лучше всего описан Бенедиктом Андерсоном: «Руководствуясь своей воображаемой картой, колониальное государство создавало новую образовательную, юридическую, здравоохранительную, полицейскую и иммиграционную бюрократию на принципе этнических и расовых иерархий. Поток подчиненных поселений через сеть дифференциальных школ, судов, клиник, отделений полиции и офисов иммиграции создавал привычное движение, которое на время давало реальную социальную жизнь более ранним фантазиям государства» (Imagined Communities. P. 169). Связанный с этим аргумент в пользу культурного измерения государственного строительства в Англии можно найти в Corrigan Philip and Sayer Derek. The Great Arch: English State Formation as Cultural Revolution. Oxford: Blackwell, 1991.
[204] Мой коллега Пол Ландау вспоминает рассказ Борхеса о том, как король, недовольный картой, на которой его королевство изображается слишком маленьким, наконец настаивает на карте с масштабом один к одному. После окончания работы над ней оказалось, что новая карта накрыла реальное королевство как чехол.
[205] Здесь может помочь банальный пример. Одна из распространенных фрустраций, которой постоянно подвергается современный человек даже в либеральных демократических государствах, — трудность представления своей уникальной ситуации представителю мощного бюрократического учреждения. Но функционер работает с упрощенной сеткой, предназначенной охватить все случаи, которые она сопоставляет. Как только принято решение, какому «ящику» или «дырке» соответствует данная ситуация, будут приняты меры и протокол, которым это сопровождается, будет в значительной степени сокращен и высушен. Функционер пытается подвести конкретную ситуацию под соответствующую категорию, в то время как гражданин, напротив, считает, что его случай вне категорий, и пробует настаивать, часто неудачно, что его уникальный случай заслуживает быть исследованным в его единственности.
[206] Я заимствовал термин «высокий модернизм» у Дэвида Харви. The Condition of Post-Modernity: An Enquiry into the Origins of Social Change. Oxford: Basil Blackwell, 1989. Харви относит высшую точку этого вида модернизма ко времени окончания Второй мировой войны, и его внимание направлено в основном на капитализм и организацию производства. Но его описание высокого модернизма хорошо работает и в данном отношении: «Вера в линейный прогресс, в абсолютные истины и рациональное планирование идеального социального порядка при стандартизированных условиях знания и производства была особенно сильна. Модернизм, который закончился, был одновременно «позитивистский, технократический и рационалистический», поскольку был навязан обществу как результат работы авангардистской элиты из планировщиков, художников, архитекторов, критиков и других хранителей высокого вкуса. «Модернизация» европейских экономик быстро закончилась, в то время как толчок, данный международной политике и торговле, был оправдан как обеспечение доброжелательного и прогрессивного «процесса модернизации» отсталого третьего мира» (p. 35).
[207] Об «общественных предпринимателях» в Соединенных Штатах см. в исследовании Eugene Lewis’s: Hyman Rickover, J. Edgar Hoover, and Robert Moses, Public Entrepreneurs: Toward a Theory of Bureaucratic Political Power: The Organizational Lives of Hyman Rickover, J. Edgar Hoover, and Robert Moses (Bloomington: Indiana University Press, 1980).
[208] Я не буду развивать этот спор здесь, но думаю, что нацизм лучше понимается как реакционная форма модернизма. Подобно прогрессивному левому, нацистские элиты имели грандиозные видения предписанной государством социальной перестройки, которая включала, конечно, истребление, изгнание, принудительную стерилизацию и отбор на размножение, нацеленные на генетическое «улучшение» человеческой природы вообще. Нацизм как ядовитая форма модернизма блестяще и убедительно описан в: Zygmunt Bauman. Modernity and the Holocaust. Oxford: Oxford University Press, 1989. См. также в связи с этим Herf Jeffrey. Reactionary Modernism: Technology, Culture, and Politics in Weimarand the Third Reich. Cambridge: Cambridge University Press, 1984; Frei Norbert. National Socialist Rule in Germany: The Fuhrer State, 1933-1945. Oxford: Oxford University Press, 1993.
[209] Джеймс Фергюсон напомнил мне, что реакционные высокомодернистские схемы столь же вездесущи, как и прогрессивные варианты. Благодарю его за это напоминание.
[210] Но не любыми средствами, в отличие от консерваторов. Консерваторы различного толка могут мало заботиться о гражданских свободах, могут обратиться к любым зверствам, которые покажутся им необходимыми, чтобы остаться у власти. Но их амбиции и гордость намного больше ограничены; их планы (в отличие от планов реакционных модернистов) не требуют переворачивать общество вверх тормашками, чтобы создать новые общности, новую семью и новых людей.
[211] Vaclav Havel, адресовано Victoria University, Wellington, New Zealand, on March 31, 1995, перепечатано New York Review of Books. 1995. Vol. 42, Nell (June 22). P. 36.
[212] Цит. по: Bauman Zygmunt. Socialism: The Active Utopia. New York: Holmes and Meier, 1976. P. 11.
[213] Просвещенное обсуждение интеллектуального происхождения авторитарного учения о среде см.: Weiner Douglas R. Demythologizing Environmentalism // Journal of the History of Biology. 1992. Vol. 25, №3. P. 385—411.
[214] См.: Adas’s Michael. Machines as the Measure of Men: Science, Technology, and Ideologies of Western Dominance. Ithaca: Cornell University Press, 1989; and Berman’s Marshall. All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. New York: Penguin, 1988. Что ново в высоком модернизме (я полагаю, не так уж много), так это стремление к всестороннему планированию. Многие имперские и абсолютистские государства имели подобные стремления. Новыми являются административная технология и социальное знание, позволяющие вообразить организацию общества такими способами, которые прежде были присущи только бараку или монастырю. В этом отношении убедительные аргументы см.: Foucoult Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison, trans. Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1977.
[215] Здесь я хочу отделить прогресс в научном знании и изобретениях (многие из которые сделаны в XVIII в и ранее) от массовых преобразований, которые научные изобретения вызвали в повседневной материальной жизни (произошли главным образом в XIX в.).
[216] Kula Witold. Measures and Men. Princeton: Princeton University Press, 1986. P. 211.
[217] Цит. по: Hacking Ian. The Taming of Chance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 38. Несколькими годами позже якобинцы были, можно спорить, первыми, кто пытался проектировать счастье, преобразовывая социальный порядок. Как писал Сен-Жюст, «идея счастья нова в Европе». См.: Hirsch-man Albert O. Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, Destructive, or Feeble // Journal of Economic Literature. 1982. №20 (Dec). P. 1463-1484.
[218] Я очень обязан Джеймсу Фергюсону, чьи проницательные комментарии к ранней редакции книги указали мне это направление.
[219] См., Например, Buschell Graham, Gordon Colin, Miller Peter, eds. The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Chap. 4. London: Harvester Wheatsheaf, 1991.
[220] Hacking. The Taming of Chance. P. 105. Хэкинг блестяще показывает, как статистическое «среднее» переводится в категорию «нормального», а «нормальное», в свою очередь, превращается в «нормативный» стандарт, который будет достигнут социальной перестройкой.
[221] К настоящему времени исторические исследования сделали кристально ясным, насколько широко на Западе была распространена поддержка разработки евгеники. Вера в обязанность государства защищать физические и умственные характеристики рас, была обычна среди прогрессивных деятелей и почти вызвала международное социальное движение. К 1926 г. 23 из 48 американских штатов имели законы, разрешающие стерилизацию.
[222] См.: Gareth Stedman-Jones, Languages of Class: Studies in English Working-Class History, 1832-1982. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. Важно признать, что в западных державах практически всем инициативам, связанным с «цивилизующей миссией» колониализма, предшествовали сравнимые программы ассимиляции и цивилизации собственного населения более низкого класса, сельского и городского. Колониальные чиновники имели большую принудительную власть над порабощенным коренным населением, учитывая таким образом большие подвиги социальной перестройки.
[223] Изложение научно-фантастической попытки создать образ «технократического и объективного человека», свободного от «природы», см.: Lewis C.S. That Hideous Strength: A Modern Fairy Tale for Grown-Ups. New York: Macmillan, 1946.
[224] Интересная и проблематичная ситуация «дикого» сада, в котором точная форма «беспорядка» скрупулезно запланирована, представляется попыткой в эстетическом плане копировать дикую природу. Парадокс столь же трудный, как парадокс зверинца, предназначенного подражать природе, — трудный до тех пор, пока каждый не понимает, что проект не разрешает животным есть друг друга!
[225] Marx Karl. Communist Manifesto, цит. по: Berman. All That Is Solid Melts into Air. P. 95.
[226] В начале XX в. самолет, заменивший локомотив, был во многих отношениях образом современности. В 1913 г. футурист, художник и драматург Казимир Малевич создал декорации для оперы «Победа над Солнцем». В последней сцене зрители услышали за кулисами рев пропеллера и крики, объявляющие, что гравитация преодолена. Ле Корбюзье, близкий современник Малевича, полагал, что самолет — главный символ нового века. О влиянии полетов см.: Wohl Robert. A Passion for Wings: Aviation and the Western Imagination, 1908-1918. New Haven: Yale University Press, 1996.
[227] Якобинцы, хотевшие начать все сначала, предложили и новый отсчет летоисчисления — с «года один», и другие названия дней и месяцев согласно новой, светской системе. Сообщая о намерении создать полностью новую кампучийскую нацию, режим Пол Пота начал с «нулевого» года.
[228] Цит. по: Harvey. The Condition of Post-Modernity. P. 99.
[229] В этом отрывке мужской род употреблен сознательно, после некоторого обдумывания. См. Merchant Carolyn. The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution. San Francisco: Harper, 1980.
[230] См., например, Bullitt Margaret M. Toward a Marxist Theory of Aesthetics: The Development of Socialist Realism in the Soviet Union // Russian Review. 1976. V. 35, №1. P. 53-76.
[231] Knei-Paz Baruch. Can Historical Consequences Falsify Ideas? Or, Karl Marx After the Collapse of the Soviet Union // Political Theory Workshop, Department of Political Science, Yale University, New Haven, November 1994.
[232] Пророческое инакомыслие Раймона Арона является ключевым документом в этом контексте. См.: The Opium of the Intellectuals // Trans. Terence Kilmartin. London: Seeker and Warburg, 1957.
[233] Чем больше, чем интенсивнее по вложениям и чем централизованнее системы, тем больше их привлекательность для власти и покровительства. Критический анализ проектов контроля наводнения и проектов Всемирного банка в этом контексте см. Boyce James K. Birth of a Megaproject: Political Economy of Flood Control in Bangladesh // Environmental Management. 1990. V. 14, №4. P. 419-428.
[234] Harvey. The Condition of Post-Modernity. P. 12.
[235] О важном теоретическом вкладе Чарлза Тилли cm.: Coercion, Capital, and European States, a.d. 1990-1992. Oxford: Blackwell, 1990.
[236] Гражданская война, как в случае с большевиками, может быть ценой консолидации революционной власти.
[237] Колонии с белыми поселенцами (например, Южная Африка, Алжир) и кампании против мятежников (например, Вьетнам, Алжир, Афганистан) вызвали огромные перемещения населения и насильственное переселение. Однако в большинстве таких случаев утверждение, что всестороннее социальное планирование осуществлялось для блага населения, не соответствовало истине.
[238] Прояснению этого вопроса особенно способствовали мои дискуссии с George Yaney. The Urge to Mobilize: Agrarian Reform in Russia. Urbana: University of Illinois Press, 1982. P. 448—462.
[239] См.: Rabinbach Anson. The Human Motor: Energy, Fatigue, and the Origins of Modernity. Berkeley: University of California Press, 1992. P. 260—271. В 1907 г., задолго до войны, Ратенау и множество архитекторов и политических лидеров основали немецкий Рабочий союз, который был посвящен созданию технических новшеств в промышленности и искусствах.
[240] См.: Kasza Gregory J. The Conscription Society: Administered Mass Organizations. New Haven: Yale University Press, 1995. P. 7—25.
[241] Rabinbach. The Human Motor. P. 290.
[242] Недавние оценки развития технологии и производства в Соединенных Штатах см.: Rosenberg Nathan. Perspectives on Technology. Cambridge: Cambridge University Press, 1976; Rosenberg. Inside the Black Box: Technology and Economics. New York: Cambridge University Press, 1982; Scranton Philip. Figured Tapestry: Production, Markets, and Power in Philadelphia, 1885-1942. New York: Cambridge University Press, 1989.
[243] См. изобретательную статью Yanorella Ernest J. and Reid Herbert. From “Trained Gorilla” to “Humanware”: Repoliticizing the Body-Machine Complex Between Fordism and Post-Fordism // Theodore R. Schatzki and Wolfgang Natter, eds., The Social and Political Body. New York: Guildford Press, 1996.. P. 181—219.
[244] Rabinbach. The Human Motor. P. 272. Rabinbach здесь перефразирует заключения оригинальной статьи Maier Charles S. Between Taylorism and Technocracy: European Ideologies and the Vision of Industrial Productivity in the 1920s // Journal of Contemporary History. 1970. Vol. 5, №2. P. 27-63.
[245] В Соединенных Штатах этот взгляд проповедовал известный социолог Торстейн Веблен. Литературные версии этой идеологии очевидны в «Эрроусмите» Синклера Льюиса и «Источнике» Эйна Рэнда, которые относятся к весьма различным секторам политического спектра.
[246] Rabinbach. The Human Motor. P. 452. О деятельности Ратенау, см., например, его работы Van kommenden Dingen (Things to come) and Die Neue Wirtschaft (The new economy), последняя написана после войны.
[247] Rathenau Walther. Von kommenden Dingen (1916), цит. по: Maier. Between Taylorism and Тесппосгасу. P. 47. Майер обращает внимание, что очевидная гармония капитала и рабочей силы во время войны в Германии была достигнута в конечном счете за счет губительной политики инфляции (p. 46).
[248] Adas Michael. Machines as the Measure of Men: Science, Technology, and Ideologies of Western Dominance. Ithaca: Cornell University Press, 1989. P. 380; Sheldon Wolin. Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought. Boston: Little, Brown, 1960, содержит обширный перечень разделяющих эти идеи мыслителей, охватывающий весь спектр политиков — от фашистов и националистов до либералов, социальных демократов и коммунистов, а также горячо сочувствующих из Франции, Германии, Австрии, Пруссии (пруссак Ричард фон Моллендорф, близкий партнер Ратенау и публицист, пишущий о проблемах управляемой послевоенной экономики), Италии (Антонио Грамши слева и фашисты Массимо Рокка и Бенито Муссолини справа) и России (Алексей Капитонович Гастев, «советский Тейлор»).
[249] Lenin V.I. The Agrarian Programme of Social-Democracy in the First Russian Revolution, 1905-1907, 2nd rev. ed. Moscow: Progress Publishers, 1954. P. 195, написана 28 сентября 1917 г. (только первое подчеркивание мое).
[250] Smolinski Leon. Lenin and Economic Planning // Studies in Comparative Communism. 1969. Vol. 2, №1 (January). P. 99. Ленин и Троцкий откровенно заявляли, говорит Смолинский, что электрическая централизация создаст зависимость сельского населения от центра и таким образом сделает возможным государственный контроль сельскохозяйственного производства (p. 106—107).
[251] Lenin. Works. Moscow, 1972. Vol. 27. P. 163, цит. по: Traub Ranier. Lenin and Taylor: The Fate of “Scientific Management” in the (Early) Soviet Union // trans. Judy Joseph, in Telos 34 (Fall 1978): 82—92 (originally published in Kursbuch 43 [1976]). «Бардом» тейлоризма в Советском Союзе был Алексей Капитонович Гастев, который в своих стихотворениях и эссе воспевал лирический «союз» между человеком и машиной: «Многие находят противным, что мы хотим иметь дело с людьми как с винтом, орехом, машиной. Но мы должны принять это так же бесстрашно, как принимаем рост деревьев и расширение железнодорожной сети» (приводится там же., p. 88). Большинство трудовых институтов было закрыто, а их эксперты высланы или застрелены во время сталинских чисток 30-х годов.
[252] Lenin. The Immediate Tasks of the Soviet Government // Izvestia, 1918, April 28, цит. по: Майер. Between Taylorism and Technocracy. P. 51-58.
[253] Burchell Graham, Gordon Colin and Miller Peter. The Foucault Effect: Studies in Governmentality. London: Wheatsheaf, 1991. P. 106.
[254] Эта точка зрения, азартно отстаиваемая в XX в. Фридрихом Хаеком, была свойственна тем, кто был оппозиционно настроен в отношении послевоенного планирования и государства всеобщего благоденствия. См. особенно: The Road to Serfdom. Chicago: University of Chicago Press, 1976.
[255] Я особо признателен Талье Поттерс за ее проницательные комментарии к первому варианту этой главы.
[256] В 1927 г. Ле Корбюзье выиграл первый приз на соревновании за проект дворца Лиги Наций, но его проект никогда не был осуществлен.
[257] Про этот период см.: Cohen Jean-Louis. Le Corbusier and the Mystique of the USSR: Theories and Projects for Moscow, 1928—1936. Princeton: Princeton University Press, 1992.
[258] Превосходный анализ модернизма и американского города см.: Katherine Kia Tehranian. Modernity, Space, and Power: The American City in Discourse and Practice. Cresskill, N.J.: Hampton Press, 1995.
[259] Le Corbusier (Charles-Edouard Jeanneret). The Radiant City: Elements of a Doctrine of Urbanism to Be Used as the Basis of Our Machine-Age Civilization, trans. Pamela Knight. New York: Orion Press, 1964. Оригинальное французское издание — La ville radieuse: Elements d’une doctrine d’urbanismepour Vequipement de la civilisation machiniste. Boulogne: Editions de 1” Architecture d’Aujourd’hui, 1933. Последующий анализ в полной мере относится к обоим изданиям.
[260] Le Corbusier. The Radiant City. P. 220.
[261] Подобно многим высоким модернистам, Ле Корбюзье любил смотреть с высоты. Он писал: «Это — как архитектор и градостроитель... То, что я позволяю себе отлететь на крыльях самолета, дает мне вид с птичьего полета, вид с воздуха... Глаз теперь воочию видит то, что ум мог только субъективно замыслить. [вид с воздуха] — новая функция, добавленная к нашим чувствам; это — новый стандарт измерения; это — основа нового чувства. Человек использует его, чтобы ставить новые цели. Города будут восставать из пепла» (цит. по: Corner James, MacLean Alex S. Taking Measures Across the American Landscape. New Haven: Yale University Press, 1996. P. 15).
[262] Le Corbusier. The Radiant City. P. 322.
[263] Там же, p. 121.
[264] Fishman Robert. Urban Utopias of the Twentieth Century: Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright, and Le Corbusier. New York: Basic Books, 1977. P. 186.
[265] Le Corbusier. The Radiant City. P. 134.
[266] Там же, p. 82—83 (первое подчеркивание добавлено, второе — авторское).
[267] Из Le Corbusier’s. When the Cathedrals Were White, цит. по: Richard Sennett. The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities. New York: Norton, 1990. P. 169. Про посещение Ле Корбюзье Америки, которое продлилось почтигод (в 1935 г.), см.: Bacon Mardges. Le Corbusier in America: Travels in the Land of the Timid (forthcoming). Ле Корбюзье не сумел добиться полномочий, которых искал в Америке, очевидно, потому, что даже за границей городские планировщики остерегались руководствоваться его разрушительными схемами.
[268] Le Corbusier. The Radiant City. P. 123.
[269] Доступное введение во фрактальную логику жизненных процессов см.: Gleick James. Chaos: Making a New Science. New York: Penguin, 1988.
[270] Le Corbusier. The Radiant City. P. 178. В его фактических постройках, однако, практика Ле Корбюзье была гораздо более изменчива.
[271] Там же, p. 22—23. Это было источником иронического удовлетворения для Ле Корбюзье — его проект дворца Лиги Наций не был осуществлен, а в то же время проект, представляющий наиболее универсальные институты, выиграл первый приз.
[272] Там же, p. 46.
[273] Там же, p. 29—30. Убедительные аргументы в пользу того, что жесткие, функционально определенные законы зонирования лежат в основе неудачных районов города и пригородов, растянувшихся по сегодняшним Соединенным Штатам, см.: Howard Kunstler James. Home from Nowhere // Atlantic Monthly, September 1996. P. 43—66.
[274] Vale Lawrence. Architecture, Power, and National Identity. New Haven: Yale University Press, 1992. P. 109.
[275] Le Corbusier. The Radiant City. P. 71.
[276] Единственная альтернатива такому упрощению должна руководствоваться вкусами конечного пользователя или потребителя. Люди хотят жить там? Они довольны? Эти критерии не нужно путать с рыночными критериями, которые, кроме того, определяют, могут ли люди позволить себе это.
[277] Я пишу «доктрина Ле Корбюзье», потому что практически его здания не имели ни низкой стоимости, ни функциональной эффективности. Реальные здания, однако, были значительно более интересны, чем его теоретические доктрины.
[278] Le Corbusier. The Radiant City. P. 7.
[279] Le Corbusier. Цит. по: Fishman. Urban Utopias. P. 193,
[280] Le Corbusier. La ville radieuse. P. 178—79.
[281] Le Corbusier. Цит. по: Fishman. Urban Utopias. P. 208.
[282] Сравнивая это пространственное представление социального и политического порядка с планом города, Платон подчеркивает в «Законах»: акрополь в центре, концентрические кольца городского ядра, ремесленный пригород (для неграждан) и внутренние и внешние кольца культурной зоны. «Пирог» разделен на двенадцать долей, которые формируют основание для вербовки и ежегодной ротации сил охраны. Vidal-Naquet Pierre. A Study in Ambiguity: Artisans in the Platonic City. Chap. 11 of The Black Hunter: Forms of Thought and Forms of Society in the Greek World, trans. Andrew Szegedy-Maszak. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986. P. 224—245.
[283] Поиск гением городского планирования диктатора, который дал бы ему власть реализовать свое видение, был также очевиден в карьере Вальтера Кристаллера, великого немецкого географа и создателя теории центрального места. Он предложил свои услуги нацистскому режиму, «чтобы дать совет о создании иерархического порядка городских поселений для недавно завоеванных польских территорий». Это давало ему шанс осуществить его теорию шестиугольных рыночных площадей и размещения города на плоской равнине. После войны он присоединился к коммунистам, «надеясь на то, что авторитарный режим будет использовать свою власть для перемещения опустошенных войной городов согласно оптимальному образцу, как требуется в соответствии с теорией центрального места». Это был классический случай попытки наложить на реальность то, что начиналось как упрощенное аналитическое описание экономики местоположения. Carol Hans Geographica: Walter Christaller, a Personal Memoir // Canadian Geographer. 1970. Vol. 14, №1. P. 67—69. Я благодарен Отто ван ден Мюйзенбергу за эту ссылку.
[284] Le Corbusier. The Radiant City. P. 181.
[285] Там же, p. 154.
[286] Я пытаюсь быть исключительно осторожным в использовании таких нагруженных терминов, как «фашизм», но думаю, что здесь это оправдано. Описывая красоту Парфенона, Ле Корбюзье только намекает на прославление насилия. «Вспомните Парфенон, — пишет он. — Вспомните его ясность, его четкие линии, ее интенсивность, его экономность, его буйство, вспомните его страшный крик посреди этого пейзажа, созданного изяществом и ужасом. Сила и чистота» (там же, p. 187). Ле Корбюзье также склонен, как мы увидим, дегуманизировать своих противников, равно как и городскую бедноту: «Все зависит от мудрости планов... Я говорю здесь об обществе, которое уже обеспечило себя плановой экономикой и уничтожило всех паразитов, существующих в обществе, которое мы знаем сегодня» (p. 73 [курсив пер.]).
[287] Мамфорд осуждает за подобную гордость дух барочного планирования, который, с позиции XX в., кажется менее экспансивным. В своем комментарии к пассажу из Декарта (см. гл. 1) Мамфорд противопоставляет два способа размышления: органический и механический. «Первый исходит из полной ситуации, второй упрощает факты жизни ради ловкой системы концепций,более близкой уму, чем сама жизнь. При первом способе учитываются другие материалы, возможно, руководствуются ими, но сначала происходит подтверждение их существования и понимание их цели; второй, барочный деспот, настаивающий на своем законе, своем порядке, своем обществе, управляемом единственной профессиональной властью, работающей под его командой» (The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1961. P. 394). Превосходство города с центральной планировкой над городом, который вырастает стихийно, не обязательно состоит в esprit geometrique, как это было у Декарта; запланированный город, как было отмечено, демонстрировал королевскую власть и был более здоровым даже в XVII в. Таким образом, Джон Ивлин, недавно вернувшийся из европейского изгнания с Карлом II, писал, что Лондон был «городом, состоящим из деревянных, северных и безыскусных скоплений зданий, некоторые из его главных улиц столь узки, что совершенно не смотрятся на расстоянии и асимметричны в пределах стен» (цит. по: Jenner Mark. The Politics of London Air: John Evelyn’s Fumifugium and the Restoration // Historical Journal. 1995. Vol. 38, №3. P. 542 [курсив авт.]).
[288] Цит. по: Fishman. Urban Utopias. P. 213.
[289] Ле Корбюзье был членом общества «Восстановление Франции», объединившего правый круг промышленников. Об этой связи и особенно о работе Ле Корбюзье в Советском Союзе см.: Cohen. Le Corbusier and the Mystique of the USSR.
[290] Le Corbusier. The Radiant City. P. 131. Он продолжает: «Мощь вычисления такова, что человек опрометчивый мог бы соблазниться немедленно воздвигнуть ему алтарь и поклоняться».
[291] Ле Корбюзье особенно гордился прозрачностью линий этого здания, которое, подобно многим из его построек 20-х годов, стояло на сваях. Он писал о нем: «Высоко оценивают полностью новые и огромные достоинства этой архитектуры: безупречную линию фундамента. Здание смотрит всеми своими окнами, и оно абсолютно четко» (Le Corbusier. Les Techniques sont I’assiette meme du lyricisme: Elles ouvrent un nouveau cycle de l’architecture // Precisions sur un etat present de l’architecture et de I’urbanisme. Paris, 1930 (цит. по: Cohen. Le Corbusier and the Mystique of the USSR. P. 77).
[292] В конце концов Ле Корбюзье с горечью отозвался о своем советском опыте: «Несколько раз меня просили составить планы городов для Советского Союза; к сожалению, все это оказалось сотрясением воздуха. Мне чрезвычайно жаль, что так получилось... я изучил основные социальные истины так глубоко, что, естественно, должен был первым создать ВЕЛИКИЙ БЕСКЛАССОВЫЙ ГОРОД, гармоничный и радостный. Это иногда причиняет мне боль, когда я думаю, что в СССР я отвергнут по причинам, которые, как мне кажется, ко мне не имеют отношения» (цит. по: Cohen. Le Corbusier and the Mystique of the USSR. P. 199).
[293] Цит. там же, p. 109. В оправдание линейной суровости своих московских планов Ле Корбюзье писал: «От изогнутых линий образуется паралич, а вьющаяся дорожка предназначена для ослов» (цит. там же, p. 15).
[294] Цит. там же, р. 98. Подобно многому в «Лучезарном городе», этот пассаж отражает постоянный призыв Ле Корбюзье к политическим властям, которые только и могли позволить осуществить его планы.
[295] По поводу Ле Корбюзье и концепции сублимации см.: Rowe Colin. The Architecture of Good Intentions: Towards a Possible Retrospect. London: Academy Editions, 1995.
[296] Ле Корбюзье. Цит. там же, p. 152.
[297] Ле Корбюзье. Цит. по: Fishman. Urban Utopias. P. 177.
[298] Ле Корбюзье. The Radiant City. P. 116.
[299] Там же, p. 138.
[300] Там же, p. 176.
[301] Там же, p. 120. Барочные городские планировщики также признавали, что узкие улицы представляют опасность для государства. См. комментарий Мамфорда относительно того, что Неаполитанский король Ферранте боялся темных и изогнутых улиц (The City in History. P. 348).
[302] Le Corbusier. The Radiant City. P. 120. В эксцентричной сноске Ле Корбюзье воображает памятник в бронзе Людовика XIV, Наполеона I и Наполеона III с соединенными в пожатии руками на переднем плане, а на заднем плане расположены фигуры улыбающихся Кольбера и Хаусманна, также держащихся за руки. Их свободные руки на переднем плане поднимают свиток, на котором начертано: «Придерживайтесь этого, ради Бога».
[303] Там же, p. 27.
[304] Там же, p. 187.
[305] Там же, p. 185.
[306] Там же, p. 70. Влияние фордизма и тейлоризма здесь слишком очевидно. См.: Harvey David. The Condition of Post-Modernity: An Enquiry into the Origins of Social Change. Oxford: Basil Blackwell, 1989. P. 35—44. После двадцати лет профессиональной деятельности Ле Корбюзье оказался тесно связанным с пуризмом и конструктивизмом. Для конструктивистов наиболее эффективной формой объекта была идеальная форма; декоративные элементы запрещались, поскольку они только снижают чистую красоту функционального проекта. Проект дома, задуманного в этом духе, начинался со внутренней части, с его функций и доступных материалов, определяющих его форму и вид. Несмотря на идеологические обязательства, Ле Корбюзье был всегда заинтересован в живописной линии своих проектов, которые он связывал с классическими или естественными формами. В более поздние годы он запретил использовать слово «функционализм» в своей студии. Обсуждение ранних проектов Ле Корбюзье и соответствующей интеллектуальной обстановки см.: Walden Russel ed. The Open Hand: Essays on Le Corbusier. Cambridge: mit Press, 1975, особенно эссе Jencks Charles. Anthony Sutcliffe, and Mary Patricia May Sekler.
[307] Le Corbusier. The Radiant City. P. 121.
[308] Там же, p. 128. Довольно любопытно, что когда сравниваешь грандиозные схемы Ле Корбюзье и его небольшие проекты, последние кажутся более успешными, и эстетически, и практически. В частности, его маленькая часовня Notre Dame du Haut at Ronchamp рассматривается как блестящее достижение, а его ранние здания в Ла Chaux-de-Fonds восхищают своими декоративными особенностями — тем, что он позже отверг.
[309] Holston James. The Modernist City: An Anthropological Critique of Brasilia. Chicago: University of Chicago Press, 1989.
[310] Бразилия имеет некоторую историю реализации амбициозных планов, затем пришедших в упадок. Так, в 1972 г. было открыто трансамазонское шоссе с большим шумом (и экологическими тревогами); к концу 1980-х годов большая часть этой дороги была заброшена.
[311] Цит. по: Vale Lawrence J. Architecture, Power, and National Identity. New Haven: Yale University Press, 1992. P. 125.
[312] Holston. The Modernist City. P. 113-19.
[313] Там же, p. 115.
[314] Сравните эту традицию с намерениями Ле Корбюзье, который писал: «Кафе и места отдыха больше не будут грибком, разъедающим тротуары Парижа. Мы должны убить улицу» (Towards a New Architecture, trans. Frederick Etchells. New York: Praeger, 1959. P. 56—59).
[315] См. интересный анализ Холстона в The Modernist City. P. 119-136.
[316] Там же, p. 105—107. Я беру на себя смелость перевести convivencia как «компанейство», а не «социальное дружелюбие», поскольку это кажется более близким к сути, которую информатор Холстона пытается передать (p. 105).
[317] Там же, p. 24—26.
[318] Там же, p. 24.
[319] Есть, конечно, некоторые вещи, которые нравятся жителям Бразилиа: правительственные средства обслуживания, высокий уровень жизни, и тот факт, что она представляет собой безопасную окружающую среду для детей.
[320] Там же, p. 163.
[321] Там же, p. 171. Отдельный небольшой дом мог также быть просто результатом конвенционального соглашения, которое устанавливается в раннем детстве.
[322] Интересный анализ Холстона того, как проект квартиры суперквадра устраняет большинство социальных мест традиционного жилья бразильцев, сора, см. там же, p. 177—180.
[323] Там же, p. 149. Cm. Takoxe: Lynch Kevin. The Image of the City. Cambridge: mit Press, 1960. Концепция «представимости» Линча говорит о том, что местоположение дома или его окрестности могут быть «изображены» его жителями лучше, чем планировщиком или администратором. Эти две формы порядка могут часто, как напоминает Холстон, иметь отрицательную корреляцию.
[324] Holston. The Modernist City. P. 209.
[325] Цит. там же, p. 210.
[326] Моя информация о Чандигархе черпается из: Kalia Ravi. Chandigarh: In Search of an Identity. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1987, и трех статей: Walden Russell ed. The Open Hand: Essays on Le Corbusier. Cambridge: mit Press, 1977; Fry Maxwell. Le Corbusier at Chandigarh. P. 351-363; Sarin Madhu. Chandigarh as a Placeto Live In. P. 375-411; Stanislaus von Moos. The Politics of the Open Hand: Notes on Le Corbusier and Nehru at Chandigarh. P. 413—457.
[327] Пенджабских политических деятелей также захватил проект, они увидели в нем компенсацию за потерю Лахора, столицы до разделения Пенджаба, центра власти Моголов и столицы Сикхского королевства Ранжит Сингх. Я благодарен Рамачандра Гухе за эту информацию.
[328] Как описывает это Максвелл Фрай, в то время Ле Корбюзье занимался визуальными эффектами зданий на больших пространствах. Он принес с собой план великой оси, которая соединяла Лувр с Триумфальной аркой через Елисейские поля, и пробовал разрабатывать «самое дальнее расширение постижимого великолепия, охватываемого одним взглядом» в новой постановке. См.: Fry. Le Corbusier at Chandigarh. P. 357.
[329] Sarin. Chandigarh as a Place to Live In. P. 386.
[330] См., например, книгу, опубликованную 15 годами раньше: Goodman Percival and Goodman Paul. Communitas: Means of Livelihood and Ways of Life. New York: Vintage Books, 1947, которая затрагивает многие темы, упомянутые в работе Джекобс, но в которой проповедуется децентрализация и предлагается соответствующая технология.
[331] В Нью-Йорке Джекобс была видным противником строителя Роберта Мозеса.
[332] С другой стороны, Джекобс обладала обширными познаниями в архитектуре. Она была замужем за архитектором и прошла путь журналиста и редактора, прежде чем стала соредактором журнала Architectural Forum.
[333] Интересная параллель того же самого времени: Rachel Carson’s Silent Spring. Boston: Houghton Mifflin, 1962. Карсон начала свое мощное нападение на расточительное использование инсектицидов, задавая домашний, но сильный вопрос: куда подевались все певчие птицы?
[334] Jacobs Jane. The Death and Life of Great American Cities. New York: Vintage Books, 1961. P. 15.
[335] Там же, p. 376. Сам бывший прежде конструктивистом Ле Корбюзье не отрицал бы этот взгляд как принцип, но на практике он всегда интересовался скульптурными свойствами городского плана или отдельного здания — иногда с блестящими результатами, как в Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp (1953).
[336] Полезную критику практики текущего зонирования можно найти в Kunstler James Howard. Home from Nowhere // Atlantic Monthly, September 1996. P. 43—66.
[337] Jacobs. Death and Life. P. 375. Это кажется особенно понятным, пока признанные произведения искусства, о которых все говорят, такие, как у Жозефа Альбера, а не у Джексона Поллока. В этой связи полезно вспомнить, что Ле Корбюзье начинал как художник и никогда не прекращал занятий живописью.
[338] Там же, p. 437.
[339] Там же, p. 31—32. В последних публикациях, посвященных социальному доверию и социальному капиталу, помимо демонстраций экономических затрат при отсутствии таковых сообщается, что эта домашняя правда является теперь предметом научного исследования. Важно определить, что точка зрения Джекобс по поводу «глаз на улицу» затрагивает элементарный уровень чувства сообщества. Если глаза на улицу враждебны к некоторым или ко всем членам сообщества, как напомнила мне Талья Поттер, общественная безопасность не усиливается.
[340] Там же, p. 38—40. Стоит отметить, что опорой этого неофициального наблюдения и социального порядка является та самая мелкая буржуазия, которая так быстро исчезает и которую так много порочили.
[341] Там же, p. 59—62.
[342] Там же, p. 60—61. Джекобс приводит перечень неоплачиваемых услуг, оказываемых типичным владельцем кондитерской утром, утверждая, что это позволяет владельцу магазина сохранять клиентуру.
[343] Там же, p. 56.
[344] Там же, p. 84—88. Джекобс указывает на региональное сообщение 1928 г. о планировании отдыха, в котором отмечалось, что только приблизительно четвертая часть жителей в возрасте от пяти до пятнадцати лет реально играет на детских площадках, которые не могут конкурировать с городскими улицами, «изобилующими жизнью и приключениями».
[345] В современном доме, если на кухне стоит еще и телевизор, ее статус как наиболее используемой комнаты в доме, вероятно, будет вне сравнения. Голландская коллега Талья Поттер сообщила мне, что в квартирах рабочих, построенных в Голландии между 1920 и 1970 г., размеры кухни были преднамеренно минимизированы, чтобы рабочие обедали и общались в гостиной как приличные люди.
[346] Глава книги Джекобс «Потребность в маленьких кварталах» является моделью ее способа анализа. См.: Death and Life. P. 178—186.
[347] Там же, p. 222.
[348] Джекобс, кроме того, что совмещала несколько мест работы, в 50-х годах была женой и матерью.
[349] Объясняя, почему дети часто предпочитают играть на тротуаpax, a не на детских площадках, Джекобс пишет: «Большинство городских архитекторов — мужчины. Поэтому очень любопытно, что они обычно исключают мужчин из нормальной дневной жизни везде, где обитают люди. Планируя реальную жизнь, они стремятся удовлетворить предполагаемые повседневные потребности лишь праздных домохозяек и малышей-дошколят. Короче говоря, они планируют исключительно для матриархального общества» (Death and Life. P. 83).
[350] Там же, p. 372—373. Сравните критический анализ Джекобс с критикой Мамфорда барочного городского планирования как «безжалостного, одностороннего, некооперативного... [и] безразличного к медленным сложным взаимодействиям, терпеливому урегулированию и модификациям через испытание и выбор, которые отмечают более органичные методы городского развития» (The City in History. P. 350).
[351] Jacobs. Death and Life. P. 289. Обширный анализ процесса экономической диверсификации см. в более поздней книге: Jacobs. The Economy of Cities. New York: Random House, 1970. Кэрол Роуз, юрист-теоретик, отмечает интересное явление: визуальные знаки собственности — заборы, стены, преграды, окна, ворота — функционируют как признаки собственности статической и бесконечной, которая игнорирует исторические изменения, см.: Rose. Property and Persuasion: Essays in the History, Theory, and Rhetoric of Ownership. Chap. 9. Boulder: Westview Press, 1994; Seeing Property. P. 267—303.
[352] Jacobs. Death and Life. P. 287.
[353] Там же, p. 391. Этот пассаж звучит эхом высказываний таких влиятельных анархистских мыслителей, как Пьер-Жозеф Прудон и Петр Кропоткин. Я не знаю, имела ли Джекобс в виду эти соответствия, которые, возможно, возникли под влиянием работы Пола Гудмана. Но признание, что в отсутствие государственного городского планирования коммерческие и спекулятивные интересы каждый день преобразуют городской пейзаж, отсутствует. Влияние ее аргументов должно «натурализовать» незапланированный город, обращаясь с ним, как с последствием тысяч мелких и неосознанных действий.
[354] Там же, p. 737.
[355] Конечно, в массовом производстве уже давно появились отдельные строительные элементы, от стандартных деревянных досок и дранки до настила пола и, конечно, гвоздей. Домашние комплекты Сирса и Ребака производились уже в 90-е годы XIX в.
[356] Там, где важен внешний вид, например в армии, эта логика применяется в соответствии с другими критериями. И тогда солдаты будут иметь удобные ботинки разного размера, но одинаковую стрижку.
[357] Jacobs. Death and Life. P. 241.
[358] Там же, p. 238. Это «только, если» — может быть, редкое у Джекобс признание, что в отсутствие экстенсивного планирования в либеральной экономике формирующие город асимметричные рыночные силы вряд ли являются демократическими.
[359] Там же, p. 241.
[360] Разработку этой мысли применительно к проектированию городов см. Michel de Certeau. The Practice of Everyday Life (Arts de faire: La pratique du quotidien). Berkeley: University of California Press, 1984. В этом контексте можно провести аналогию с рынком по направлениям, проложенным Фридрихом Хаеком. Проблема, которую я вижу в связи с этой аналогией, состоит в том, что рынок в современном смысле не синонимичен «спонтанному социальному порядку», а скорее навязан государством в XIX в., как убедительно показал Карл Поляни. Описание Хайеком развития общего закона, по моему мнению, несколько ближе к истине. В любом случае город, рынок и общий закон — все они создатели исторических отношений власти, которые не являются ни «естественными», ни творческими из «спонтанного социального порядка». В своей критике планирования Джекобс часто соблазняется натурализацией незапланированного города так же, как Хайек натурализует рынок.
[361] Там же, p. 138.
[362] Некоторые из открытий Джекобс, кажется, после ранних стадий выздоровления в нескольких погибающих секциях Южного Бронкса в Нью-Йорке, служившем синонимом всего самого плохого в упадке города. Комбинация восстановления существующих зданий и квартир, развивая смешанное использование и городскую устойчивость, делая маленькие ссуды более доступными и сохраняя скромный масштаб, облегчает создание жизнеспособных районов.
[363] Цит. там же, p. 336—337. Заявление Танкела прозвучало на «Форуме архитектуры» в июне 1957 г.
[364] См.: Lisa Redfield Peattie. Planning, Rethinking Ciudad Guayana. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1987.
[365] Jacobs. Death and Life. P. 195.
[366] Lenin V.I. What Is to Be Done? Burning Questions of Our Movement. New York: International Publishers, 1929. P. 82.
[367] Цит. по: Conquest Robert. The Somber Monster // New York Review of Books. 1995. June 8. P. 8. Мы также знаем, что Ленин был поклонником другой утопической работы, «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы, описывающей религиозную Утопию, проект которой включает мощные педагогические и дидактические черты формирования умов и душ его граждан.
[368] Метафоры классной комнаты и бараков сочетались с репутацией Ленина в партии, где товарищи называли его «немец» или «герр доктор», но не потому, что он много времени провел в Цюрихе или получал помощь из Германии, а просто за «его опрятность и самодисциплину» (Conquest. The Somber Monster).
[369] Lenin. What Is to Be Done? P. 80.
[370] Там же, p. 84 (курсив Скотта).
[371] Там же, p. 161 (курсив Скотта).
[372] Там же, p. 114. Ленин считал германских социал-демократов более продвинутыми, чем их российские коллеги. См. также p. 116, где Ленин утверждал, что «никакое движение не может продолжаться без организации лидеров». Эта проблема снова обсуждалась фактически в каждом социалистическом движении, это видно, в частности, из писем итальянского коммуниста и теоретика Антонио Грамши, который в основном разделял мнение Ленина по этому вопросу. Роза Люксембург, как мы увидим, также обращалась к этой проблеме и пришла к совершенно другим выводам.
[373] Там же, p. 162.
[374] Там же, p. 95.
[375] Там же, p. 15.
[376] Там же, p. 40. Возможно, отмечает Ленин в сноске (p. 41), что рабочие станут интеллигентами и таким образом сыграют роль в создании социалистической идеологии. «Но, — добавляет он, — они принимают участие в ее создании не как рабочие, а как социалистические теоретики, подобно Прудону и Вейтлингу».
[377] Там же, p. 33.
[378] Там же, p. 41.
[379] Там же, p. 151 (курсив Скотта). Здесь Ленин пишет о газете «Искра», органе авангардной партии.
[380] Там же, p. 120—121.
[381] Там же, p. 122 (курсив оригинала).
[382] См. например, Ferguson Kathy E. Class Consciousness and the Marxist Dialectic: The Elusive Synthesis // Review of Politics. 1986. Vol. 42, №4 (Oct.). P. 504—532.
[383] Lenin. What Is to Be Done? P. 129.
[384] Там же, p. 121 (курсив Скотта).
[385] Агитация (ажитация — «волнение») — еще одно симптоматичное слово в этом контексте. Оно вызывает образ неподвижных вод, которые двигаются только, когда «взволнованы» внешним агентом.
[386] На X съезде партии в 1921 г., в то время, когда отряды под руководством Троцкого нанесли сокрушительное поражение подлинному восстанию пролетариата против власти большевиков, Бухарин и другие осудили «мелкобуржуазную инфекцию», распространившуюся от крестьянства до части рабочего класса. См.: Averich Paul. Kronstadt, 1921. Princeton: Princeton University Press, 1970. P. 129—130.
[387] Профилактику настоящих болезней и инфекции Ленин брал на себя, чтобы быть уверенным, что Кремль — чистая, свободная от микробов среда. Он даже сам писал санитарные инструкции, требуя, например, чтобы «все прибывающие (поездом) перед тем, как войти в помещение, принимали ванну и дезинфицировали свою одежду..., любой, отказывающийся повиноваться санитарным инструкциям, будет удален из Кремля сразу за попытку причинить социальный вред». Из Volkogonov Dimitri. Lenin: Life and Legacy. London: Harper Collins, 1995, цит. по: Service Robert. The First Master Terrorist // Times Literary Supplement, 1995. Jan. 6. P. 9.
[388] Lenin. What Is to Be Done? P. 79 (курсив Скотта).
[389] См.: Carver Bruce M. The Young Czech Party, 1874-1901, and the Emergence of a Multi-Party System. New Haven: Yale University Press, 1978. P. 117. Питер Рутланд сообщает, что такие показы не были ограничены политическими движениями с авторитарными идеологиями, но составляли часть представления о машинной точности и координации сверху, которая в применении к физкультуре разделялась националистами, буржуазными и демократическими движениями. Традиция скоординированного «массового движения» сохранилась до сих пор, в частности, на марш-парадах в Соединенных Штатах. Более подробно о машине как метафоре социального движения см. гл. 6.
[390] Почти построенный Дворец Республики Николае Чаушеску в Бухаресте содержал много таких проектных особенностей. Законодательный зал собрания имел сходящиеся балконы, окружающие гидравлически поднимающийся подиум, на котором восседал Чаушеску (Нью-Йорк Таймс. 5 декабря 1991 г. С. 2). Ленин, напротив, всегда выступал против любого культа индивидуальности; сама партия должна была быть дирижером революционного оркестра.
[391] Даже при всем при этом надо отметить, что ни Ле Корбюзье, ни Ленин не имели устойчивого, методического, бюрократического характера.
[392] Arendt Hannah. On Revolution. New York: Viking, 1965.
[393] Carr E.H. The Bolshevik Revolution, 1917—1923. Vol. 1. Harmondsworth: Penguin, 1966. P. 36; Ленин цитируется на p. 80. Карр распространяет это суждение на все партии, участвовавшие в Февральской революции: «революционные партии не организовывали революцию. Они не ожидали ее, и были сначала несколько обескуражены. Создание революционной ситуации Советами Петроградских рабочих депутатов было спонтанным актом групп рабочих, никем не руководимых. Это было возрождение Петербургских Советов, которые сыграли столь краткую, но славную роль в революции 1905 г.(p. 81).
[394] См., например, там же; Fitzpatrick Sheila. The Russian Revolution. Oxford: Oxford University Press, 1982; Ferro Marc. The Bolshevik Revolution: A Social History of the Russian Revolution / Trans. Norman Stone. London: Routledge and Kegan Paul, 1980.
[395] Лучшее российское описание этой ситуации можно найти в блестящем анализе сражения во время Наполеоновской кампании в России в романе Л.Н. Толстого «Война и Мир»: War and Peace. New York: Simon and Schuster, 1942. P. 713, 874, 921, 988. См. также Keegan John. The Face of Battle. New York: Viking Press, 1976.
[396] Роль самостоятельного действия в революционном движении даже после октября 1917 г. была признана Лениным в 1918 г.: «Анархистские идеи теперь приняли живую форму». См.: Guerin Daniel. Anarchism: From Theory to Practice / Trans. Mary Klopper. New York: Monthly Review Press, 1970. P. 85. В раннем законодательстве большевиков, отмечает Гверин, было легализовано задним числом много самостоятельных действий и методов.
[397] Для иллюстрации см. подробное исследование, основанное на богатом архивном материале: Figes Orlando. Peasant Russia, Civil War: The Volga Countryside in Revolution, 1917—1921. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
[398] Djilas Milovan. The New Class. New York: Praeger, 1957. P. 32.
[399] Я обязан Пьеру Пердю за то, что он указал мне на это. Джилас многое рассматривает так же (там же).
[400] Официальная история может частично сформировать коллективную память, но ей не под силу полностью вытеснить индивидуальный и коллективный опыт тех, кто фактически участвовал в революционном процессе. Для тех же, кто не имеет никаких личных воспоминаний и знает революцию только по учебникам или патриотическим воспоминаниям, официальная история будет преобладать, если у них нет никаких других источников информации.
[401] Это как в песенке про гвоздь: не было гвоздя — подкова пропала, не было подковы — лошадь захромала..(пер. С.Маршака). (Merriman John M. ed. For Want of a Horse: Choice and Chancein History. Lexington, Mass.: S. Greens Press, 1985).
[402] Чрезвычайно редко встречается какое-нибудь историческое изложение каких-либо событий, которое подчеркивает непредвиденные обстоятельства. Само изложение событий прошлого часто требует аккуратности и последовательности, которые не считаются с фактами. Любой, кто когда-либо читал газетный отчет о случае, в котором сам участвовал, признает это. Рассмотрим, например, тот факт, что человек, который совершил, скажем, убийство или покончил жизнь самоубийством, прыгнув с моста, будет после этого известен как человек, который стрелял так-то и так-то, или как человек, который соскочил с такого-то моста в таком-то месте. События его жизни, пересмотренные в свете такого конца, будут считаться неизбежными, хотя сам акт, возможно, был совершенно случайным.
[403] В случае большевистской революции было также необходимо, чтобы официальный рассказ включал описание подлинного массового движения, которое большевики в конечном счете возглавили. Марксистская историография требовала присутствия бойца, революционного пролетария. Это было аспектом февральских и октябрьских событий, которые не должны были изобретаться. О чем следовало бы написать в отчете, так это о свирепой борьбе между новым государственным аппаратом, с одной стороны, и автономными Советами и крестьянством, с другой.
[404] Ленин, цит. по: Averich. Kronstadt. 1921. P. 160. Я уверен, что здесь Ленин сознательно копирует Люксембург, хотя у меня нет прямого доказательства. Можно найти прецедент этому в кратковременной эйфории Ленина относительно революции 1905 г.: «Революции — это праздник угнетенных и эксплуатируемых... Ни в какое другое время массы людей, создающие новый социальный порядок, не обнаруживают свою активность так, как во время революции. В такие времена люди способны совершать чудеса» (из «Две тактики социал-демократии», цит. по: Stites Richard. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. New York: Oxford University Press, 1989. P. 42).
[405] Lenin V.I. State and Revolution. New York: International Publishers, 1931. P. 23 (курсив оригинала). Следует обратить внимание, что те, кто должны «управляться» силой, — не буржуазия, враги революции, но эксплуатируемые классы, за исключением пролетариата, которому принуждение будет не нужно. Чтобы кто-нибудь не вообразил, что решение о применении государственного принуждения принималось демократически пролетариатом или его представителями, Ленин прояснит только после революции, которая, как пишет Лешек Колаковский, «абсолютная власть, не ограниченная никакими законами, основанная на явном, прямом насилии. И он сказал, что не будет никакой свободы, никакой демократии (то были его настоящие слова) до полной победы коммунизма во всем мире» (A Calamitous Accident // Times Literary Supplement. 1992. Nov. 6. P. 5).
[406] Lenin. State and Revolution. P. 23—24.
[407] Там же, p. 38 (курсив оригинала).
[408] Там же, p. 83 (курсив Скотта).
[409] Lenin. The Immediate Tasks of the Soviet Government // March-April 1918, Цит. по: Claudin-Urondo Carmen. Lenin and the Cultural Revolution. Sussex: Harvester Press, 1977. P. 271. Стоит отметить краткие реалистические образы, связанные с «митинговой демократией», поскольку это почти наверняка заимствовано из работы Розы Люксембург.
[410] См.: Harvey David. The Condition of Post-Modernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Basil Blackwell, 1989. P. 126. Харви объединял в качестве модернистов Ленина, Форда, Ле Корбюзье, Эбенезера Говарда и Роберта Мозеса.
[411] Фактически, конечно, нет рационального и эффективного решения любой проблемы этого вида, которое игнорирует человеческую субъективность. Эффективность проекта производства существенно зависит от того, принимают ли его рабочие. Рабочие-автомобилестроители, которые ненавидели «эффективную» сборочную линию в Лордсвилле, штат Огайо, работали на ней настолько плохо, что сделали ее неэффективной.
[412] Lenin. State and Revolution. P. 84—85 (курсив автора). Маркс, Энгельс и Ленин называли «люмпен-пролетариатом тех, кто не подчинялся дисциплине рабочего класса. Их презрение к деклассированным элементам было безграничным и аналогичным почти расистскому отношению викторианской элиты к «недостойным» беднякам.
[413] Stites. Revolutionary Dreams. P. 32.
[414] Ленин В.И. Аграрный вопрос и критики Маркса. Изд. 2-е. М.: Прогресс, 1976. Основные положения Ленина о сельском хозяйстве были разработаны намного раньше и описаныв 1889 г. в его книге «Развитие капитализма в России». Эта книга предсказала спонтанное развитие капитализма в сельской местности, чего не произошло. Важную работу, ревизующую марксистский анализ сельской России, см.: Shanin Teodor ed. Late Marx and the Russian Road: Marx and the Peripheries of Capitalism. New York: Monthly Review Press, 1983.
[415] Там же, p. 45.
[416] Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой Российской революции, 1905—1907. Изд. 2-е. М.: Прогресс, 1977. С. 70.
[417] Немецкие и австрийские школы эмпирических обзоров деятельности фермерских хозяйств были очень влиятельны на рубеже XX столетия. Этой традиции придерживался известный российский экономист А.В. Чаянов. Осторожный ученый, приверженец малой собственности (он написал на эту тему утопический роман) и советский служащий, он был арестован сталинской полицией в 1932 г. и, как полагают, казнен в 1936 г. Другой современный российский образец эффективности и интенсификации малых ферм Петр Маслов также спорил с позицией Ленина.
[418] Lenin, The Agrarian Question. P. 86.
[419] Там же.
[420] Подробную разработку см.: Coppersmith Jonathan. The Electrification of Russia, 1880—1926. Ithaca: Cornell University Press, 1992; Bailes Kendail. Technology and Society Under Lenin and Stalin: Origins of the Soviet Technical Intelligentsia. Princeton: Princeton University Press, 1978. Герберт Уэллс после посещения Советского Союза описал свои жаркие споры с Лениным в октябре 1920 г.: «Ленин как хороший ортодоксальный марксист, осуждающий весь „утопизм“, сам впал наконец в утопию, утопию электриков» (Russia in the Shadows. New York: George H. Doran, 1921. P. 158).
[421] Lenin. The Agrarian Question. P. 46. Сегодня легко забыть, как захватывало дух от электричества у тех, кто увидел его впервые. Владимир Маяковский, как сообщали, сказал: «После электричества я потерял интерес к природе» (Stites. Revolutionary Dreams. P. 52). Фактически для всех действий, упомянутых Лениным, трактор как подвижный источник энергии без линий передачи более практичен, чем электричество.
[422] Из доклада Ленина на VIII съезде Советов (22 декабря, 1920 г.) при учреждении Государственной Комиссии по Электрификации России (ГОЭЛРО). Приведено в: Tucker Robert C. ed. The Lenin Anthology. New York: Norton, 1975. P. 494.
[423] Централизация, которую электрификация делает возможной, подготавливает почву для крупномасштабных аварий. Практика этой технической централизации находится в почти комическом контрасте с тем, что она сулила. См. в качестве иллюстрации пример Филиппин при Маркосе: Otto van den Muijzenberg. As Bright Lights Replace the Kingke: Some Sociological Aspects of Rural Electrification in the Philippines», a также Margaret M. Skutsch et al., eds. Towards a Sustainable Development (в печати).
[424] Как можно было ожидать, аналогия между электрическим светом и «просвещением» народа часто использовалась в советской риторике, объединяя на деле большевистский технический проект с культурным. Ленин писал: «Для беспартийных масс крестьянства электрический свет — „неестественный“ свет; но мы считаем неестественным то, что крестьяне и рабочие должны были жить сотни и тысячи лет в такой отсталости, бедности и притеснении под хомутом землевладельцев и капиталистов... Мы должны преобразовать каждую электростанцию, включить ее в цитадель просвещения, которое нужно использовать, чтобы сделать массы сознательными по отношению к электричеству» (цит. по: Tucker. The Lenin Anthology. P. 495).
[425] Figes. Peasant Russia, Civil War. P. 67.
[426] И при этом он не отказывался от своей веры в важность насилия для обеспечения правления партии. В 1922 г., когда в провинциальной Шуе верующие устроили открытую демонстрацию против конфискации сокровищ церкви, Ленин приводил доводы в пользу массового возмездия. «Большинство их лучше расстрелять, — объявлял он. — Прямо сейчас мы должны преподать этой публике такой урок, чтобы в течение нескольких десятилетий они даже не смели думать о сопротивлении» (цит. по: Кеер John. The People’s Tsar // Times Literary Supplement. 1995. April 7. P. 30).
[427] Цит. по: Averich. Kronstadt, 1921. P. 224 (курсив Скотта).
[428] Luxemburg Rosa. Mass-Strike, Party, and Trade Unions, а также Organizational Questions of Russian Social Democracy // Dick Howard, ed. Selected Political Writings of Rosa Luxemburg. New York: Monthly Review Press, 1971. P. 223-270, 283-306; Luxemburg. The Russian Revolution // Mary-Alice Waters, ed. Rosa Luxemburg Speaks. New York: Pathfinder Press, 1970. P. 367-395. Интересно, сколько веры осталось бы у Люксембург, если бы она на деле пришла к власти в Германии. Но ясно, однако, что ее взгляд, когда она была вне власти, радикально отличается от взгляда Ленина, когда он был вне власти.
[429] Эльжбета Этингер говорит, что вероятным источником веры Люксембург в мудрость обычных рабочих была ее любовь к известному польскому поэту Адаму Мицкевичу, который прославлял понимание и творческий потенциал рядовых поляков. См.: Luxemburg Rosa. A Life. Boston: Beacon Press, 1986. P. 22—27.
[430] Luxemburg. Mass-Strike, Party, and Trade Unions. P. 229. Несмотря на отмежевание Люксембург от анархизма ее взгляды вполне сходятся с анархистским представлением о независимой, творческой роли рядовых людей в революции. См., например: Maximoff G.D. ed. The Political Philosophy of Bakunin: Scientific Anarchism. New York: Free Press, 1953. P. 289, где изложен взгляд Бакунина на ограничение лидерства Центральным Комитетом, служащий прототипом собственного скромного мнения Люксембург о роли Центрального Комитета.
[431] Такой анализ движения рабочего класса использован Люксембург в ее докторской диссертации 1898 г. «Индустриальное развитие Польши», которую она защитила в университете Цюриха. См.: Nettl J.P. Rosa Luxemburg. Vol. 1. London: Oxford University Press, 1966.
[432] Luxemburg. Mass-Strike, Party, and Trade Unions. P. 236.
[433] У Люксембург тоже было кое-что от эстетического свободного духа. Порицаемая своим возлюбленным и товарищем Лео Джогичем за мелкобуржуазные вкусыи желания, она защищала ценность частной жизни при посвящении себя революции. Ее порыв трогательно выразился в ее совете по поводу проекта спартаковской газеты «Красное знамя»: «Я не думаю, что газета должна быть симметричной, урезанной, как английская лужайка... Скорее, она должна быть несколько неприрученной, подобно дикому саду, должна ощетиниться жизнью и сиянием молодых талантов» (цит. по: Ettinger. Rosa Luxemburg. P. 186).
[434] Luxemburg. Organizational Questions. P. 291 (курсив Скотта).
[435] «Пробуждение революционной энергии рабочего класса в Германии никогда не может быть вызвано опекунскими методами немецкой социал-демократии плачевной памяти... [Революционная энергия может пробудиться] только при понимании всей пугающей серьезности, всей сложности относящихся к ней задач, только в результате политической зрелости и независимости духа, только в результате способности критического суждения со стороны масс, которая была систематически убиваема социал-демократией в течение десятилетий под различными предлогами» (Luxemburg. The Russian Revolution*. P. 369—370; курсив Скотта).
[436] Luxemburg. Mass-Strike, Party, and Trade Unions. P. 236.
[437] Там же, p. 237.
[438] Там же, p. 241.
[439] Там же, p. 241—242.
[440] Luxemburg. Organizational Questions. P. 306.
[441] Luxemburg. The Russian Revolution. P. 389. Постоянно подчеркивая этическую и идеалистическую сторону рабочего движения, Люксембург, вероятно, недооценила важность заботы о хлебе насущном. Такие заботы могли легко, по крайней мере в 1917 г., привести к революционному действию, сужая тем самым профсоюзное движение. Ни она, ни Ленин не имели уважения к материализму рабочего класса, который есть, например, в работе Orwell. Road to Wigan Pier or Down and Out in Paris and London. Если Ленин обращался с рабочими, как со школьниками-прогульщиками, нуждающимися постоянно в контроле и инструкции, то Люксембург, вероятно, пропустила среди других вещей их склонность к национализму и их случающуюся робость.
[442] Там же, p. 390. Ссылка на учебник — не шутка; современного наблюдателя социализма начала XX в. поражает то, как необычайно книжно и педагогически он развивался. Метафора классной комнаты преобладала в социалистических размышлениях, и формальное обучение было нормой. Люксембург потратила значительное время, проводя занятия и получая свидетельство об аттестации в высшей социал-демократической партийной школе.
[443] Там же (курсив Скотта). Ср. это с подходом итальянского анархиста Эррико Малатесты, который в 1907 г. заявил в своем произведении «Анархия», что, даже если правление благонамеренных авторитарных социалистов было бы возможно, это «очень уменьшило бы [производительные силы], потому что правительство ограничило бы инициативу очень немногим» (цит. по: Horowitz Irving Louis. The Anarchists. New York: Dell, 1964. P. 83).
[444] Luxemburg. The Russian Revolution. P. 391.
[445] Там же.
[446] Коллонтай, в отличие от многих других диссидентов, не была убита или сослана в трудовые лагеря. Она занимала ряд представительских и посольских постов, принятых ею со смутным пониманием, что таким образом затыкают рот ее критике. Farns-worth Beatrice. Alexandra Kollontai: Socialism, Feminism, and the Bolshevik Revolution. Stanford: Stanford University Press, 1980.
[447] Kollontai Alexandra. Selected Writings of Alexandra Kollontai, trans. Alix Holt. London: Allison and Busby, 1977. P. 178. Эссе Коллонтай «Рабочая оппозиция», из которого взята эта цитата, переиздано в переводе, сделанном в 1921 г., так как русский оригинал не найден.
[448] Там же, p. 183. Другим вопросом была проблема независимости семьи. Коллонтай убеждала советских матерей думать об их детях не как о «моих» или «ваших», но как о «наших» детях, детях коммунистического государства».
[449] Там же, p. 182 (выделено Коллонтай).
[450] Там же, p. 185.
[451] Там же, p. 191, 188, 190.
[452] Там же, p. 187.
[453] Там же, p. 187, 160.
[454] Proudhon Pierre-Joseph. Q’est-ce que c’est la propriete? Цит. по: Guerin Daniel. Anarchism: From Theory to Practice. New York: Monthly Review Press, 1970. P. 15—16.
[455] Может быть, точнее говорить, что общества, вероятно, характеризуются не только целями и действиями своих членов (включая, конечно, их сопротивление), но и результатами многих предыдущих государственных «проектов», каждый из которых заложил свой специфический геологический слой.
[456] Фраза взята из названия большой работы Elias Norbert. The Civilizing Process. Vol. 1. The History of Manners. New York: Pantheon, 1982. Она также применяется, как мыувидим, к самоописаниям модернизаторов вне Запада, которые реализовали эти схемы. См. также: Elias’. Power and Civility. Vol. 2. The History of Manners.
[457] См.: Von Thunen’s Isolated State. Oxford: Pergamon Press, 1966; G. William Skinner. Marketing and Social Structure in China. Tucson: Association of Asian Studies, 1975. Вальтер Кристаллер был основателем теории центрального места, разработанной в его диссертации, защищенной в университете Эрлангена в 1932 г.
[458] Передвижение по воде было гораздо легче, чем по суше, так что степень близости измерялась не физическим расстоянием, абстрактно измеренным, а «временем путешествия». Поскольку эти королевства традиционно торговали с дальними странами, они были таким образом заинтересованы в получении (часто в виде дани) не только зерна и трудовых ресурсов, но и выгодных товаров вроде драгоценных камней, драгоценных металлов, лекарств и смол, которые больше подходили для торговли на больших расстояниях.
[459] Иллюстрацию этого можно видеть в следующем замечании, направленном королю Наратихапат от королевы Со, заимствованном из The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma / Trans. Pe Maung Tin and G. H. Luce. London: Oxford University Press, 1923. P. 177: «Посмотри на состояние твоего царства. У тебя нет никакого народа, никаких хозяев-крестьян и крестьянок вокруг тебя... Твои крестьяне и крестьянки останавливаются и не входят в твое королевство. Они боятся твоей власти; для тебя, о король Алаунг, искусство — трудное дело». Классический анализ явления в Юго-Восточной Азии можно найти в Adas Michael. From Avoidance to Confrontation: Peasant Protest in Pre-Colonial and Colonial Southeast Asia // Comparative Studies in Society and History. 1981. Vol. 23, №2. P. 217-247. Прибрежные и речные поселения могли, как считают, «голосовать веслами».
[460] Проблема уменьшения населения вряд ли уникальна для Юго-Восточной Азии. В конце XIV и XV в., после того, как «Черная смерть» (чума) уменьшила население Западной Европы почти на треть, дворянство стояло перед серьезной проблемой привлечения рабов на благоприятных условиях — теперь, когда они могли так легко бежать и занять земли, оставленные погибшими от чумы. Рабовладельческие государства с открытыми границами всегда были уязвимы на этот счет; перед Гражданской войной в Соединенных Штатах рабы могли бежать на Север, Канаду или в «свободные государства» Запада. В России большинство царских указов касалось беглых рабов. Вообще, везде, где есть открытая граница, несвободные формы рабочей силы трудно удержать без использования достаточной степени принуждения.
[461] Эта логика лучше всего подходит для внутренних (kraton-стиля) королевств. Она нарушается всякий раз, когда имеются стратегические местоположения, функционирующие как естественные монополии, или особые точки, контроль над которыми может служить основанием для присвоения. Я имею в виду контроль над речными дельтами (hulu-hilir различение в малайзийском мире), проливами, туннелями или залежами природных ископаемых.
[462] Абстрагируясь от Юго-Восточной Азии, можно сказать, что формированию государства содействует сконцентрированное, интенсивное земледелие; население, которое последовательно производит прибавочный продукт и считает дорогостоящим покидать государство; производящее такие товары, которые легко запасти и переместить (например, зерно) и имеют относительно высокую стоимость на единицу объема и массы.
[463] Живущие в таких местах, конечно, видели проблему по-другому: для них их свобода, мобильность и достоинство были дороже. Вспоминается и афганская пословица: «Налоги ели долины; честь жила на горах».
[464] Один из лучших способов представить себе такие места — посмотреть, где крепостные и беглые рабы основывали общины марунов. Эти-то места, которые власти пытались уничтожать, насколько это было возможно, и были негосударственными. Показательный пример: на послевоенном Юге Соединенных Штатов были затрачены огромные усилия, чтобы ликвидировать большое общество чернокожих, свободные члены которого, желая существовать независимо, торговали бывшими рабами, часто продавая их прежним владельцам. Большинство освобожденных предпочли неопределенный образ жизни, добывая пропитание сельским хозяйством, ловлей рыбы, охотой или выпасом домашних животных на свободной земле, подчиненному положению постоянной рабочей силы за заработную плату. Был разработан ряд запретов и законов против нарушений границы, правил охоты и расставления силков, выпаса скота, бродяжничества и т. д. См.: Hahn Hunting, Fishing, and Foraging: Common Rights and Class Relations in the Post-Bellum South // Radical History Review. 1982. Vol. 26. P. 37-64.
[465] Чтобы это не показалось географическим детерминизмом, позвольте мне подчеркнуть, что человеческий фактор играет огромную роль в создании и поддержании неподконтрольного пространства. В пределе даже части больших городов могут выйти из-под юрисдикции государства, уступая контроль мятежному или сопротивляющемуся населению.
[466] Цель, связанная с лишением мератус «своего» леса, состояла в том, чтобы сделать землю более доступной государству для включения в заготовку леса и доходные планы.
[467] Anna Lowenhaupt Tsing. In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place. Princeton: Princeton University Press, 1993. P. 28, 41.
[468] Там же, p. 48, 93.
[469] Я вспоминаю вид таких поселений в филиппинских провинциях Тарлак и Пангасинан, где на фасаде каждого дома большими буквами были написаны имена и возраст всех членов семьи, позволяя силам безопасности при ночном патрулировании легко выявлять неправомочных посетителей.
[470] Только что срубленный сахарный тростник должен быть быстро измельчен, чтобы избежать потерь от выпаривания и брожения. Потребность в большом измельчительном заводе (часто называемом, по понятной причине, сахарным централом), проблемы, связаиные с транспортированием тростника, и большое сокращение объема при обработке создают своего рода естественное узкое место, которое позволяет владельцу завода управлять производством непосредственно или через контракты. По сравнению с кофе, табаком, чаем, каучуком или пальмовым маслом сахарный тростник по этому показателю уникально подходит для централизованного производства.
[471] Трудности вербовки малайцев, независимых земледельцев, на работу на плантациях, преодолеть не удалось и в результате оказалось более удобным ввозить индийских и китайских рабочих ввиду возрастающей потребности плантаций в рабочей силе. Один этот факт говорил в пользу плантаций, колонизаторыне хотели рисковать, создавая класс импортированных мелких землевладельцев, которые стали бы конкурировать с малайцами за землю. В других местах пробовались другие решения для создания четкой сферы присвоения. На острове Ява от жителей деревни требовали вместо налогов сажать на экспорт нужные культуры. Там, где было необходимо превратить экономически независимых крестьян в поденщиков или заставить их работать на плантации, считалось полезным взимать универсальный ежегодный подушный налог в наличных деньгах.
[472] Таким образом, справедливо безнравственное, но социологически корректное наблюдение Сэмюэла Хантингтона во время вьетнамской войны: массивная бомбежка сельской местности и последующая организация огромных поселений беженцев в предместьях главных городов создает много преимуществ для тех, кто хочет влиять на электорат. В лагерях, рассуждал он, легче манипулировать людьми, чем в сельских общинах. Неявная, но жуткая логика была безупречна: чем больший бомбовый дождь шел над сельской местностью, тем больше возможностей для Соединенных Штатов и их союзников в Сайгоне доминировать над любым мирным избирательным соревнованием. (По докладу Хантингтона «Подготовка политического соревнования на юге Вьетнама», представленному в консультативную группу Общества Азии около 1970 г.) Я полагаю, что такая логика социальной обездвиженности — ключевой элемент в повсеместно наблюдаемом факте: в начале индустриализации более вероятно, что источником коллективного протеста и будет сопротивляющееся сельское сообщество, а не только формирующийся пролетариат, несмотря на противоположные рассуждения стандартных марксистов. Принудительное или добровольное переселение уничтожает предшествующее сообщество и заменяет его разъединенной массой мигрантов. По иронии истории, такое население больше напоминает «картофель в мешке», чем крестьянство bocage, описанное Марксом в «Восемнадцатом брюмере Луи Бонапарта».
[473] Вероятно, лучшим источником для обсуждения советского высокого модернизма является Stites Richard. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. New York: Oxford University Press, 1989. Его щедрая библиография, кажется, охватывает большинство доступных источников.
[474] Этот вывод, мы знаем, не искажает доктрину либерализма. Дж. С. Милл, чья репутация либерального сына Просвещения вне сомнения, рассматривал отсталость как достаточное оправдание, чтобы отдать авторитарные полномочия в руки модернизатора.. См.: Gellner Ernest. The Struggle to Catch Up // Times Literary Supplement. 1994. Dec. 9. P. 14. Более детальную аргументацию см. также: Jan P. Nederveen Pietrse and Bhikhu Parekh, eds. The Decolonization of the Imagination: Culture, Knowledge, and Power. London: Zed Press, 1995.
[475] Stites. Revolutionary Dreams. P. 19. Энгельс выражал свое презрение к подобным коммунистическим утопическим системам, называя их «барачным коммунизмом».
[476] Можно сказать, что Екатерина Великая, немка по происхождению, ведя энергичную переписку с несколькими энциклопедистами, включая Вольтера, была достойна своей страсти к рациональному порядку.
[477] Fitzpatrick Sheila. The Russian Revolution. Oxford: Oxford University Press, 1982. P. 119. Термин «гигантомания», я полагаю, был также в ходу в Советском Союзе. Окончательный провал большинства «великих» начинаний в СССР — само по себе важная история, значение которой было язвительно схвачено Робертом Конквестом, отметившим, что «конец холодной войны можно выразить как поражение, нанесенное Магнитогорску Силиконовой долиной» (Party in the Dock // Times Literary Supplement. 1992. Nov. 6. P. 7). Индустриальную, культурную и социальную историю Магнитогорска см. в Kotkin Stephen. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press, 1995.
[478] Интересную параллель можно провести с французской сельской местностью после революции, откуда доносились призывык «дехристианизации» и предложения ввести аналогичные светские ритуалы.
[479] Stites. Revolutionary Dreams. P. 119. См. также: Vera Sandomirsky Dunham. In Stalin’s Time: Middle-Class Values in Soviet Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 1976 о том, как при Сталине этот аскетизм превратился в богатство.
[480] Stites. Festivals of the People. Chap. 4. Revolutionary Dreams. P. 79-97.
[481] Там же, p. 95. Благодаря фильмам Сергея Эйзенштейна, эти разыгранные актерами театральные сцены стали как бы фактом в сознании тех, кто не принимал участия в революции.
[482] Ожидалось, что композиторы и кинорежиссеры будут «инженерами человеческих душ».
[483] Цит. по: Stites. Revolutionary Dreams. P. 243.
[484] Ленин, конечно, под влиянием своей любимой книги «Город Солнца» Кампанеллы, хотел, чтобы по всему городу были воздвигнуты скульптуры революционеров с вдохновляющими надписями. См.: Lunacharsky Anatoly. Lenin and Art // International Literature. 1935. 5 Мау. P. 66—71.
[485] Stites. Revolutionary Dreams. P. 242.
[486] Изложенное здесь целиком основано на гл. 2, 4 и 6 из еще не опубликованной замечательной книги Деборы Фицджералд Yeoman No More: The Industrialization of American Agriculture, которой я очень обязан. Главы и номера страниц относятся к рукописи.
[487] Как подчеркивали многие комментаторы, это перепроектирование процессов работы вырвало контроль над производством из рук квалифицированных рабочих и отдало его в руки управленцев, чьи ранги и прерогативы росли, так как рабочая сила была «деквалифицирована».
[488] Fitzgerald. Yeoman No More. Chap. 2. P. 21.
[489] Около 1920 г. многое из того, что предлагали на рынке сельскохозяйственных машин американские промышленники, изготавливалось не в Соединенных Штатах, где размеры ферм были все еще относительно маленькие, а именно вне страны, в таких странах, как Канада, Аргентина, Австралия и Россия, где фермыбыли значительно большие. Там же, p. 31.
[490] Превосходный и более полный рассказ о предприятии Кемпбелла см. там же: The Campbell Farm Corporation. Chap. 5. Здесь стоит добавить, что экономическая депрессия в сельском хозяйстве Соединенных Штатов началась в конце Первой мировой войны, а не в 1930 г. Время, таким образом, созрело для самых смелых экспериментов, а затраты на покупку или аренду земли были незначительны.
[491] В терминологии, которая будет развита в этой главе позже, пшеница и лен — «пролетарские» культуры в противоположность «мелкобуржуазным».
[492] Fitzgerald. Yeoman No Моге. Chap. 4. P. 15—17.
[493] См. комментарии 14 и 18.
[494] Другой такой фермой, непосредственно связанной с экспериментированием Нового Дела в 1930-е годы, была корпорация ферм «Фэйруэй». Основанная в 1924 г. Л. Уилсоном и Генри К. Тейлором, которые изучали экономику в университете Висконсина, корпорация была предназначена превратить безземельных фермеров в ученых индустриального толка. Капитал для нового предприятия предоставил через посредников Джон Д. Рокефеллер. Фермы «Фэйруэй» должны были стать моделью для более амбициозных сельскохозяйственных программ Нового Дела Уилсона, Тейлора и многих их прогрессивных коллег в Висконсине, занимавших влиятельные позиции в Вашингтоне при Рузвельте. Большее число сведений по поводу этого вопроса находится в неопубликованной статье 1995 г. Gilbert Jess and Baker Ellen R. Wisconsin Economists and New Deal Agricultural Policy: The Legacy of Progressive Professors. 1920-e годы были благоприятными для сельскохозяйственного экспериментирования частично потому, что резкий экономический спад спроса на сельскохозяйственные предметы потребления после Первой мировой войны пробудил политические инициативы, предназначенные облегчить кризис.
[495] Fitzgerald. Yeoman No More. Chap. 4. P. 18—27. Рассказ об индустриальном хозяйствовании в Канзасе и его связи с экологическим бедствием, известным как пылевой шар, см.: Worster Donald. Dust Bowl: The Southern Plains in the 1930s. New York: Oxford University Press, 1979.
[496] Fitzgerald. Yeoman No More. Chap. 4. P. 33. Схему плана можно найти в Ezekial Mordecai and Johnson Sherman. Corporate Farming: The Way Out? // NewRepublic. 1930. June 4. P. 66-68.
[497] Gold Michael. Is the Small Farmer Dying? // NewRepublic. 1931. Oct. P. 211, цит. по: Fitzgerald. Yeoman No More. Chap. 2. P. 35.
[498] Там же. Chap. 6. P. 13. См. также: Fitzgerald Deborah. Blinded by Technology: American Agriculture in the Soviet Union, 1928-1932 // Agricultural History. 1996. Vol. 70. №3. (Summer) P. 459—486.
[499] Восторженными визитерами были Джон Дьюи, Линкольн Стивенс, Рексфорд Тагуэлл, Роберт ЛаФоллетт, Моррис Ллевеллин Кук (в то время видный специалист по научному управлению в Соединенных Штатах), Турман Арнольд, и, конечно, Томас Кемпбелл, который назвал советский эксперимент «самой большой историей сельского хозяйства, какую мир когда-либо слышал». Типичной похвалой советских планов прогрессивной, модернизированной сельской жизни была оценка, данная Белл ЛаФоллетт, женой Роберта ЛаФоллетт: «Если бы Советы могли придерживаться своего пути, вся земля обрабатывалась бы тракторами, все деревни освещались бы электричеством, каждая деревня имела бы большой дом, служащий одновременно школой, библиотекой, залом для собраний и театром. Они имели бы все удобства и преимущества, которые они планировали для индустриальных рабочих в городе» (Цит. по: Feuer Lewis S. American Travelers to the Soviet Union, 1917-1932: The Formation of a Component of New Deal Ideology // American Quarterly. 1962. Vol. 14 [Spring]. P. 129). См. также: Caute David. The Fellow Travellers: Intellectual Friends of Communism, rev. ed. New Haven: Yale University Press, 1988.
[500] Feuer. American Travelers to the Soviet Union. P. 119-149, цит. по: Fitzgerald. Yeoman No More. Chap. 6. P. 4.
[501] Fitzgerald. Yeoman No More. Chap. 6. P. 6.
[502] Там же, p. 37.
[503] Там же, p. 14.
[504] Там же, p. 39 (курсив Скотта).
[505] Цит. по: Conquest Robert. The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine. New York: Oxford University Press, 1986. P. 232. Более явное признание, что это было именно «войной», содержится в заявлении М.М. Хатеевича: «Между крестьянством и нашим режимом происходит безжалостная борьба — борьба не на жизнь, а на смерть. Этот год был испытанием нашей силы и их выносливости. Нужен голод, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но колхозная система здесь осталась, мы выиграли войну» (цит. там же, p. 261).
[506] Годы так называемого «большого скачка» в Китае были во всяком случае смертельными, и могут анализироваться в сопоставимых терминах. Я хотел сфокусировать внимание на Советской России в значительной степени потому, что там подобные события произошли приблизительно за тридцать лет до «большого скачка» и, следовательно, получили намного больше академического внимания, особенно в течение прошлых семи лет, когда недавно открывшийся Российский архив очень расширил наши знания. Недавнее популярное изложение китайского опыта см.: Becker Jasper. Hungry Ghosts: China’s Secret Famine. London: John Murray, 1996.
[507] На государственных фермах и в показательных проектах урожаи были высокими, но они обычно достигались столь дорогостоящими затратами на машины, удобрения, пестициды и гербициды, что результаты были экономически иррациональны.
[508] Проницательный отчет о коллективизации и ее результатах см.: Lewin Moshe. The Making of the Soviet System: Essays in the Social History of Interwar Russia. New York: Pantheon, 1985, особенно pt 2, p. 89-188.
[509] Я определяю термином «деклассированный» огромное и разнообразное население переменной занятости. Хотя Маркс и Ленин всегда использовали этот термин презрительно, подразумевая под ним преступные тенденции и политический оппортунизм, я не имею в виду ничего подобного.
[510] Сталин, как теперь известно, был лично ответствен за составление в августе 1932 г. секретного декрета, клеймящего «врагами народа» всех тех, кто отказался сдать зерно, объявленное теперь «священной и неприкасаемой» государственной собственностью, и распорядился их быстренько арестовать и расстрелять. Тот же самый Сталин на Втором съезде колхозных ударников в 1935 г. отстаивал сохранение нормальных частных участков: «Большинство колхозников хочет растить сад, выращивать огород или держать пчел. Колхозники хотят жить приличной жизнью, и для этого 0,12 гектаров недостаточно. Мы должны дать от четверти до половины гектара, а в некоторых районах даже до одного гектара» (цит. по: Fitzpatrick Sheila. Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village After Collectivization. New York: Oxford University Press, 1995. P. 73, 122).
[511] Там же, p. 432.
[512] Figes Orlando. Peasant Aspirations and Bolshevik State-Building in the Countryside, 1917—1925 (статья представлена в программу аграрного саминара) // Yale University, New Haven. 1995. April 14. P. 24. Фиджес также связывает эти представления с социалистическими трактатами, датированными по крайней мере 1890-ми годами, которые объявляли крестьянство обреченным классом в результате наступления экономического прогресса (p. 28).
[513] Davies R.W. The Socialist Offensive: The Collectivisation of Soviet Agriculture, 1929-1930. London: Macmillan, 1980. P. 51.
[514] Conquest. Harvest of Sorrow. P. 43.
[515] Кроме того, крах городских предприятий, которые обычно снабжали сельские районы потребительскими товарами и орудиями труда, означал, что крестьяне больше не имели стимула продавать зерно, чтобы делать покупки на рынке.
[516] См. замечательно проницательную и подробную книгу Orlando Figes. Peasant Russia, Civil War: The Volga Countryside in Revolution, 1917—1921. Oxford: Clarendon Press, 1989. Даже неудавшиеся революции создают подобный вакуум. После революции 1905 г. царскому правительству потребовалось почти два года, чтобы восстановить контроль над сельской местностью.
[517] Относительное единство деревни было еще усилено революционным процессом. Самые богатые владельцы уехали, их усадьбы были сожжены, а беднейшие семьи получили землю. В результате сельские жители стали социально и экономически более подобны и потому с большей вероятностью одинаково отвечали на внешние требования. Так как на многих независимых фермеров оказывалось давление с целью загнать их в коммуну, они теперь зависели от всей деревни при общественных земель для их хозяйств. Таким образом, нетрудно понять, почему там, где инструментом большевистской политики были комбеды, они стояли в определенной оппозиции к остальным представителям советской деревни. «Один правительственный чиновник в Самарской области заявил с осознанной иронией, что конфликты между комбедами и Советами представляли собой главную форму «классовой борьбы» в сельских районах в течение этого периода» (там же, p. 197). В больших деревнях некоторую поддержку аграрным планам большевиков могли оказать образованная молодежь, школьные учителя и бывшие солдаты, ставшие большевиками во время Первой мировой войны или в Гражданскую войну (те, кто мог бы занять ведущие роли в новых колхозах). См. Figes. Peasant Aspirations and Bolshevik State-Building.
[518] Имелась также тенденция скрывать доход от ремесел, побочных занятий вроде торговли и выращивания огородных культур. Надо добавить, что в течение этого же периода недостаточность ресурсов — рабочей и тягловой силы, удобрения и семян — не позволяла вспахать всю землю и потому урожаи были далеки от обычных.
[519] Yaney. The Urge to Mobilize. P. 515—516. Для Йени поразительно сходство стремлений тех, кого он называет «мессианские социальные агрономы» при царском режиме, до большевистских коллективизаторов. В нескольких случаях это были те же самые люди.
[520] Figes. Peasant Russia, Civil War. P. 250.
[521] Голод и отток из городов уменьшили число городских индустриальных рабочих от 3,6 млн в 1917 г. до менее 1,5 млн в 1920 г. (Fitzpatrick. The Russian Revolution. P. 85).
[522] Figes. Peasant Russia, Civil War. P. 321.
[523] Цит. по: Fitzpatrick. Stalin’s Peasants. P. 39.
[524] В теории, по крайней мере, наиболее «передовыми» были государственные фермы — пролетаризированные, индустриальные совхозы, в которых рабочим платили заработную плату и не позволялись никакие частные участки. В ранние годы эти фермы также получали большую долю государственной инвестиции в машинах. Производственную статистику см.: Davies. The Socialist Offensive. P. 6.
[525] Там же, p. 82—113.
[526] Fitzpatrick. Stalin’s Peasants. P. 4.
[527] Conquest. Harvest of Sorrow. P. 183.
[528] Платонов Андрей. Chevengur / Trans. Anthony Olcott. Ann Arbor: Ardis, 1978.
[529] Hindus M. Red Breed. London, 1931. Цит. по: Davies. The Socialist Offensive. P. 209.
[530] Davies. The Socialist Offensive. P. 205.
[531] Даже по американским стандартам в течение всего советского периода размер колхозов оставался огромным. Фред Прайор вычисляет, что в 1970 г. средний совхоз содержал больше 100 тыс. акров, в то время как средний колхоз — более, чем 25 тыс. акров. Совхозам в первую очередь предоставлялись машины и другие субсидии. См.: Pryor Frederick. The Red and the Green: The Rise and Fall of Collectivized Agriculture in Marxist Regimes. Princeton: Princeton University Press, 1992. Tab. 7. P. 34.
[532] Fitzgerald. Stalin’s Peasants. P. 105.
[533] Там же, p. 105—106. Можно допустить, что состояние почвы и существующие приемы сбора урожая также игнорировались.
[534] Большевики объяснили, что «колхозы — единственные средства, с помощью которых крестьянство может уйти от бедности и темноты» (Davies. The Socialist Offensive. P. 282). Возможно, наилучшие визуальные образы культурно преобразующих свойств электричества, машин и коллективизации найдены в фильме Сергей Эйзенштейна «Генеральная линия», поистине технологическом гимне сельской России. Фильм мастерски передает утопические стремления высокого модернизма, противопоставляя темный народ с его лошадью и косой образам электрических сепараторов, тракторов, комбайнов, машин, небоскребов, двигателей и самолетов.
[535] Fitzpatrick. Stalin’s Peasants. P. 194.
[536] Там же, p. 306—309.
[537] Рассказ о том, как более необычайная версия региональной специализации была навязана китайскому селу в нарушение всех местных почвенных и климатологических условий см.: Thaxton Ralph. Salt of the Earth: The Political Origins of Peasant Protest and Communist Revolution in China. Berkeley: University of California Press, forthcoming.
[538] Figes. Peasant Russia, Civil War. P. 304. Аналогия принимала конкретную форму во многих из ранних восстаний против коллективизации, когда крестьяне уничтожили все записи о рабочей силе, поставках урожая, долгах и т. д. — так же, как это было при крепостничестве.
[539] Conquest. Harvest of Sorrow. P. 152.
[540] Сходство с крепостничеством более детально разъяснено в Fitzgerald. Stalin’s Peasants. P. 128—139. Осторожное и информированное обсуждение крепостничества и сравнение с рабством см.: Kolchin Peter. Unfree Labor: American Slavery and Russian Serfdom. Cambridge: Harvard University Press, 1987.
[541] Проницательное изложение советским журналистом и активным участником кампании в защиту прав человека в 1980-е годы, указывающее, что основной рисунок не очень изменился, см.: Timofeev Lev. Soviet Peasants, or The Peasants’ Art of Starving / Trans. Jean Alexander и Alexander Zaslavsky, ed. Armando Pitassio u Alexander Zaslavsky. New York: Telos Press, 1985.
[542] В этом меня убедили исторические отчеты, характеризующие мир как орган адаптации крестьянства к дворянству и государству, которые обращаются с ним как с коллективной единицей налогообложения, воинской повинности и некоторых других форм рабских обязанностей. Периодическое перераспределение земли среди хозяйств гарантировало всем наличие средств платежа их доли подушных налогов, которым облагалась коммуна. То есть сама по себе относительная солидарность региональной российской коммуны объясняется свойственной ей историей отношений с повелителями. Это согласуется с тем фактом, что подобная солидарность здесь и теперь может служить совершенно другим целям, включая сопротивление.
[543] Fitzgerald. Stalin’s Peasants. P. 106 (курсив Скотта).
[544] Я очень благодарен моему коллеге Теодору Шанину и его команде исследователей, которые сравнивают деятельность более двадцати колхозов, за предоставление карты и фотографий для этой главы. Особая благодарность Галине Ястребинской и Ольге Субботиной за фотографии старой деревни Уткино, основанной в 1912 г. и расположенной в 20 милях от Вологды.
[545] Заметим, что старые здания, которые не были перемещены (позиция 12 на рис. 28), сами размещаются на приблизительно одинаковых участках по главной дороге. Я не знаю, имелись ли административные причины этому в XVIII в., когда была основана деревня, или сами первоначальные поселенцы так разметили план. Как были первоначально расположены старые здания, которые были перемещены, неизвестно.
[546] Та же самая логика, конечно, прилагалась и к промышленности, в которой большие фабрики предпочитались маленьким или ремесленному производству. Как замечает Джеффри Сакс, «центральные планировщики не имели никакого желания координировать действия сотен или тысяч маленьких фирм в данном секторе, если одна большая фирма могла бы сделать всю работу. Стандартная стратегия поэтому состояла в том, чтобы создавать одну гигантскую фирму везде, где только возможно» (Poland’s Jump into the Market Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1993). B контексте советской экономики самой большой индустриальной единицей был огромный металлургический комплекс в Магнитогорске. Теперь это — ошеломляющий пример индустриального и экологического крушения. См. также: Kotkin. Magnetic Mountain.
[547] Подробное изложение экологического влияния на советское сельское хозяйство см.: Feshbach Murray. Ecological Disaster: Cleaning Up the Hidden Legacy of the Soviet Regime. New York, 1995; Wolfson Ze’ev (Boris Komarov). The Geography of Survival: Ecology in the Post-Soviet Era. New York: M. E. Sharpe, 1994.
[548] В 1990 г. в течение шести недель я работал на кооперативной (бывшей коллективной) ферме в Восточной Германии, на Мекленбургской равнине, не слишком далеко от Бранденбурга. Местные чиновники гордились своими урожаями ржи и картофеля с высоким содержанием крахмала, которые выращивали для индустриального использования. Однако было ясно, что с экономической точки зрения рыночная стоимость затрат (рабочая сила, машины и удобрение), необходимых для достижения этих урожаев, делало это предприятие неэффективным производителем при любой стандартной стоимости.
[549] Нет никаких сомнений, что множество бюрократических «патологий» усилило бедствия советской коллективизации. Это и тенденции администраторов концентрироваться на определенных измеримых результатах (например, урожаях зерна, тоннах картофеля и тоннах чугуна), а не на качестве, и тот факт, что чиновников от тяжелых последствий их ошибок отделяли длинные административные цепочки. Также играла роль трудность воспитания чиновников, которые отвечали бы перед своей клиентурой, а не перед высшим начальством. Все это привело к необузданности «начальников», с одной стороны, и коррупции и корысти подчиненных, с другой. Таким образом, высокомодернистские схемы в революционном авторитарном исполнении, как это было в Советском Союзе, заходят дальше и остаются на этом пути дольше, чем при парламентском строе.
[550] Натиск коллективизации был на мгновение приостановлен Сталиным в марте 1930 г. известной статьей «Головокружение от успехов», которая побудила многих крестьян оставить колхозы; однако вскоре после этого темп коллективизации вновь ускорился. Чтобы иметь достаточно капитала для быстрой индустриализации, в 1930 г. экспортировалось 4,8 млн т зерна, а в 1931 г. — 5,2 млн т, чем была создана база для жестокого голода сразу после этого. См.: Lewin. The Making of the Soviet System. P. 156.
[551] Сравните это с прогнозом Бакунина о том, что будет при государственном социализме: «Они сконцентрируют все полномочия правительства в сильных руках, поскольку сам факт, что люди по преимуществу невежественны, требует пристальной заботы правительства. Они создадут единственный государственный банк, концентрирующий в своих руках весь коммерческий, индустриальный, сельскохозяйственный и даже научный потенциал, и будут делить массы людей на две армии — индустриальные и сельскохозяйственные под непосредственной командой государственных инженеров, которые составят новый привилегированный научно-политический класс» (цит. в: Maximoff W.D. The Political Philosophy of Bakunin: Scientific Anarchism. New York: Free Press, 1953. P. 289).
[552] Термин «избирательное сродство» берет начало из анализа Макса Вебера отношений между капиталистическими нормами и учреждениями, с одной стороны, и протестантством, с другой. Его аргументы не обосновывают прямую причинную обусловленность, но «подходят» и для симбиоза.
[553] См.: Gabriel Ardant. Theorie sociologique de I’impot. Vol. 2, books 4 and 5. Paris: Cevpen, 1965.
[554] Цит. по: Crozier Michel. The Bureaucratic Phenomenon. Chicago: University of Chicago Press, 1964. P. 239. Как отметил Абрам Сваан, «школьный режим XIX в. демонстрирует некоторые безошибочные аналогии с фабричным режимом того времени: стандартизация, формализация и требования точности и дисциплины являлись первостепенными в обоих режимах» (In Care of the State, p. 61).
[555] Подробный учет отношений между частным участком и коллективным полем по 1989 г. см.: Timofeev. Soviet Peasants, or The Peasants’ Art of Starving.
[556] Джулиус Ньерере говорил, что более 9 млн людей были переселены в деревни уджамаа, но многие из этих поселений были административными фикциями, а другие существовали ранее и были, вероятно, включены в правительственную статистику из самохвальства, вероятно, ближе к правде более скромное число. См.: Hyden Goran. Beyond Ujamaa in Tanzania: Underdevelopment and an Uncaptured Peasantry. Berkeley: University of California Press, 1980. P. 130.
[557] В течение своего президентства Ньерере посетил почти все страны социалистического блока. Обзор вдохновленных марксизмом планов развития третьего мира см.: Colburn Forrest D. The Vogue of Revolution in Poor Countries. Princeton: Princeton University Press, 1994.
[558] Заинтересованный критический анализ, сфокусированный на возвращении к малому масштабу и к механизации в сельском хозяйстве на примере пяти таких проектов см.: Johnson Nancy L. and Ruttan Vernon W. Why Are Farms So Small? // World Development. 1994. Vol. 22. №5. P. 691—706.
[559] Во многих случаях, как отмечалось, эти влияния были совершенно прямые, даже личные: в Организации по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, в Международном банке реконструкции и развития, Всемирном банке и Агентстве развития Организации Объединенных Наций служили американские экономисты, агрономы, инженеры и чиновники.
[560] См., например: Cliffe Lionel and Cunningham Griffiths L. Ideology, Organization, and the Settlement Experience of Tanzania // Lionel Cliffe and John S. Saul, eds. Policies. Vol. 2. Socialism in Tanzania: An Interdisciplinary Reader. Nairobi: East African Publishing House, 1973. P. 131—140.
[561] Cliffe Lionel. Nationalism and the Reaction to Enforced Agricultural Change in Tanganyika During the Colonial Period // Lionel Cliffe and John S. Saul, eds. Politics. Vol. 1. Socialism in Tanzania: An Interdisciplinary Reader. Nairobi: East African Publishing House, 1973. P. 18, 22. Блестящий анализ, касающийся отношений крестьян с государством, см.: Feierman Steven. Peasant Intellectuals: Anthropology and History in Tanzania. Madison: University of Wisconsin Press, 1990.
[562] Beinert William. Agricultural Planning and the Late Colonial Technical Imagination: The Lower Shire Valley in Malawi, 1940—1960 // Malawi: An Alternative Pattern of Development, proceedings of a seminar held at the Centre of African Studies. University of Edinburgh, 1984. May 14 and 25. Edinburgh: Centre of African Studies, University of Edinburgh, 1985. P. 95-148.
[563] Там же, p. 103.
[564] Как объясняет Бейнерт, такие системычасто включают «систему осушения, контуры дамб, борозды, защитные насыпи, обязательное травяное покрытие, восстанавливающие культурыи, в конечном счете, полную систему севооборота» (там же, p. 104).
[565] В этом смещении нет ничего странного, оно происходит почти подсознательно. «Представление» о сельском хозяйстве формируется определенными, исторически сложившимися чертами, которые практически забываются, пока визуальные ожидания не опрокидываются. Например, во время первого посещения северной Богемии перед 1989 г. я был ошеломлен огромными коллективными полями кукурузы, которые тянулись на две или три мили, не прерываясь заборами или полосками деревьев. Я понял, что мои визуальные ожидания от сельской местности включали физические свидетельства мелких частных деталей: деревья, заборы, маленькие и неупорядоченные участки — физические особенности независимого фермерского хозяйства. (Если бы я рос, скажем, в Канзасе, я не был бы так удивлен.)
[566] Beinert. Agricultural Planning. P. 113.
[567] Исключительно проницательное рассмотрение различий между географией традиционных жилищ и декартовской логикой колониального планирования в Южной Африке, см.: Hofmyer Isable. They Spend Their Lives as a Tale That Is Told. Portsmouth, N.H.: Heinemann, 1994.
[568] Там же, p. 138—139.
[569] Об этом см., например: Phillips J. Agriculture and Ecology in Africa. London: Faber and Faber, 1959; Samuel F. East African Groundnut Scheme // United Empire. 1947. №38 (May—June) P. 133-140; Voll S.P. A Plough in Field Arable. London: University Presses of New England, 1980; Wood Alan. The Groundnut Affair. London: Bodley Head, 1950; Johnson and Ruttan. Why Are Farms So Small? P. 691—706; Coulson Andrew. Agricultural Policies in Mainland Tanzania // Review of African Political Economy. 1977. №10 (September—December). P. 74—100.
[570] Coulson. Agricultural Policies in Mainland Tanzania. P. 76.
[571] Johnson and Ruttan. Why Are Farms So Small? P. 694. Несмотря на девиз Сэмюэля, пришлось нанять на работу 32 тыс. африканцев.
[572] Постоянное поселение было также краеугольным камнем колониальной политики в отношении здоровья и ветеринарии в Танганьике. В этом контексте см.: Hoppe Kirk Arden. Lords of the Flies: British Sleeping Sickness Policies as Environmental Engineering in the Lake Victoria Region, 1900—1950 // Working Papers in African Studies. Boston: Boston University African Studies Center, 1995. №203.
[573] Hyden Goran. Beyond Ujamaa in Tanzania. London: Heineman, 1980.
[574] Во время борьбы за независимость и сразу после нее крестьяне разрушили террасы, которые им приказали строить, и отказались от обработки скота. См.: Coulson Andrew. Tanzania: A Political Economy. Oxford: Clarendon Press, 1982. P. 117.
[575] Из инаугурационного обращения президента (10 декабря 1962 г.), опубликованого в Nyerere Julius K. Freedom and Unity: A Selection from Writings and Speeches, 1952-1965. London: Oxford University Press, 1967. P. 184. Моим ранним погружением в танзанийский материал я многим обязан исключительно проницательному антропологическому эссе Хизы Джоуля Гао. The Repetition of “Traditional” Mistakes in Rural Development: Compulsory Villagization in Tanzania. April 1993 и его неоценимой библиографической помощи. Он неизменно щедро делился своими аналитическими суждениями и литературными рекомендациями.
[576] Nyerere Julius K. Socialism and Rural Development (September 1967) // Nyerere, Freedom and Socialism: A Selection from Writings and Speeches, 1965—1967. Dar es Salaam: Oxford University Press, 1968. P. 365. Стоит отметить, что отмена индивидуального земельного права вскоре после независимости была одной из юридических предпосылок для принудительной виллажизации, поскольку, выражаясь словами Ньерере, «вся земля теперь принадлежит нации» (p. 307). Ньерере оправдывал этот ход на языке африканских традиций «коммунальной собственностью», тем самым игнорируя различия между коммунальной и государственной собственностью.
[577] Цит. по: Coulson. Tanzania. P. 237 (курсив Скотта).
[578] Можно подумать, что Ньерере хорошо представлял себе, как должна выглядеть «надлежащая» деревня — ее расположение, тракторы, перекрещивающиеся коммунальные поля, поликлинику, школу, руководящий центр, деревенские мастерские и, возможно, забегая вперед, электрические двигатели и огни. Откуда пришел этот образ? Из России, из Китая, с Запада?
[579] Цит. по: Nyerere. Freedom and Socialism. P. 356.
[580] Там же (курсив Скотта).
[581] Отчет Всемирного банка (p. 19) цитируется в: Coulson, Tanzania. P. 161.
[582] См.: Cliffe and Cunningham. Ideology, Organization, and the Settlement Experience. P. 135. Авторы опускают фактическое местоположение и название деревни почти наверняка по политическим причинам. Не имея доказательств, я предполагаю, что этот Ксанаду был близко к столице в Дар-ес-Саламе, чтобы чиновники могли посещать его и восхищаться.
[583] По установившимся стандартам правления в современных соседних государствах — Эфиопии, Уганде, Южной Африке, Мозамбике и Заире — Танзания при Ньерере была просто раем. Тем не менее TANU часто нарушал законы или вообще обходил их. Акт о превентивном задержании 1962 г. не обеспечивал никаких гарантий от скандальных злоупотреблений. В начале 1964 г., после армейского мятежа, он был произвольно применен приблизительно к пятистам противникам режима, в основном не имевших никакого отношения к заговору. Помимо Акта о превентивном задержании режим нередко обращался и к другим авторитарным колониальным законам. См. в этой связи: Pratt Cranford. The Critical Phase in Tanzania, 1945-1968: Nyerere and the Emergence of a Socialist Strategy. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. P. 184—189.
[584] Boesen Jannik, Madsen Birgit Storgaard, Moody Tony. Ujamaa: Socialism from Above. Uppsala: Scandinavian Institute of African Studies, 1977. P. 38. Есть ссылка на программу заселения Макази Мапиа до 1969 г. в области Западного озера.
[585] Там же, p. 77.
[586] См.: Cliffe, Cunningham. Ideology, Organization, and the Settlement Experience. P. 137-139; Cliffe Lionel. The Policy of Ujamaa Vijijini and the Class Struggle in Tanzania // Cliffe and John S. Saul, eds. Policies. Vol. 2. Socialism in Tanzania: An Interdisciplinary Reader. Nairobi: East African Publishing House, 1973, P. 195-211; Coulson. Agricultural Policies in Mainland Tanzania. P. 74—100. Статья, упомянутая последней, — блистательный анализ сельской политики в Танзании.
[587] См.: Cliffe and Cunningham. Ideology, Organization, and the Settlement Experience. P. 139.
[588] Coulson. Agricultural Policies in Mainland Tanzania. P. 91.
[589] Этот приказ Ньерере прозвучал в его речи по радио, содержание которой весьма поучительно. Он напомнил аудитории обо «всем, что правительство TANU сделало для людей после Декларации Apyша: отмена подушного налога, отмена платы за начальное обучение, постоянное снабжение чистой водой в деревнях, увеличение числа поликлиник и амбулаторий в сельских районах, средств на обслуживание начальной школы. И затем он спросил, чем крестьяне ответили на эти благодеяния. И сам ответил: они не сделали фактически ничего. Они остались праздными и уклонились от ответственности за вклад в социалистическое развитие страны. Он, заканчивая речь, сказал, что не может силой превратить людей в социалистов, но его правительство может сделать все, чтобы гарантировать, что каждый танзаниец будет жить в деревне. Он выразил желание, чтобы это было сделано до конца 1976 г.» (Hyden, Beyond Ujamaa in Tanzania. P. 130).
[590] Срок был уже установлен, когда в начале октября 16-я конференция TANU выступила со срочным призывом к правительству «нанести деревни на карту» с целью создания национального движения деревень уджамаа, а не опираясь на местную инициативу (Рау News [Dar es Salaam]. 1973. Oct. 2). Соответственно, в следующие месяцы были вызваны земельные чиновники и профессиональные инспекторы, чтобы обучить местные кадры более простым методам размещения новых деревень (Daily News [Der es Salaam]. 1974. Jan. 30). «Лобовой» подход к деревням уджамаа отличался от предложенного в 1969 г. TANU и Министерством сельского хозяйства и зафиксированного во втором пятилетнем плане. Bismarck U. Mwansasu and Cranford Pratt, Towards Socialism in Tanzania. Buffalo: University of Toronto Press, 1979. P. 98.
[591] Цит. по: Coulson. Agricultural Policies in Mainland Tanzania. P. 74. См. также: Mwapachu Juma Volter. Operation Planned Villages in Rural Tanzania: A Revolutionary Strategy of Development // African Review. 1976. Vol. 6, №1. P. 1-16. Предмет требует более внимательного анализа. Подлежащее последних двух предложений — некое безличное «государство» или «Танзания», на деле, конечно, представленная Ньерере и элитой TANU. В условиях принуждения все еще делается вид добровольности выбора. Наконец, выражение «жизнь, подобная смерти» для описания жизни большинства танзанийцев поднимает Ньерере и партию до роли спасителей, воскрешающих людей из мертвых, как Иисус Лазаря.
[592] См.: McHenry Dean E., Jr. Tanzania’s Ujamaa Villages: The Implementation of a Rural Development Strategy. Research Series. №39. Berkeley: Berkeley Institute of International Studies, 1979. P. 136; Mwapachu. Operation Planned Villages; Miti Katabaro. Whither Tanzania? New Delhi: Ajanta, 1987. P. 73-89.
[593] По терминологии доклада Всемирного банка, «люди, продвигаясь в новые области, будут более восприимчивыми к изменениям, чем оставаясь в знакомой среде» (Цит. по: Coulson. Tanzania, p. 75). Это было, возможно, психологической предпосылкой принудительного за селения. По словам служащего Всемирного банка, в начале кампании переселения тысяч яванцев на внешние острова Индонезии предполагалось отправить их самолетом, а не кораблем, что дешевле, в надежде, что первый опыт полета дезориентирует их и придаст переселению революционный и постоянный характер.
[594] Цит. по: Coulson. African Socialism in Practice: The Tanzanian Experience. Nottingham: Spokesman, 1979. P. 31-32.
[595] Kjekhus Helge. The Tanzanian Villagization Policy: Implementation Lessons and Ecological Dimensions // Canadian Journal of African Studies. 1977. Vol. 11. P. 282; цит. по: Rodger Yageger. Tanzania: An African Experiment. 2nd ed. Boulder: West-view Press, 1989. P. 62.
[596] Ndabakwaje A.P.L. Student Report. University of Dar es Salaam, 1975; цит. по: McHenry. Tanzania’s Ujamaa Villages. P. 140—141. В одном из описанных случаев земледелец в ответ на захват его земли для новой деревни выстрелил и убил регионального специального уполномоченного. Nindi B.C. Compulsion in the Implementation of Ujamaa // Norman O’Neill and Kemal Mustafa, eds. Capitalism, Socialism, and the Development Crisis in Tanzania. Ave-bury: Aldershot, 1990. P. 63-68, цит. по: McKim Brace. Bureaucrats and Peasants: Ujamaa Villagization in Tanzania, 1967-1976 (term paper, Department of Anthropology, Yale University, April 1993. P. 14).
[597] Описание атмосферы страха и подозрительности, которая окружала принудительное переселение в новые деревни, см.: Kisula P.A. Prospects of Building Ujamaa Villages in Mwanza District (Ph.D. diss., Department of Political Science, University of Dar es Salaam, 1973). Я благодарен Дэвиду Сперлингу за то, что он обратил мое внимание на эту работу. В многих областях побеги из деревень уджамаа были прослежены силами безопасности.
[598] Там же, p. 134. Можно показать, что схему высокомодернистского преобразования гораздо легче навязать тому населению, которое является по тем или иным причинам «другим», чем тому, которое является частью «нас». Это помогло бы объяснять, почему виллажизация сначала была навязана бедным областям, вроде Кигомы и Додомы, и почему она оказалась особенно трудной на пасторальном Масаи.
[599] Цит. по: Coulson. African Socialism in Practice. P. 66.
[600] Там же.
[601] Moore Sally Falk. Social Facts and Fabrications: «Customary» Law on Kilimanjaro, 1880—1980. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 314.
[602] Здесь, кстати, я думаю, что во всех иных отношениях интересная книга Горана Хайдена кое-что упускает. Сопротивление танзанийского крестьянства кажется в меньшей степени последствием старых «экономических привязанностей», чем разумным откликом на болезненные воспоминания о страшных последствиях многих государственных идей, большинство которых потерпело неудачу.
[603] В другом месте, например в Танга, были случаи «потемкинских деревень», которые создавались для посещения Ньерере, а после разбирались. См.: Hyden. Beyond Ujamaa in Tanzania. P. 101—108.
[604] Mwapachu. Operation Planned Villages. Цит. по: Coulson. African Socialism in Practice. P. 121.
[605] Bernstein Henry. Notes on State and the Peasantry: The Tanzanian Case // Review of’ African Political Economy. 1981. №21 (May—Sept.). P. 57.
[606] Boesen Jannik. Цит. по: Coulson. Tanzania. P. 254.
[607] Boesen, Madsen and Moody. Ujamaa. P. 165.
[608] Coulson. Agricultural Policies in Mainland Tanzania. P. 88 (курсив Скотта).
[609] См.: Raikes Phil. Eating the Carrot and Wielding the Stick: The Agricultural Sector in Tanzania // Jannik Boesen et al. Tanzania: Crisis and Struggle for Survival. Uppsala: Scandinavian Institute of African Studies, 1986. P. 119. Неблагоприятная цена и курс валюты привели к тому, что пятикратное увеличение объема импорта с 1973 до 1975 г. теперь представляет 30-кратное увеличение в цене.
[610] Суть, возможно, состоит в различии между производством для пропитания и производством для рынка. Я благодарен Брюсу Маккиму за то, что он подчеркнул минимальность макроэкономических стимулов для рыночного производства. Цены производителя, установленные государственными управлениями маркетинга, были почти разорительны, и в любом случае в магазинах было немного товаров, на которые эти доходы можно было потратить.
[611] Эти законы, имеющие долгую колониальную историю, имели целью заставить крестьян выращивать культуры, хорошо переносящие засуху, тем самым снижая затраты власти на помощь крестьянам во время голода.
[612] Система возделывания хлопка в Мозамбике представляет собой безжалостную модель этой политики. Португальцы предприняли большие усилия для такой концентрации населения (centraqaoes), при которой чиновники или концессионеры могли предписывать возделывание и поставку хлопка. По одному варианту, каждой семье выделялся один из заранее размеченных инспекторами участков. У каждого члена семьи был документ, в котором отмечалось выполнение им хлопковой квоты в течение года; за невыполнение могли арестовать, избить или отослать чернорабочим на плантации сизаля. Исключительно подробное и всестороннее изложение см.: Isaacman Alien. Cotton Is the Mother of Poverty: Peasants, Work, and Rural Struggle in Colonial Mozambique, 1938-1961. Portsmouth, N.H.: Heinemann, 1996.
[613] Чиновники стремились управлять не только производством, но и потреблением. В середине 1974 г. в районе Додома, например, вся розничная торговля продуктами первой необходимости была передана в руки монополии, образованной государственными потребительскими кооперативами и магазинами уджамаа. См.: Only Co-ops Will Sell Food in Dodoma // Daily News (Dar es Salaam). 1974. June 6. Этот ход был, вероятно, вызван убыточностью старых «официальных» магазинов, которые обычно управлялись партийными функционерами или чиновниками низшего ранга. Было бы странно, если бы такая монополия на розничную торговлю продовольствием хоть когда-нибудь оправдала ожидания чиновников.
[614] Boesen, Madsen and Moody. Ujamaa. P. 105.
[615] Thiele Graham. Villages as Economic Agents: The Accident of Social Reproduction // R.G. Abrahams, ed. Villagers, Villages, and the State in Modern Tanzania. Cambridge African Monograph Series, №4. Cambridge: Cambridge University Press. 1985. P. 81-109.
[616] Ранние примеры таких отчетов для пяти культур см.: Boesen, Madsen, Moody. Ujamaa. P. 102.
[617] Thiele Graham. Villages as Economic Agents. P. 98-99. См. также: Hassett Don. The Development of Village Cooperative Enterprise in Mchinga II Village, Lindi Region // Abrahams, ed. Villagers, Villages. P. 16—54.
[618] Таким образом Ндугу Лиандер, партийный секретарь района Киломберо, что расположен вдоль Болыной Ухурской Железной дороги (построенной с китайской помощью), напомнил людям, что каждая семья должна засадить два предписанных акра, и предупредил (на языке, наводящем на размышления о сопротивлении, которое он встречал) «что санкции будут предприняты против любого, у кого нет фермы, и никакие оправдания не помогут» (100,000 Move to Uhuru Line Villages // Daily News [Dar es Salaam]. 1974. Oct. 28).
[619] Bernstein. Notes on State and the Peasantry. P. 48.
[620] Там же. Бернштейн проницательно указывает, что в то время танзанийское государство стояло перед большим финансовым кризисом. Длительно наблюдавшийся рост государственного бюджета и штатной администрации опередил рост экономики и правительственных доходов, в том числе и доход от экспорта. Чтобы систематизировать крестьянскую экономику в надежде на подъем производства и увеличение государственных доходов, это было фактически единственной доступной альтернативой.
[621] Значительный рост производства отмечался в полугосударственных корпорациях, где работали оплачиваемые рабочие. Большое число таких корпораций было переориентировано на сельскохозяйственную продукцию (зерно, сахар и фураж для молочных коров). Эти действия, особенно на сахарных полугосударственных плантациях, были интенсифицированы капиталовложениями, как и на национализированных плантациях сизаля и чая.
[622] Цит. по: Coulson. Tanzania. P. 255.
[623] Там же, p. 161.
[624] Там же, p. 92.
[625] Там же, p. 158.
[626] Nyerere. Broadcast on Becoming Prime Minister (May 1961) // Nyerere. Freedom and Unity. P. 115.
[627] Coulson. Agricultural Policies in Mainland Tanzania. P. 76.
[628] Как можно было ожидать, последствия виллажизации вызвали огромное число земельных споров между поселениями, отдельными лицами и группами семей, имевших важные последствия для окружающей среды. См. превосходный анализ: Oppen Achim von. Bauern, Boden, und Baeume: Landkonflikte und ihre Bedeutung fuer Ressourcenschutz in tanzanischen Doerfern nach Ujamaa // Afrika-Spectrum. 1993 (February).
[629] Boesen, Madsen and Moody. Ujamaa. P. 115.
[630] Raikes Phil. Coffee Production in West Lake Region, Tanzania // Institute for Development Research, Copenhagen, Paper A.76.9 (1976). P. 3; цит. по: Coulson. Agricultural Policies in Mainland Tanzania. P. 80. См. также: Raikes Phil. Eating the Carrot and Wielding the Stick. P. 105—141.
[631] Boesen, Madsen, Moody. Ujamaa. P. 67.
[632] Vries James De and Fortmann Louise P. Large-scale Villagization: Operation Sogeza in Iringa Region // Coulson. African Socialism in Practice. P. 135.
[633] Выражение в кавычках — из Bernstein. Notes on State and the Peasantry. P. 59.
[634] Mwapachu. Operation Planned Villages. P. 117 (курсив Скотта).
[635] Ни в речах Ньерере того времени, ни в официальных сообщениях в прессе не фигурировали такие числа, часто связываемые с показателями сельского преобразования вроде норм смертности, дохода, потребления и т. д. См.: Boesen Jannik. Tanzania: From Ujamaa to Villagization // Mwansasu, Pratt. Towards Socialism in Tanzania. P. 128.
[636] Цит. по: Coulson. African Socialism in Practice. P. 65. Неустанный
акцент на количественных достижениях отражался и в газетах:
столько-то людей переселили в новые деревни, столько-то новых деревень
построено, столько-то акров и такими-то культурами засеяно,
такие-то проценты от района, столько-то участков земли предоставлено
и т. д. См., например, аналогичные статьи в газете Daily News
[Dar es Salaam]. 1974. Feb. 19; Two Months After Operation Arusha:
13,928 Families Move into Ujamaa Villages. 1974. Oct. 21; Iringa: Settling
the People into Planned Villages. 1975. April 15.
Ньерере не хотел, как это сделал Сталин, произносить речь, посвященную
«Головокружению от успехов» и тем самым временно приостановить
виллажизацию. С другой стороны, танзанийская виллажизация
и не была такой жестокой. Ньерере в своей речи снова пытался
объяснить, что такая концентрация населения позволит дать
людям социальное обеспечение, «необходимое для достойной жизни».
[637] Coulson. Tanzania. P. 320—331.
[638] Сильно аргументированный параллельный случай см.: Ferguson James. The Anti-Politics Machine: Development // Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. Фергюсон заключает, что «развитый аппарат в Лесото — вовсе не машина для устранения бедности, случайно оказавшаяся связанной с государственной бюрократией; это — именно машина для укрепления и расширения бюрократической государственной власти, которая случайно берет «бедность» как отправную точку» (p. 255—256). В Танзании существовали еще более важные способы получения чиновниками власти, включая выгоды от расширения торговли с Азией, а также национализации торговли и промышленности вообще. Показательно, что бюджет правительства и число государственных служащих намного превышали экономический рост до середины 1970-х годов, когда в результате финансового кризиса какое-либо дальнейшее расширение стало невозможным.
[639] В скудном окружении оставаться на одном месте — самоубийство, двигаться — условие выживания. Подробный и поэтический анализ этих обстоятельств см.: Chatwin Bruce. TheSonglines. London: Cape, 1987.
[640] M.L. Ole Parkipuny. Some Crucial Aspects of the Maasai Predicament/ in Coulson, African Socialism in Practice. Chap. 10. P. 139-160.
[641] См., например, Raikes. Eating the Carrot and Wielding the Stick. P. 106: «Многое в политике опирается на предположения относительно сельскохозяйственной „модернизациu“, проведенной танзанийским правительством и его антисоциалистическими критиками, а из колониального периода буквально ничего — с изменениями или без изменений — перенесено не было». См. также блестящий анализ применения парадигмы развития Всемирного банка к Лесото в Ferguson. The Anti-Politics Machine, где также обсуждает планы виллажизации в Лесото с помощью Всемирного банка.
[642] Рон Аминзаде (личное сообщение от 22 сентября 1995 г.) говорит, что длительная популярность Ньерере, несмотря на неудачи виллажизации, частично объясняется путями воздействия переселения и иной национальной политики на разрушение возрастной и родовой иерархии, в результате чего улучшилось относительное положение более молодых людей и женщин.
[643] Темп виллажизации замедлился в конце 1974 г., когда из-за засухи урожай снизился вдвое сразу после и без того бедных урожаев в предшествующие два года. Трудно определить степень, в которой виллажизация и предписанное земледелие усиливали нехватку продовольствия. Во всяком случае Танзания должна была импортировать беспрецедентное количество пищевых продуктов, да еще тогда, когда затраты на иностранную нефть и машины взлетели до небес. Хотя нехватка продовольствия заставила крестьян переселяться в обмен на паек, но в данных стесненных обстоятельствах крупномасштабное социальное экспериментирование было отложено. См.: Hyden. Beyond Ujamaa in Tanzania. P. 129-130, 141, 146; Bryceson Deborah. Household, Hoe, and Nation: Development Policies of the Nyerere Era // Michael Hodd, ed. Tanzania After Nyerere. London: Pinter, 1988. P. 36—48.
[644] Для населения Танзании многое определяет тактическое преимущество проживания около границ страны, возможность контрабанды в обоих направлениях.
[645] Здесь снова лучшим источником для показа административных структур, планов развития и экономической организации среди марксистских режимов является Colburn. The Vogue of Revolution, especially. Chaps. 4 and 5. P. 49-77.
[646] Цит. по: Kebbede Girma. The State and Development in Ethiopia. Engle-wood, N.J.: Humanities Press, 1992. P. 23.
[647] См. замечательно подробное и вдумчивое изложение: Clay Jason W., Steingraber Sandra and Niggli Peter. The Spoils of Famine: Ethiopian Famine Policy and Peasant Agriculture, Cultural Survival Report 25. Cambridge, Mass.: Cultural Survival 1988, особенно chap. 5. Villagization in Ethiopia. P. 106—135. Как империя эфиопское государство имело длинную традицию военных поселений и колонизации, которая продолжалась при Менгисту принудительным перемещением поселений с севера на земли Оромона юге.
[648] Там же, p. 271, 273.
[649] Cohen John M. and Isaksson Nils-Ivar. Villagization in Ethiopia’s Arsi Region // Journal of Modem African Studies. 1987. Vol. 25, №3. P. 435—464. Эти числа несколько сомнительны. Поскольку каждая деревня была запланирована на абстрактную тысячу жителей, похоже, что они как будто умножили число деревень на запланированное население, добавляя, вероятно, несколько дополнительных жителей для учета должностных лиц. Коэн и Айзексон были больше склонны принимать декларации режима на веру, чем Клэй и его коллеги по организации «Культурное выживание».
[650] Там же, p. 449.
[651] Подобная геометрическая дотошность наблюдалась в Камбодже при Пол Поте. Прямые стены, прямые каналы, квадратные поля — гектары посевов риса. Концентрация населения, принудительность работы, запрет на перемещение или отъезд, контроль рациона и экзекуции — все это было чрезвычайно редким в Эфиопии. См.: Kiernan Ben. The Pol Pot Regime: Race, Power, and Genocide in Cambodia Under the Khmer Rouge, 1975-1979. Chap. 5. New Haven: Yale University Press, 1996.
[652] Clay, Steingraber and Niggli. The Spoils of Famine. P. 121. Как в Советском Союзе, в Эфиопии были отдельные категории первоначально высокомеханизированных государственных ферм, на которых работали наемные рабочие. Они, как ожидалось, должны были производить основную поставку зерна и экспортных культур под прямым контролем правительства. «В конце 1970-х годов в результате медленного добровольного хода коллективизации правительство начало выделять для будущих государственных ферм ровные, плодородные области для механизированного сельского хозяйства. Области очищались от жителей так, чтобы они могли использоваться для непосредственного государственного производства — кажется, основная причина виллажизации в Бэйле» (там же, p. 149).
[653] Там же, p. 190—192, 204.
[654] Корни этой программы можно проследить до доклада Всемирного банка 1973 г., «который рекомендовал переселение крестьян из северных областей, страдающих от высокого давления, эрозии почвы и истребления леса», хотя это было названо политикой ответа на голод в 1984-1985 гг. (Cohen and Isaksson. Villagization in Ethiopia’s Arsi Region. P. 443). Кое-какую логику социального контроля, лежащую в основе этих схем, можно найти в прекрасной работе Donham Donald. Conversion and Revolution in Maale, Ethiopia // Program in Agrarian Studies. Yale University, New Haven. 1995. Dec. 1.
[655] См.: Kebbede. The State and Development. P. 5—102; Clay, Steingraber and Niggli. The Spoils of Famine, passim.
[656] Clay, Steingraber and Niggli. The Spoils of Famine. P. 23.
[657] Как сказал один фермер Клэю, «есть шесть видов сорго, которые я выращиваю: два красных, два белых и еще два промежуточных, которые созревают очень быстро. Есть виды сорго, которые мы едим, когда плод еще зелен. Есть пять видов метлички и три вида зерна: красное, оранжевое и белое. Каждый берется согласно сезону, и у каждого сорта есть свое время роста» (там же, p. 23).
[658] Там же, p. 55.
[659] Продовольственная помощь, в свою очередь, использовалась для переселения, а когда люди переселялись — для того, чтобы удерживать их там. Стандартная методика Совета — объявить время и место для распределения продовольствия, а затем отправить собравшуюся толпу.
[660] Чрезвычайную версию этой визуальной кодификации можно найти в Румынии Чаушеску, где были разрушены сотни деревень, чтобы создать место для нефункционирующих городов с «современными квартирами» (более легкими в управлении), и где сельская местность с собственной рабочей силой была разделена на зоны строгой сельскохозяйственной специализации. Режим назвал эту ситуацию «систематизация». Возможно, лучшее изложение вопроса можно найти в Verdery Katherine. What Was Socialism and What Comes Next / Princeton: Princeton University Press, 1996, особенно chap. 6. P. 133-167.
[661] Но даже здесь, см.: Worster Donald. The Dust Bowl: The Southern Plains in the 1930s. New York: Oxford University Press, 1979.
[662] Berger John. Ways of Seeing. London, 1992. P. 16, Цит. по: Jay Martin. Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought. Berkeley: University of California Press, 1993. Полезное собрание по проблемам современности и видения см. также: Levin David Michael, ed. Modernity and the Hegemony of Vision. Berkeley: University of California Press, 1993.
[663] Более сложные аргументы по этим вопросам см.: Scott James C. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven: Yale University Press, 1990. P. 45—69.
[664] Зигмунт Бауман в Modernity and the Holocaust (Oxford: Oxford University Press, 1989), говорит то же самое в отношении «метафоры садоводства», которая ему представляется характеристикой модернистского мышления вообще и нацистской расовой политики в частности.
[665] Это подробно обсуждалось и с точки зрения опыта, и аналитически в Sally Falk Moore, Social Facts and Fabrications, особенно гл. 6.
[666] В этой связи см. классическую статью, обсуждающую, как наша скромная степень знаний о вероятных последствиях любой большой политической инициативы формирует стратегию из якобы мудрого урегулирования, которое может быть уничтожено без большого ущерба более благоразумным курсом: Lindblom Charles E. The Science of Muddling Through // Public Administration Review. 1959. №19 (Spring). P. 79—88. Следующую статью, изданную двадцатью годами позже, Still Muddling, Not Yet Through, можно найти в Lindblom, Democracy and the Market System. Oslo: Norwegian University Presses, 1979. P. 237-259.
[667] Сторонники этого представления, как мне кажется, забывают или игнорируют тот факт, что для нормальной работы рынок требует собственных обширных упрощений в рассмотрении земли (природы) и рабочей силы (людей) как факторов производства (предметов потребления). Это, в свою очередь, глубоко разрушительно для человеческого сообщества и природы. В некотором смысле наличие научного леса упрощает научное измерение — упрощение, облегчающее работу коммерческого рынка древесины. Классическое произведение Карла Поляни The Great Transformation (Boston: Beacon Press, 1957) является все еще, возможно, лучшим противоядием против чистой рыночной логики.
[668] Я знаю, что дихотомическое различение «искусственного» и «естественного» в конечном счете невозможно, когда речь идет о таких вещах, как языки и сообщества. Под «искусственными» я подразумеваю языки и сообщества, запланированные из центра и одним махом, в противоположность тем сообществам, которые проходят путь постепенного развития.
[669] См.: O’Connor J.C. Esperanto, the Universal Language: The Student’s Complete Text Book. New York: Fleming H. Revell, 1907; Janton Pierre. Esperanto Language, Literature, and Community / Trans. Humphrey Tonkin et al. Albany: State University of New York Press, 1973. Под «универсальным», конечно, сторонники эсперанто подразумевали «европейский».
[670] См. в этом контексте: Stewart Susan. On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984.
[671] Замечательное описание советской Выставки достижений народного хозяйства, открытой в 1939 г., см.: Gambrell Jamey. Once upon an Empire: The Soviet Paradise. New Haven: Yale University Press, forthcoming. О ее индонезийском аналоге (Taman-Mini, or «mini-park») построенном согласно вдохновению госпожи Сухарто, жены президента Индонезии начиная с 1965 г., после посещения ею Диснейлэнда см.: Pemberton John. Recollections from “Beautiful Indonesia” (Somewhere Beyond the Postmodern) // Public Culture. 1994. №6. P. 241-262; Lindsey Timothy C. Concrete Ideology: Taste, Tradition, and the Javanese Past in New Order Public Space // Culture and Society in New Order Indonesia. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1993. P. 166—182.
[672] Другим примером выставочного экземпляра, выдаваемого за действительность, может служить созданная подчиненными Мао Цзедуна во время бедствий «большого скачка» в конце 1950-х годов лживая картина здоровых крестьян и небывалых урожаев по маршруту следования его поезда.
[673] Yi-fu Tuan. Dominance and Affection: The Making of Pets. New Haven: Yale University Press, 1984.
[674] Vale Lawrence. Architecture, Power, and National Identity. New Haven: Yale University Press, 1992. P. 90.
[675] Политическое преимущество новой столицы состоит в том, что она не принадлежит никакому существующему сообществу. Основание новой столицы позволяет избежать некоторого деликатного выбора, который иначе пришлось быделать. По той же самой логике английский язык стал национальным языком Индии, потому что этот широко распространенный язык единственный не принадлежал исключительно какому-то специфическому традиционному сообществу. Однако его широко использовала англоговорящая интеллигенция Индии, получившая чрезвычайные привилегии, когда ее «диалект» стал национальным языком. Соединенные Штаты и Австралия создали запланированные столицы, отразившие видение прогресса и порядка.
[676] Vale. Architecture, Power, and National Identity. P. 293.
[677] Там же, p. 149.
[678] Coulson. Agricultural Policies in Mainland Tanzania. P. 86.
[679] Прекрасное описание мозамбикского случая, см.: Isaacman. Cotton Is the Mother of Poverty.
[680] Цит. по: Coulson. Agricultural Policies in Mainland Tanzania. P. 78. Документ продолжает подчеркивать, насколько важно отделить хороших, трудолюбивых земледельцев от плохих, ленивых. Латиноамериканская революционная стратегия focos, или создания маленьких повстанческих анклавов (разработанная Режисом Де Бреем в 1960-х годах) того же интеллектуального происхождения, что и стратегии «фокуса» в работе развития.
[681] Peters Pauline. Transforming Land Rights: State Policy and Local Practice in Malawi, статья, представленная Program in Agrarian Studies, Yale University, New Haven. 1993. Feb. 19.
[682] Miiller Birgit, неопубликованная работа 1990 г.
[683] Zhou Kate Xiao. How the Farmers Changed China: Power of the People. Boulder: Westview Press, 1996.
[684] Большая пропасть, таким образом разверзшаяся между неизбежно лживой авторитарной высокомодернистской социальной фикцией и неофициальными, «ненормативными» методами, которые не могут быть открыто признаны, но являются ее необходимым дополнением, — диагностическая характеристика. Хотя мы еще вернемся к этой теме, уместно вспомнить, что лицемерие, цинизм и комический эффект, производимый различием между официальным благочестием лжи в общественной сфере и методами, необходимыми для воспроизводства повседневной жизни, часто становятся темой для превосходной литературы о таком обществе.
[685] Для подтверждения того, что даже наиболее древние леса частично обязаны человеческой деятельности в течение столетий, см., например: Posey Darryl. Indigenous Management of Tropical Forest Eco-Systems: The Case of the Kayapo Indians of the Brazilian Amazon // Agroforestry Systems. 1985. №3. P. 139-158; Hecht Susanna, Anderson Anthony and May Peter. The Subsidy from Nature: Shifting Cultivation, Successional Palm Forests, and Rural Development // Human Organization. 1988. Vol. 47, №1. P. 25—35; Alcorn J.B. Huastec Noncrop Resource Management: Implications for Prehistoric Rain Forest Management // Human Ecology. 1981. Vol. 9, №4. P. 395-417; Padoch Christine. The Woodlands of Tae: Traditional Forest Management in Kalimantan // William Bentley and Marcia Gowen, eds. Forest Resources and Wood Based Biomass Energy as Rural Development Assets. New Delhi: Oxford and ibh, 1995.
[686] Для продаваемых на рынке культур в полностью коммерциализированной системе максимизация прибыли редко точно совпадала бы с максимизацией объема урожая. При недостатке в рабочей силе земледельцы больше заинтересованы в максимизации урожая на единицу рабочей силы, а при недостаточности земли интерес сконцентрирован на урожае в расчете на акр.
[687] Richards Paul. Indigenous Agricultural Revolution: Ecology and Food Production in West Africa. London: Unwin Hyman, 1985. P. 160; в этой главе я опираюсь на эту блестящую книгу. Ричардс предан научному исследованию сельского хозяйства, но настаивает, чтобы это исследование проводилось без предубеждения по отношению к существующим методам африканских фермеров и отражало фактические проблемы и цели местных земледельцев.
[688] Специфические структурные и институциональные интересы, привлекающие внимание к сельскохозяйственной политике государственной власти, городского населения и экономическим интересам элиты, убедительно разъяснены в: Bates Robert. Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Agricultural Policies. Los Angeles: University of California Press, 1981. Мой анализ основан на более глубоких источниках политических ошибок, находящихся вне политико-экономического поля зрения Бэйтса.
[689] Harlan Jack R. Crops and Man. 2nd ed. Madison, Wis.: American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, 1992. P. 5.
[690] У большинства зерновых — а все они относятся к семейству трав — это привело к своего рода симбиотической мимикрии. Каждая ведущая зерновая культура имеет в этом семействе один или больше сходных по внешним признакам «обязательных сорняков», которые хорошо растут при тех же полевых условиях, что и данная культура, но вызревают раньше и высеиваются повторно, таким образом сохраняясь в обрабатываемой почве.
[691] Harlan. Crops and Man. P. 127 (курсив оригинала).
[692] В малайской деревне, где я работал в поле в течение двух лет, каждый из старых земледельцев знал названия и свойства приблизительно 80 сортов риса.
[693] Расчищенный под пашню участок земли или поле само является мощным фактором отбора. Даже если земледелец случайно выберет семена для следующего сезона или просто оставит урожай, находящийся на поле для естественного отбора, сопротивление следующего урожая увеличится, т. е. будет иметь место так называемое полевое сопротивление. Какая бы порода (включая случайные пересечения и мутантов) ни выстаивала лучше всего через какое-то время против вредителей, неблагоприятной погоды и т. д., она сама внесет вклад, волей-неволей оставив больше семян к урожаю следующего сезона. См.: Harlan. Crops and Man. P. 117-133.
[694] «Вероятно, полное генетическое изменение, достигнутое фермерами за тысячелетия, гораздо больше достигнутого за прошедшие сотню или две лет систематических научных усилий» (Simmonds Norman. Principles of Crop Improvement. New York: Longman, 1979, цит. по: Kloppenberg Jack Ralph. Jr. First the seed: The Political Economy of Plant Biotechnology, 1492-2000. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 185). Как будет видно, я многим в этой главе обязан прекрасному анализу Клоппенберга.
[695] Boyce James. Biodiversity and Traditional Agriculture: Toward a New Policy Agenda — a Pre-Proposal (неопубликованная работа, январь 1996 г.). См. также: Boyce. The Environmental Impact of North-South Trade: A Political Economy Approach // Working Paper 1996-3. Department of Economics, University of Massachusetts, Amherst, 1996. На самом деле отношение между современными разновидностями и традиционным сельским хозяйством — скорее однонаправленная зависимость, чем дополнение. Традиционное сельское хозяйство не нуждается в современном как в условии своего существования, а современное сельское хозяйство целиком зависит от генетического капитала земли — пород. Бойс, защищая традиционное земледелие, утверждает, что семена следует сохранять там, где их нашли, а не в банках семян.
[696] Привлекательность внешнего вида зависела от эстетических ценностей, которые часто заметно противоречили урожайности, вкусу и даже доходности. В американской традиции давать награды фруктам, овощам и домашнему скоту, выведенным для соревнований на сельскохозяйственных ярмарках, где первый приз уходил к идеальному колосу зерна или идеальной свинье несмотря на то, что они могли быть экономически невыгодными. Конечно, если покупатель был готов оплачивать достаточную «эстетическую премию» для идеальной свиньи, то эстетика и прибыль могли совпадать. См.: Kloppenberg. First the Seed. P. 96.
[697] Там же, p. 117. Следующие два наблюдения также основаны на том же пассаже.
[698] Webb R.E. and Bruce W.M. Redesigning the Tomato for Mechanized Production // Science for Better Living: Yearbook of Agriculture, 1968. Washington: United States Department of Agriculture, 1968. P. 104, цит. там же, p. 126. Клоппенберг продолжает: «Особенно привлекательно для овощной промышленности было скрещивание: шпинат, морковь, огурцы, капуста, цветная капуста и т. д. были гибридизированы и перепроектированы, чтобы не отбирать, а только поверхностно осматривать, собирать урожай машиной» (там же.). Стоит отметить, что, кроме урожая, механической культивации, сортировки и упаковки, некоторые культуры еще раньше подвергались отбору и селекции.
[699] Там же, p. 127.
[700] Hightower Jim et al., Hard Tomatoes, Hard Times, Final Report of the Task Force on the Land Grant College Gomplex of the Agribusiness Accountability Project. Cambridge: Schenkman, 1978.
[701] Committee on Genetic Vulnerability of Major Crops, Agricultural Board, Division of Biology and Agriculture, United States National Research Council, Genetic Vulnerability of Major Crops. Washington: National Academy of Sciences, 1972. P. 21.
[702] Там же, p. 12.
[703] Другой проявление генетической однородности состоит в том, что целая популяция растений становится уязвимой к тем же самым факторам окружающей среды.
[704] Первым математическую модель эпидемий растений разработал ван дер Планк. См.: Genetic Vulnerability of Major Crops. P. 28-32.
[705] Та же самая логика справедлива для человеческих болезней. При прочих равных условиях жизнь в распределенных поселениях была здоровее, чем в сконцентрированных. В городах Западной Европы население не воспроизводилось по крайней мере до XIX в.; оно лишь пополнялось более здоровым населением сельской местности. По эпидемиологическим причинам разнообразие и свободное расселение ассоциируются со здоровьем, а биологическая однородность и концентрация — с высокой смертностью. См.: Crosby Alfred. Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900-1900. New York: Cambridge University Press, 1988; Ridley Mark. The Microbes’ Opportunity // Times Literary Supplement. 1995. Jan. 13. P. 6-7. Значимость свободного расселения во время эпидемий была признана намного раньше, чем были поняты причины главных эпидемических заболеваний. См., например: Defoe Daniel. A Journal of the Plague Year (1722). Harmondsworth: Penguin, 1966.
[706] Аналогичны, но не вполне. Как мыузнали, безоглядное использование антибиотиков людьми и пестицидов для зерновых культур приводит к обратному эффекту — патогенные факторы, которые служили целью нападения, под давлением селекции часто приспосабливаются и видоизменяются быстрее, чем успевают обороняться человек или растение. По этой причине создаются новые поколения пестицидов, чтобы держаться хоть на один шаг впереди патогенных факторов, а некогда побежденные инфекционные болезни, такие как туберкулез или холера, возвращаются в еще более опасной форме. В этом контексте см.: Nesse Randolph M. and Williams George C. Evolution and Healing: The New Science of Darwinian Medicine. London: Weidenfeld and Nicolson, 1995.
[707] Pimentel David and Levitan Lois. Pesticides: Amounts Applied and Amounts Reaching Pests // BioScience. 1986. Vol. 36. №2 (Febr.). P. 87.
[708] Kloppenberg. First the Seed, p. 118—119. Во всем мире хлопковые и высокоурожайные разновидности риса поглощают самую большую долю пестицидов.
[709] И опять — существуют поразительные аналогии человеческих эпидемий с развитием стойкого наследственного сопротивления вирусным и бактериальным заболеваниям. См. обсуждение Джоном Уорго малярии и ее возбудителя, москита анофелес, в Our Children’s Toxic Legacy: How Science and Law Fail to Protect Us from Pesticides. New Haven: Yale University Press, 1996. P. 15—42.
[710] «Широкое использование гербицидов прошло не без потерь. Из 45 ятрогенически вызванных (т. е. обусловленных использованием пестицидов) болезней хлебных злаков 30 были вызваны гербицидами» (Kloppenberg. First the Seed. P. 247). Литература также изобилует случаями инсектицидов и других агентов, имеющих косвенные, но одинаково разрушительные последствия. В 1995 г., например, массивное применение малатиона для борьбы с долгоносиком в штате Техас также убило много полезных насекомых, вызвав таким образом нашествие армии червей, съевших почти весь урожай свеклы. См.: Where Cotton’s King, Trouble Reigns // New York Times. 1995. Oct. 9. P. A10; Verhovek Sam Howe. In Texas, an Attempt to Swat an Old Pest Stirs a Revolt // New York Times. 1996. Jan. 24. P. A10.
[711] Genetic Vulnerability of Major Crops. P. 6.
[712] Там же, p. 7 (курсив Скотта).
[713] Там же, p. 1. Малый урожай гороха, выращиваемого в 1969 г. в коммерческих целях, объяснялся тем, что 96% его было представлено только двумя видами. Небольшая генеральная репетиция бедствия с овсом была засвидетельствована в 1970 г. «Чудесный овес» Викторию разводили специально, поскольку он хорошо сопротивлялся всем формам грибов-вредителей. В 1940 г. он распространился по всей стране, а в 1946 г. разразилась разрушительная эпидемия. Поскольку в то время овес не был столь распространенной культурой, как веком раньше, о бедствии широко не сообщалось.
[714] Впечатляющий перечень таких случаев см. Kloppenberg. First the Seed. P. 168.
[715] Billard James B. More Food for Multiplying Millions: The Revolution in American Agriculture, c фотографиями Джеймса Р. Блэйра и иллюстрациями фермы будущего Дэвиса Мельцера, National Geographic. 1970. Vol. 137, №2 (Febr.). P. 147-185. Эта статья стала предметом уничтожающей критики Уэнделла Берри в The Unsettling of America: Culture and Agriculture (San Francisco: Sierra Club Books, 1977), chap. 5. Примечательно, как мало из того, что обещала статья в виде «информированной» фантазии, сбылось в 1997 г. Конечно, революция в биотехнологии и генная инженерия — наиболее важные изменения в сельском хозяйстве, однако они являются едва ли не пятнышком на его горизонте по сравнению с проблемой генетической уязвимости и использования пестицидов.
[716] См.: Hirschman Albert O. Development Prejects Observed. Washington: Brookings Institution, 1967.
[717] Прекрасный анализ пяти таких схем (четыре из них — частные, а одна — общественная, — схема выращивания земляных орехов 1947 г. в Танганьике), см.: Johnson Nancy L. and Ruttan Vernon W. Why Are Farms So Small? // World Development. 1994. Vol. 22, Nod. P. 691-706.
[718] Richards. Indigenous Agricultural Revolution. P. 63—116. В этом обсуждении я буду попеременно использовать термины «поликультурные» и «смешанные» посевы. Смешанные посевы — форма поликультурности, в которой вторая культура находится между рядами первой. Другую форму поликультурности представляет собой смена во времени посева разных культур на одном и том же поле.
[719] Чем суровее климат, тем меныше биологическое разнообразие. Это особенно заметно при приближении к тундре, когда число видов деревьев, млекопитающих и насекомых уменьшается. То же самое, конечно, справедливо для смены климатических зон при постепенном подъеме в гору.
[720] Цит. по: Richards Paul. Ecological Change and the Politics of African Land Use // African Studies Review. 1983. Vol. 26, №2 (June). P. 40. Puчардс также ссылается на Дадли Стэмпа, который приблизительно в то же самое время с энтузиазмом писал о более широкой применимости африканских методов для борьбыс эрозией почвы: «Недавнее путешествие по Нигерии убедило автора, что местные фермеры уже разработали схему сельского хозяйства, которое может быть улучшеноне в принципе, а только в деталях. И как уже реализовано в некоторых областях, такая схема позволяет почти полностью защитить почву от эрозии и потери изобилия. Может быть, тем самым африканцы вносят вклад в решение больших проблем эрозии почвыв других регионах» (p. 23).
[721] Anderson Edgar. Plants, Man, and Life. Boston: Little, Brown, 1952. P. 140—141. Само собой разумеется, что описываемые Андерсоном сады отчасти потому настолько разнообразны, что сельские жители хотят вырастить многие необходимые для пропитания продукты, чтобы не покупать их на рынке. Это, однако, не относится к визуальному беспорядку.
[722] Richards. Indigenous Agricultural Revolution. P. 63.
[723] Там же, p. 70.
[724] В наиболее традиционных системах земледелия для поликультурности (или смены культур) обычно комбинируют зерновые и бобовые культуры.
[725] Richards. Indigenous Agricultural Revolution. P. 66—70.
[726] Sampson H.C. and Crowther E.M. Crop Production and Soil Fertility Problems // West Africa Commission, 1938—1939: Technical Reports. Pt. 1. London: Leverhulme Trust, 1943. P. 34, цит. там же, p. 30. Смешанное землепользование (поликультурное) не следует путать со смешанным сельским хозяйством, в котором ферма производит разные культуры (обычно каждая на своем участке) и домашний скот — в европейской модели мелкого фермерства.
[727] Richards. Ecological Change and the Politics of African Land Use. P. 27.
[728] Это только один пример того, что выбор техники зависит от фермера — серьезное соображение, но ни в коем случае не единственное.
[729] Строго говоря, многие из этих преимуществ можно было получить, выращивая на каждом из множества крошечных участков единственную культуру. При этом, конечно, были бы потеряны те достоинства поликультурного сельского хозяйства, которые упомянуты ранее.
[730] «Микоризальная ассоциация» — симбиотическое соотношение между грибницей некоторых грибов и корнями растения.
[731] Carson Rachel. Silent Spring (1962; Boston: Houghton Mifflin, 1987). P. 10.
[732] Фермеры, производящие чистую продукцию, иногда выбирали смешанное землепользование как путь ухода от использования удобрений и инсектицидов. Наиболее привычное возражение против определенных (не всех) форм поликультурности — они слишком трудоемки и требуют большого числа рабочих. Но это отчасти объясняется тем, что практически все сельскохозяйственные машины предназначены для монокультуры. Один пионер Вес Джексон продемонстрировал, что в чисто производственном отношении поликультурное хозяйство выигрывает у монокультурного за три года. Тот факт, что достижения поликульторного хозяйства становятся заметнее на второй и третий год, говорит о том, что за этот эффект несет ответственность взаимодействие этих двух культур (Jackson. Becoming Native to This Place, paper presented at the Program in Agrarian Studies, Yale University, New Haven. 1994. Nov. 18). Джексон, подобно Говарду, прежде всего заинтересован в развитии такой формы сельского хозяйства, которая сохранит или улучшит свой основной капитал — почвы. Это сохранение менее актуально в устойчивой пойме, но сугубо важно в экологических зонах с хрупкими почвами (например, на склонах гор). Поликультурное хозяйствование кажется особенно подходящим для достижения этой цели.
[733] Сравнительные экспериментальные экологические исследования прерии подтвердили первоначальную предпосылку Дарвина, что более разнообразные экосистемы более производительны и пластичны. Экологи университета штата Миннесота сравнили 147 участков в сотню квадратных футов, засеянных различным количеством случайно выбранных видов травы. «Чем больше видов произрастало на участке, тем больше была биомасса растений и больше азота извлекалось из почвы в процессе роста»; «меньше видов давало более скудный рост, а азота больше извлекалось из верхних слоев почвы». После засухи участки с большим числом видов быстрее восстанавливали свою продуктивность, чем участки с меньшим количеством видов. Производительность каждого участка резко увеличивалась при добавлении каждого вида вплоть до десяти. В конечном счете, это теоретически доказывает, что добавление видов может оказаться жизненно важным для защиты экосистемы от крайностей погоды или вторжения вредителей. См.: Carol Kaesuk Yoon. Ecosystem’s Productivity Rises with Diversity of Its Species // New York Times. 1996. March 5. P. C4.
[734] Эти преимущества могли бы включать более низкие расходы на удобрения и пестициды.
[735] Те, кто исследуют порядок, лежащий в основе очевидно турбулентных естественных систем (облака, водные потоки, воздушная буря, эпидемии и т. д.), противопоставляют то, что они называют фрактальными системами, линейным системам. Ключевое различие, важное для нас, — гибкость и устойчивость фрактальных процессов, которые могут переживать пертурбации и функционировать в широком диапазоне частот — общее качество многих биологических процессов. Напротив, линейные процессы, как только они сойдут с рельсов, продолжают идти под новым углом и никогда не возвращаются к первоначальному равновесию. В этом смысле поликультурность более терпима к беспорядкам.
[736] До определенной степени. Джекобс показывает, как успех окрестностей влияет на ценность собственности, что сказывается на некоторых занятиях и в конечном счете меняет вид данного места. В представлении Джекобс никакого равновесия нет, есть только цикл, который неоднократно повторяется в различных частях города.
[737] Переложное земледелие также обычно распространено в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.
[738] Conklin Harold C. Hanunoo Agriculture: A Report on an Integral System of Shifting Cultivation in the Philippines. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1957. P. 85. Невозможно оторваться от подробного отчета Конклина, не ощутив восторга от широты знаний и навыков этих земледельцев.
[739] И это, конечно, отчасти объясняет, почему такие популяции часто оставались в этом состоянии или сбегали в «негосударственные» места.
[740] Richards. Indigenous Agricultural Revolution. P. 50. Ричардс npoдолжает: «Парламентский заместитель государственного секретаря по колониям, В. Дж. А. Ормсби-гор суммирует позицию дня, замечая, что в Сьерра-Леоне (Западная Африка), например, естественный лес был безжалостно истреблен в поисках девственной почвы для культивирования риса» (p. 50—51).
[741] Там же, p. 42.
[742] См. там же, гл. 2. Ричардс заключает: «Что касается плодородия, современная наука о почве подтверждает справедливость приверженности лесных фермеров к сжиганию, а фермеров саванны — к «удобрению» и «компосту» (p. 61). Превосходный анализ методов сжигания в Гондурасе, см.: Jansen Kees. The Art of Burning and the Politics of Indigenous Agricultural Knowledge, paper presented at a congress entitled «Agrarian Questions: The Politics of Farming Anno 1995». 1995. May 22—24. Wageningen, The Netherlands.
[743] Richards. Indigenous Agricultural Revolution. P. 43. В этом контексте Ричардс исходит из предпосылки о единственном испытании жизнеспособности — по рыночной эффективности.
[744] Там же, p. 61.
[745] Либиг полагал, что его формулы достаточно для всех почвенных проблем.
[746] В числе многих экспериментов Говарда были сложные испытания «зеленого удобрения» (вспашка под усваивающие азот бобовые до посадки зерновых), которые показали, что эффект сильно зависел от других переменных, таких как правильный выбор времени и влажность почвы, чтобы способствовать химическим реакциям (сначала аэробным, а затем анаэробным), необходимым для производства перегноя. См.: Howard Sir Albert. An Agricultural Testament. London: Oxford University Press, 1940.
[747] Причиной выщелачивания оказались соли, откладывавшиеся в ходе интенсивной ирригации. В тех областях долины Империи в Калифорнии, которые страдали от выщелачивания, за эти годы пришлось установить более короткие дренажные трубыи на меньших расстояниях друг от друга, чтобы предотвратить усиление этого процесса.
[748] Рис появился в Старом Свете раньше и прижился. Хотя это многолетняя культура, здесь он выращивается как однолетний.
[749] Насколько глубока эта история, отражено в том факте, что человек за последние четыре тысячи лет не добавил ничего существенного в культивирование растений или животных. Эту историю можно найти в: Sauer Carl O. Agricultural Origins and Dispersals. New York: American Geographical Society, 1952. Сойер целиком полагается на важную работу русского ученого, пионера в этой области: Vavilov N.I. The Origin, Variation, Immunity, and Breeding of Cultivated Plants / Trans. К. Starr Chester // Chronica botanica. 1949—50. Vol. 13, №1—6. Картофель — хороший пример растения, которое размножается вегетативно.
[750] Имеются исключения, одно из которых, кажется, представляет собой экологически опустошенная северная часть Эфиопии и Эритреи. Стоит добавить, что ни один промышленный отчет об эрозии почвы, загрязнении или истощении подпочвенных вод и глобальном потеплении не является поучительным примером предвидения.
[751] Chambers Robert. Rural Development: Putting the Last First. London: Longman, 1983, цит. по: Richards. Indigenous Agricultural Revolution. P. 40. Говард заявил, что «сельскохозяйственные революции» всегда совершают независимые фермеры, а не государство. Обобщения Говарда справедливы для широкого диапазона явлений: от сельскохозяйственной революции в Англии, которая заложила основу для индустриализации сельского хозяйства, до широкого распространения таких новых культур, как какао, табак и кукуруза в Африке. Однако это не относится к крупномасштабным проектам ирригации или к более современным исследованиям выведения высокоурожайных сортов пшеницы, риса и кукурузы. Такие поддержанные государством новации обычно имеют большое значение для централизации.
[752] Ferguson James. The Anti-Politics Machine: «Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. Фергюсон убедительно показывает, как установившаяся власть международных и национальных агентств развития сущностно зависит от представления их деятельности нейтральной помощью научных специалистов.
[753] Можно бы было возразить, что в случае необходимости проведения больших ирригационных работ централизованная логика необходима для справедливого распределения права на воду между пользователями, которые находятся вверх и вниз по течению. Но факт состоит в том, что весьма большие системы ирригации были успешно организованы в течение сотен лет без централизованных политических властей, осуществляющих принудительные полномочия. Замечательное исследование, показывающее, как такая система работала и как она была почти разрушена «упрощениями», навязанными гидрологическими экспертами и агрономами от Азиатского банка развития, см.: Lansing J. Steven. Priests and Programmers: Technologies of Power in the Engineered Landscape of Bali. Princeton: Princeton University Press, 1991. Also useful is Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
[754] Цит. по: Marglin Stephen A. Farmers, Seedsmen, and Scientists: Systems of Agriculture and Systems of Knowledge (неопубликованная работа, май 1991 г., исправлена в марте 1992 г.). Изложение Марглина — глубокое исследование экологических и институциональных последствий научного сельского хозяйства. Его анализ систем знания перекликается с моими изысканиями по метису в гл. 9. Мы оба независимо друг от друга обнаружили ценность использования концепций греческой философии, чтобы различить практическое знание и дедуктивное. Я нахожу его обсуждение полезным и проясняющим. Анализ Марглина американской сельскохозяйственной практики полезно читать вместе с Fitzgerald Deborah. Yeomen No More: The Industrialization of American Agriculture (в печати).
[755] Marglin. Farmers, Seedsmen, and Scientists. P. 7.
[756] Термин «гибрид» изменил свой смысл. Первоначально он обозначал любое скрещивание, а теперь относится только к скрещиваниям между двумя «чистыми» линиями.
[757] Марглин обращает внимание на тесное сотрудничество между Департаментом сельского хозяйства Соединенных Штатов и большими семеноводческими компаниями, которые помогли ему достичь превосходства в гибридах кукурузы. Для пшеницыи риса, которые являются самоопыляющимися, улучшение урожаев может быть достигнуто применением новых генетически устойчивых видов. Marglin. Farmers, Seedsmen, and Scientists. P. 17.
[758] Так как в большинстве реальных экспериментов такой контроль реализуется лишь приближенно, каждый из них сопровождается многочисленными обсуждениями «посторонних» или других переменных, чем тех, на которые реагирует экспериментальный прибор. При этом результаты остаются неоднозначными до тех пор, пока не определятся дополнительные переменные.
[759] Marglin. Farmers, Seedsmen, and Scientists. P. 5.
[760] Feigenbaum Mitchell, цит. по Gleick James. Chaos: Making a New Science. New York: Penguin, 1988. P. 185.
[761] Лабораторная наука имеет дело со стандартизированной и очищенной природой (например, реактивами из каталога) и искусственными инструментами наблюдения. Надежность манипуляции с такими объектами создает успешность экспериментов и определенную уверенность в результатах лабораторной практики. См.: Porter Theodore M. Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. Chap. 1. Princeton: Princeton University Press, 1995. См. также: Hacking Ian. The Self-Vindication of the Laboratory Sciences // Andrew Pickering, ed. Science as Practice and Culture. Chicago: University of Chicago Press, 1992. P. 29-64.
[762] Berry. The Unsettling of America. P. 70—71. В принципе зависимой переменной, интересующей исследователя, может быть, например, пищевая ценность, время обработки, вкус или удобство хранения. Но исследование более управляемо, когда интересующая переменная менее субъективна и легче измеряется.
[763] Ngambeki D.S. and Wilson G.F. Moving Research to Farmers’ Fields // International Institute of Tropical Agriculture Research Briefs, 4:4, 1, 7-8, цит. по: Richards. Indigenous Agricultural Revolution. P. 143.
[764] Richards. Indigenous Agricultural Revolution. P. 143.
[765] Sauer. Agricultural Origins and Dispersals. P. 62-83.
[766] В дополнение к трудностям обнаружения «действующей» причины из многих возможных, изучение поликультурности должно было найти и обосновать критерии для сравнения различных комбинаций урожаев. Предположив одинаковые затраты, зададимся вопросом: какой урожай предпочтителен — в двести бушелей лимской фасоли или в триста бушелей зерна, в триста бушелей лимской фасоли или двести бушелей зерна? Как, используя рыночные цены (что означало бы, что ответ меняется от недели к неделе и от года к году), привести к общему знаменателю калорийность, пищевую ценность или какие-то другие параметры? Трудности накапливаются быстро.
[767] Это — версия Солнечной системы, которая учитывает все различные планеты, астероиды, близлежащие звезды и т. д.
[768] В 1977 г. Уэнделл Берри обратился к Департаменту сельского хозяйства США с риторическим вопросом: «Где контрольные участки, которые проверяют различные системы управления почвой? Где современные небольшие фермы, использующие тягловых животных, скромные технологии и альтернативные источники энергии? Где участки, свободные от сельскохозяйственных химикалий? Если они существуют, то это — лучше всего сохраняемая тайна нашего времени. Но если их нет, откуда берется авторитет научного сельского хозяйства? Без соответствующего контроля ничего нельзя доказать; все, что делается, в любом представительном смысле, есть только эксперимент» (The Unsettling of America. P. 206). С тех пор были сделаны некоторые сравнения, получены многие результаты, сообщенные в докладе и рекомендациях по органическому сельском хозяйству, подготовленных специальной командой Департамента сельского хозяйства (USDA) (Washington, 1980). Параллели c западноафриканской историей поразительны. В каждом случае некоторые методы были сочтены недостойными исследования отчасти потому, что они и те, кто их практиковал, считались отсталыми и неэффективными. Только тогда, когда аномалии и отдаленные последствия господствующих доктрин стали очевидными, эти методы были исследованы тщательно.
[769] Например, аспирин, долго используемый для снятия головной боли, имеет множество других полезных свойств, которые были обнаружены только недавно.
[770] По незнанию еще можно было доказывать, что ограничение болезни настолько ценно, что перевешивало любой вред, нанесенный окружающей среде. Но дело не в этом. Делов том,что в этом случае затраты были вне экспериментальной модели и никак не могли быть оценены.
[771] Raup Philip M. University of Minnesota, testifying before the U.S. Senate Small Business Committee (March 1, 1972), цит. по: Berry Wendell. The Unsettling of America. P. 171.
[772] Marglin. Farmers, Seedsmen, and Scientists. P. 33-38.
[773] См., например: Kloppenberg. First the Seed. Chap. 5. Харлан (Harlan. Crops and Man. P. 129), сообщает, что семена ячменя, оставленные в поле на пробу на 60 лет, дали 95% того урожая, который смогли бы за это время получить селекционеры, при почти наверняка большей выносливости и устойчивости выросшего ячменя к болезням.
[774] Классический пример исследования цикла развития семьи см.: Chayanov A.V. The Theory of Peasant Economy, introduction by Teodor Shanin. Madison: University of Wisconsin Press, 1986. Один из политических аргументов в пользу стабильной семейной фермы как учреждения — то, что она с большей вероятностью, чем капиталистическая фирма, будет стимулировать интерес следующих поколений к поддержанию или улучшению качества земли и окружающей среды. Та же самая логика традиционно используется для доказательства, что многие формы испольной системы и аренды ведут к разрушительной практике.
[775] Даже если все зерно на рынке одинаково, каждая разновидность будет отвечать уникальным требованиям к затраченному труду, характеристикам созревания и сопротивляемости, что весьма важно для тех, кто эту разновидность выращивает.
[776] Richards. Indigenous Agricultural Revolution. P. 124.
[777] Berry Wendell. Whose Head Is the Farmer Using? Whose Head Is Using the Farmer? // Wes Jackson, Wendell Berry and Bruce Coleman, eds. Meeting the Expectations of the Land: Essays in Sustainable Agriculture and Stewardship. San Francisco: North Point Press, 1984, цит. по: Marglin. Farmers, Seedsmen, and Scientists. P. 32.
[778] Berry. The Unsettling of America. P. 87. Я не считаю себя хорошим фермером в смысле Берри, но в трехакровом овечьем пастбище на моей маленькой ферме я могу различить по крайней мере шесть состояний почвы. Четыре из них кажутся непосредственно связанными с дренажом, а еще два как будто отражают наклон, солнечный свет и длительное влияние прошлого использования.
[779] Anderson. Plants, Man, and Life. P. 146.
[780] Howard. An Agricultural Testament. P. 185—186.
[781] Там же, p. 196.
[782] См.: Chayanov. The Theory of Peasant Economy. P. 53-194.
[783] По крайней мере, мы можем быть уверены, что он — лучший эксперт, поскольку дело касается его собственных интересов, независимо от того, полностью он уверен в них или нет.
[784] Jan Douwe van der Ploeg. Potatoes and Knowledge // Mark Hobart, ed. An Anthropological Critique of Development. London: Routledge, 1993. P. 209—227. Я признателен Стивену Гудмену за то, что он обратил мое внимание на эту работу.
[785] Сравни «кустарность» с термином «метис», который рассматривается в гл. 9.
[786] Можно понять, почему логика научного сельского хозяйства делает сторонников расширения непримиримыми врагами смешанного земледелия: для научного метода они вносят слишком много переменных в модель.
[787] Van der Ploeg. Potatoes and Knowledge. P. 213.
[788] В некотором смысле ирригация, стандартные удобрения, оранжереи, парники, гибридизация и клонирование представляют собой способы приспособления климата и окружающей среды к урожаю, а не наоборот. Все перечисленное Вернон В. Руттан назвал «заместителями земли». См.: Constraints on Design of Sustainable Systems of Agricultural Production // Ecological Economics. 1994. №10. P. 209—219.
[789] Одни сельскохозяйственные среды лучше поддаются абстрактной обработке, чем другие. С хорошо увлажненными богатыми почвами поймы, не подверженными эрозии, можно до известной степени обращаться как с научной абстракцией, а к хрупким, засушливым склонам, подверженным осыпанию и эрозии, необходимо относится с большой осторожностью.
[790] Yaney. The Urge to Mobilize. P. 445.
[791] Van der Ploeg. Potatoes and Knowledge. P. 222. Автор не определяет точных причин снижения урожая. Возможно, что настоятельно рекомендуемая монокультурность новой разновидности вызывает рост популяций вредителей и болезней, что она поглощает из почвы важные питательные вещества или повреждает ее структурные свойства, или генотип теряет свою энергию за два-три поколения.
[792] Это можно сравнить с открытием витаминов, в свое время важным и крупным достижением, которым теперь пользуются массы не нуждающихся в них людей, в дозировках, заставляющих вспомнить, что некоторые наши предки чувствовали себя защищенными, нося гирлянды чеснока вокруг шеи.
[793] Howard. An Agricultural Testament. P. 221.
[794] Там же, p. 160. Ричардс в своей работе Indigenous Agricultural Revolution, соглашается с этим: «Ни один студент не способен советовать фермерам изменить их методы ведения сельского хозяйства, пока он не приобретет надежное знание проблем из первых рук. Никто не доверит пилоту вести самолет на основе одного только знания учебника. Почему фермер должен дать право контроля и совета тому, кто, по всей вероятности, никогда прежде фермерством не занимался?» (p. 157).
[795] Howard, An Agricultural Testament. P. 116.
[796] См.: Timofeev Lev. Soviet Peasants, or The Peasants’ Art of Starving / Trans. Jean Alexander and Victor Zaslavsky, ed. New York: Telos Press, 1985, проницательное обсуждение экономики частного участка. Исключение составляла, возможно, говядина, но поставки свинины, баранины и куриного мяса в значительной степени обеспечивались частными участками или другими источниками вне государственных каналов.
[797] См.: Uchitelle Louis. Decatur // New York Times. 1993. June 13. P. Cl.
[798] Certeau Michel de. The Practice of Everyday Life (Arts de faire: Le pratique du quotidien) / Trans. Steven Rendall. Berkeley: University of California Press, 1984. См. также: Ranciere Jacques. The Names of History: On the Poetics of Knowledge / Trans. Hassan Melehy. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994.
[799] Detienne Marcel, Vernant Jean-Pierre. Cunning Intelligence in Greek Culture and Society / Trans. Janet Lloyd. Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1978, оригинал опубликован по-французски в Les ruses d’intelligence: La metis des grecs. Paris: Flammarion, 1974.
[800] Версия истории, которую я знаю, кажется, не определяет разновидности дуба, был ли он белым, красным, крупноплодным или каким-нибудь другим, или вид белки, которая была, наверное, обычной. Американские аборигены, вероятно, могли определить такие детали по контексту.
[801] В моем обращении к советам альманаха я игнорирую тот факт, что европейские поселенцы быстро разрабатывали свои собственные практические правила и как всякие фермеры обращали внимание на то, что делали другие земледельцы. Никто обычно не хочет первым пахать и сажать, но не хочет быть и последним.
[802] Цит. по: Hacking Ian. The Taming of Chance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 62. Обратите внимание, что даже в формуле Кьютелета вычисления должны начаться с непредсказуемого случая: «последний мороз». Так как дата последнего мороза может быть известна только ретроспективно, формула Кьютелета не может служить полезным руководством к действию.
[803] Эти термины, кажется мне, ограничивают такое знание «традиционными»
или «отсталыми» людьми,но я хочу подчеркнуть, что эти навыки
неявно существуют в наиболее современных из действий, совершаются
ли они на фабрике или в научно-исследовательской лаборатории.
«Местное знание» и «практическое знание» лучше выражают смысл,
но оба термина кажутся слишком ограниченными и статическими, чтобы
отобразить постоянное изменение, динамический аспект метиса.
Термин пришел к нам из греческой мифологии. Метис, первая невеста
Зевса, обманула Хроноса, дав ему проглотить траву, заставившую
его извергнуть старших братьев Зевса, которых Хронос проглотил, боясь,
что они восстанут против него. Зевс в свою очередь проглотил
Метис, таким образом присвоив себе весь ее ум и хитрость прежде,
чем она могла родить Афину. Афина была рождена из бедра Зевса.
[804] Различие между первыми, неуклюжими шагами малыша и походкой двухлетнего ребенка показывает меру сложности и необходимость «обучения на рабочем месте» для овладения таким очевидно простым навыком.
[805] Во время войны в Заливе со всех континентов были набраны команды, не обладающие достаточным опытом, чтобы справиться с беспрецедентным числом пожаров. Было испытано очень много новых методов и получено много нового полевого опыта. Одна команда была вынуждена использовать двигатель реактивного самолета (а не динамит или воду), чтобы буквально «задуть» пожар в устье скважины, как будто это была свеча на пироге в день рождения.
[806] Отчасти этот аспект командных спортивных состязаний делает результаты непредсказуемыми. То есть команда A может обычно побеждать команду B, а команда B может обычно побеждать команду C, но из-за специфического отношения навыков между командами A и C команда С может часто побеждать команду A.
[807] Даосизм подчеркивает этот вид знания и навыка. Сравните наблюдение
Цирса с наблюдением Чжуан Цзы: «Повар Тинг отложил
нож и ответил. Вот о чем забочусь — Путь, который идет вне навыка.
Когда я начал разделывать волов, все, что я мог видеть, был сам вол.
После трех лет я больше не видел целого вола. А теперь — теперь я
ведом этим духом и не смотрю глазами. Воспринимаю и понимаю, где
остановиться, а где продолжать. Я иду за природой, веду нож там, где
открывается путь, следую за вещами, как они есть. Так что я никогда
не перерезаю даже самой маленькой связки или сухожилия, я только
расчленяю» (Chuang Tzu. Basic Writings / Trans. Burton Watson. New
York: Columbia University Press, 1964. P. 47).
[808] Oakeshott Michael. Rationalism in Politics and Other Essays. New York: Basic Books, 1962. Как консервативный мыслитель в духе Берка, Оукшот стремится быть апологетом того, что прошлое завещало настоящему в смысле власти, привилегии и собственности. С другой стороны, его критика полностью рационалистических схем проекта человеческой жизни и его понимание непредвиденных обстоятельств практики проницательны и о многом говорят.
[809] Nussbaum Martha C. The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 302. Нусбаум особенно интересуется различиями между моральными системами, которые учитывают страсти и привязанности человеческой жизни, и закрытыми, самодовлеющими моральными системами, которые достигают «моральной безопасности и рациональной власти» за счет всей человеческой жизни. Платон, если понимать определенным образом «Пир», является образцом последнего, а Аристотель — образец первого.
[810] Я чрезвычайно обязан этим блестящим сравнением докторской диссертации Ammarell Gene. Bugis Navigation (Ph.D. diss. Department of Anthropology, Yale University, 1994). Анализ Аммарелла традиционных бугисских навигационных методов — наиболее четкое понимание местного технического знания, с которым я столкнулся.
[811] Сравни знание лоцмана со следующим наблюдением Bruce Chatwin’s (Songlines. London: Jonathan Cape, 1987): «Сущностью Австралии.. было сочетание микроклимата, различных минералов в почве и различных растений и животных. Человек, живущий в одной какой-то части пустыни, будет знать ее флору и фауну. Он знает, какие растения там растут. Он знает, где вода. Он знает, где под землей находятся клубни. Другими словами, зная все на своей территории, он может всегда рассчитывать на выживание... Но если завязать ему глаза и перевезти в другую часть страны,... он может потеряться и умереть с голоду» (p. 269).
[812] В дальнейшем изложении я всецело полагаюсь на обсуждения в: Nussbaum. The Fragility of Goodness, a также Marglin Stephen A. Losing Touch: The Cultural Conditions of Worker Accommodation and Resistance // Frederique Apffel Marglin and Stephen A. Marglin, eds., Dominating Knowledge: Development, Culture, and Resistance. Oxford: Clarendon, 1990. P. 217—282. Доводы Марглина были изложены в двух последовательных работах: Farmers, Seedsmen, and Scientists: Systems of Agriculture and Systems of Knowledge (неопубликованная статья, май 1991 г., переработана в марте 1992 г.); Economics and the Social Construction of the Economy // Stephen Gudeman and Stephen A. Marglin, eds. People’s Ecology, People’s Economy (в печати). Читатели обоих текстов обратят внимание на различное использование Нуссбаум и Марглином термина «техне». Для Нуссбаум техне аналогичен эпистеме, по крайней мере, в работах Платона, но оба термина резко отличаются от метиса, или практического знания. Марглин использует слово «techne» («T/знание») почти таким же способом, каким я использую «метис», и резко отличает это слово от «episteme» (E/знание). Я решил принять терминологию Нуссбаум, которая убедила меня, что ее использование имеет более сильное основание в оригинальных текстах Платона и Аристотеля. Пьер Видаль-Наке также поддерживает понимание Нуссбаум: «Как справедливо отмечает Дж. Камбиано, в платоническом представлении эпистеме, динамис и техне включаются в систему концепций, которые взаимно укрепляют друг друга, — пишет он. — Республика, например, принимает под контроль математики подразделения, составленные из техне, дианойи и эпистеме: навыки, интеллектуальные процессы и науки (The Black Hunter: Forms of Thought and Formsof Society in the Greek World / Trans. Andrew Szegedy-Maszak. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1986. P. 228). Даже в этом случае те, кто знакомы с аргументацией Марглина, обратят внимание, как, обрисовывая формальные сравнения, я положился на его противопоставления, не используя его термины.
[813] Насколько я помню, это справедливо только на уровне моря, как со стандартной температурой для точки кипения воды. Следовательно, постоянство и универсальное соглашение фактически связаны с зависимостью от высоты.
[814] Цит. по: Nussbaum. The Fragility of Goodness. P. 95.
[815] Существует большая и быстро возрастающая литература, посвященная практике или этнометодологии науки, особенно лабораторному эксперименту. В большинстве таких публикаций подчеркивается различие между фактической научной практикой, с одной стороны, и ее кодифицируемой формой (в статьях и сообщениях лаборатории, например), с другой. Введение в эту литературу см.: Latour Bruno. Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Cambridge: Harvard University Press, 1987; Hacking Ian. The Self-Vindication of the Laboratory Sciences // Andrew Pickering, ed. Science as Practice and Culture. Chicago: University of Chicago Press, 1992. P. 29—64; Pickering Andrew. From Science as Knowledge to Science as Practice. Там же, p. 1—26. См. также: Pickering. Objectivity and the Mangle of Practice // Allan Megill, ed. Rethinking Objectivity. Durham: Duke University Press, 1994. P. 109-125.
[816] Marglin. Losing Touch. P. 234.
[817] Различные способы осмысления этой философской проблематики обсуждаются в Polanyi Michael. Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy. Chicago: University of Chicago Press, 1958.
[818] Detienne, Vernant. Cunning Intelligence. P. 3—4.
[819] Nussbaum. The Fragility of Goodness. Chaps. 5 and 6.
[820] Там же, p. 238.
[821] Я использую форму мужского рода, поскольку Платон говорит о том, что самая высокая форма любви — это любовь между мужчинами и мальчиками.
[822] Музыка, в некотором смысле, чистая форма, но Платон относился с глубоким подозрением к эмоциональной привлекательности музыки и фактически полагал, что идеальная республика должна запретить некоторые ее виды.
[823] Критика социологии могла бы взять это наблюдение за отправную точку. Заимствуя престиж научного языка и методов у биологических наук, многие социологи попытались воспроизвести объективный, точный и строго воспроизводимый набор методов, который дает беспристрастные и количественные ответы. Таким образом, в большинстве видов формального политического анализа и анализа сравнения пользы с затратами пытаются путем героических предположений и неправдоподобной метрики для сопоставления несоизмеримых переменных дать количественный ответ на трудные вопросы. В результате беспристрастность и воспроизводимость достигаются за счет точности. Краткий и убедительный анализ этих направлений можно найти в: Porter Theodore M. Objectivity as Standardization: The Rhetoric of Impersonality in Measurement, Statistics, and Cost-Benefit Analysis // Allan Megill, ed. Rethinking Objectivity. Durham: Duke University Press, 1994. P. 197—237.
[824] Marglin. Farmers, Seedsmen, and Scientists. P. 46.
[825] Bentham Jeremy. Pauper Management Improved, cited in Nussbaum. The Fragility of Goodness. P. 89.
[826] См.: Hacking. The Taming of Chance. Уоррен Вивер давно уже различал то, что он называл «дезорганизованной сложностью», с которой можно иметь дело благодаря статистическим методам, учитывающим средние результаты, и «организованной сложностью» (особенно в органических системах), которая не поддается таким методам, поскольку сложность неслучайных, системных отношений не позволяет нам полностью понять эффекты даже первого порядка вмешательства, не говоря уже о втором или третьем (Science and Complexity // American Scientist. 1948. Vol. 36. P. 536—544).
[827] Marglin. Economics and the Social Construction of the Economy. P. 44—45.
[828] Но если фокусировать внимание на экономике, все-таки можно кое-чего добиться. Об этом свидетельствуют усилия Уильяма Д. Нордхауса справиться с такими экологическими проблемами, как глобальное потепление, часто с приемлемой точностью. См.: Nordhaus. To Slow or Not to Slow: The Economics of the Greenhouse Effect // Economic Journal. 1991. July. P. 920—937.
[829] Marglin. Economics and the Social Construction of the Economy. P. 31. Марглин также описывает и подвергает критическому анализу попытки в пределах эпистемической экономики иметь дело с такими проблемами, как общественное благо, стабильность и неопределенность. Фридрих Хаек скептически относился к таким попыткам: «То заблуждение, что продвижение теоретического знания позволит нам уменьшить сложные взаимосвязи и свести их к установлению конкретных фактов, часто ведет к новым научным ошибкам... Такие ошибки возникают в значительной степени из-за претензий на знания, которыми на деле никто не обладает и которое даже прогресс науки обеспечит не скоро» (Studies in Philosophy, Economics, and Politics. Chicago: University of Chicago Press, 1967. P. 197).
[830] В крайнем варианте эта стратегия аналогична прослеживанию числа жертв во время вьетнамской войны — метод, который предлагал по крайней мере одну точную меру, как считали, для военного прогресса.
[831] Nussbaum. The Fragility of Goodness. P. 99.
[832] Там же, p. 302.
[833] Там же, p. 125. Таким образом, в «Федре» Сократ, устами которого говорит Платон, сожалеет об изобретении письма и заявляет, что книги не могут отвечать на вопросы. Он приводит доводы в пользу органического единства произведения искусства, чьи аргументы и стиль должны принять во внимание предполагаемую аудиторию. В своем «Седьмом письме» Платон пишет, что его самые глубокие поучения еще не написаны. Rutherford R.B. The Art of Plato: Ten Essays in Platonic Interpretation. London: Duckworth, 1996.
[834] См.: Conklin Harold. Hanunoo Agriculture: A Report on an Integral System of Shifting Cultivation in the Philippines. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1957.
[835] Levi-Strauss Claude. La pensee sauvage. Paris: Plon, 1962.
[836] Но как только трактор появился (особенно мощный трактор), он был изобретательно усовершенствован фермерами и механиками, чтобы служить целям, которые его изобретатели и вообразить не могли.
[837] Ближе к концу главы я расскажу в связи с этим, как малайский крестьянин избавил дерево манго от нашествия рыжих муравьев.
[838] Hobby Gladys L. Penicillin: Meeting the Challenge. New Haven: Yale University Press, 1985.
[839] Анил Гупта, статья, представленная на съезд под названием «Agrarian Questions: The Politics of Farming Anno 1995». May 22—24. 1995. Wageningen, The Netherlands. Тот факт, что за прошлые два или три десятилетия научно-исследовательские лаборатории начали инвентаризировать и изучать большое число традиционных лекарств, — признак большого числа результатов, которые метис завещал современной медицине и фармакологии. О вопросе права собственности на такие изделия см.: Kloppenberg Jack Ralph. Jr., First the Seed: The Political Economy of Plant Biotechnology, 1492-2000. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
[840] Defoe Daniel. Journal of the Plague Year (1722; Harmondsworth: Penguin, 1966). Стоит отметить, что эти хитрости больше подходили богатым, чем бедным. В результате чума косила большей частью бедных лондонцев.
[841] Marglin Frederique Apffel. Smallpox in Two Systems of Knowledge // Marglin and Marglin, Dominating Knowledge. P. 102—144.
[842] Существуют различные модели научной медицины, и некоторые из них требуют существенно иного взгляда, чем стандарт аллопатической практики. Дарвиновская медицина смотрит на адаптивные функции иначе, чем на патологические состояния. Один из примеров — ранний токсикоз у многих женщин в течение первой трети срока беременности. Многие объясняют это адаптивным отторжением пищевых продуктов, особенно плодов и овощей, которые наиболее вероятно содержат токсины, вредные для зародыша. Другим примером может служить жар во время обычного гриппа или простуды, который, как думают, является адаптивным механизмом для вызова элементов иммунной системы, чтобы сразиться с инфекцией. Если признать дарвиновский взгляд справедливым, следует ответить на вопрос, каковы полезные или, точнее, адаптивные функции у данного медицинского состояния. Конечно, взгляд на заболевания растений под этим углом зрения мог бы привести к новому пониманию. Доступное введение в эту проблематику см.: Nesse Randolph M., Williams George C. Evolution and Healing: The New Science of Darwinian Medicine. London: Weidenfeld and Nicolson, 1995.
[843] B изложении Ф.А. Марглина многое связано с несомненно хорошо направленными, но принудительными усилиями британцев для прекращения оспопрививания и замены его вакцинацией, так же как и народное сопротивление этим усилиям. Марглин предполагает, что британцы довольно быстро заменили оспопрививание вакцинацией, но Сумит Гуха, индийский коллега, также изучавший этот вопрос, сомневается, что у британцев были персонал и власть уничтожить оспопрививание так быстро.
[844] Hopkins Donald R. Princes and Peasants: Smallpox in History. Chicago: University of Chicago Press, 1983. P. 77, цит. по: Marglin. Losing Touch. P. 112. О научной карьере вакцинации и ее применении к сибирской язве и бешенству см.: Geison Gerald L. The Private Science of Louis Pasteur. Princeton: Princeton University Press, 1995.
[845] Как всегда бывает с болезнями, которые кажутся неизлечимыми, буквально тысячи специалистов конкурировали за право их лечения или предупреждения.
[846] Howard Albert. An Agricultural Testament. London: Oxford University Press, 1940. P. 144 (курсив оригинала). Говард перефразирует здесь работу Лоудермилка, и хотя он не дает ссылку, я полагаю, что имеется в виду A.B.C. Лоудермилк, который посетил Базутолан в 1949 г. и бумаги которого находятся в мемориальной библиотеке Стерлинга Йельского университета.
[847] Что касается реактивных двигателей, работа которых «остается печально известным примером неуверенности в их дальнейшем поведении» и которые должны регулироваться инженерами с большим опытом после испытания их поведения в полете, см.: Rosenberg Nathan. Inside the Black Box: Technology and Economics. New York: Cambridge University Press, 1982. P. 120-141. Розенберг поясняет, что пределы научной методологии в этом случае ограничены невозможностью предсказать взаимодействие огромного числа независимых переменных (включая различные технологии) при работе реактивного двигателя. См. также: Arrow Kenneth. The Economics of Learning by Doing // Review of Economic Studies. 1962. June. P. 45—73.
[848] Lindblom Charles E. The Science of Muddling Through // Public Administration Review. 1959. № 19 (Spring). P. 79-88. Через 20 лет после того, как эта статья появилась, Линдблом расширил аргументацию в другой статье с броским названием: «Still Muddling, Not Yet Through». См.: Lindblom. Democracy and the Market System. Oslo: Norwegian University Press, 1988. P. 237—259.
[849] Lindblom. Still Muddling, Not Yet Through.
[850] Hirschman Albert O. The Search for Paradigms as a Hindrance to Understanding // World Politics. 1970. №22 (April). P. 243.
[851] Неявное знание — основной элемент дискурса в философии и психологии познания. См., например: Ryle Gilbert. Concept of the Mind New York: Barnes and Noble, 1949, чье различие между «знанием, как» и «знанием, что» аналогично моему различению метиса и эпистеме, а также Bruner Jerome. On Knowing: Essays for the Left Hand. Cambridge: Belk-nap Press, Harvard University Press, 1962.
[852] Передачи в баскетболе можно изобразить схематически и даже преподавать, но способность делать их в движении и натиске реальной игры, увы, совсем другое дело.
[853] Подобная история существует о человеке, умиравшем в больнице Чикаго от болезни, которую врачи не могли диагностировать. Хотя они знали, что в поездках его за границу он мог подхватить тропическую болезнь, их тесты и исследования были напрасны. Однажды опытный доктор из Индии, проходя по палате с коллегой, вдруг остановился, потянул воздух и сказал: «Здесь лежит человек с X» (я не помню название болезни). Он был прав, но, к сожалению, пациента спасти уже не удалось.
[854] Howard. An Agricultural Testament. P. 29—30.
[855] Марглин заметил, что слово «искусный» несет идею опытного знания ремесла вместе с образом «хитрости», что и означает «метис». См.: Economics and the Social Construction of the Economy. P. 60.
[856] Бугисские мореплаватели — исключительно проницательные наблюдатели своей среды — моря, собрали великое множество признаков, позволяющих предсказывать погоду, ветер, подход к берегу и потоки. Преобладающий цвет радуги имеет свой смысл: желтое означает, что будет много дождей, синее — сильный ветер. Утренняя радуга на северо-западе указывает на начало западного муссона. Если рельс (по которому бьют) гудит «кеч, кеч, кеч», это означает изменение ветра. Когда птицы парят высоко, не позднее чем через два дня будет дождь. Многие из этих надежных признаков, наверное, можно было бы объяснить и «с научной точки зрения», но они служили быстрыми, точными, а иногда и спасительными сигналами для целых поколений.
[857] Ammarell. Bugis Navigation. Chap. 5. P. 220—282.
[858] Альтернативой, темой все возрастающих публикаций, является термин «местное знание», или «местное техническое знание». Хотя я не имею ничего против него, поскольку он указывает на навыки и опыт уже находящихся во владении субъекта схем развития, в чьих-то руках это означает нечто отдельное, самодостаточное и оппозиционно настроенное в отношении современного научного знания, в то время как фактически оно постоянно изменяется благодаря экспериментированию и контактам с внешней средой. Два исключительно проницательных критических анализа термина см.: Gupta Akil. The Location of “the Indigenous” in Critiques of Modernity // Ninety-First Annual Meeting of the American Anthropological Association. San Francisco, 1992. Dec. 2—6; Agrawal Arun. Indigenous and Scientific Knowledge // Indigenous Knowledge and Development Monitor. 1996. Vol. 4, №1 (April). P. 1—11, и комментарии там. См. также: Agrawal. Dismantling the Divide Between Indigenous and Scientific Knowledge // Development and Change. 1995. Vol. 26, №3. P. 413—439.
[859] Основные аргументы по этому поводу см.: Hobsbawm Eric, Ranger T.O. The Invention of Tradition. New York: Cambridge University Press, 1983. Хотя Хобсбоум и Рейнджер больше заняты традициями, «изобретенными» элитами для того, чтобы узаконить свое правление, их общее мнение о недостаточной старине многих так называемых традиций хорошо устоялось.
[860] Я не говорю здесь о таких связанных проблемах, когда люди с готовностью отказываются от привычек и норм, стоящих близко к центру их самоидентификации: ритуалах смерти, религиозных убеждениях, идей о дружбе и т. д. Один из наиболее любопытных и важных аспектов адаптации состоит в том, что бедные и маргинальные часто идут в авангарде инноваций, которые не требуют капитала. Это не удивительно, поскольку они полагают, что для бедных азартная игра имеет смысл, если их текущая практика не дает хорошего результата. Иногда, когда целое сообщество или культура испытывают подавляющее чувство бессилия, когда его категории больше не имеют смысла в мире, такие азартные игры длятся тысячелетия, обрастают пророками, указывающими новый путь. Колониальное завоевание доиндустриальных народов, крестьянская война в Германии во время Реформации, гражданская война в Англии и Французская Революция, кажется, принадлежат к этой категории.
[861] Ferguson James. The Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
[862] См. тщательную разработку концепции гибридизации Артуро Эскобаром в Marglin and Gudeman, People’s Economy, People’s Ecology.
[863] Oakeshott. Rationalism in Politics // Rationalism in Politics. P. 31.
[864] Oakeshott. The Tower of Baal // Rationalism in Politics. P. 64.
[865] Если в таких обществах новации, чтобы быть принятыми, должны быть совместимы с традицией, это — еще одна причина пластичности традиции.
[866] Доступ к кодифицируемому эпистемическому знанию резко ограничен и такими социальными метками, как богатство, род, социальное положение, а в развитых странах еще и регион. Различие состоит в том, что в развитых обществах в принципе тайны медицины, науки, инженерии, экологии и т. д. открыты, доступны всем для использования и изменения.
[867] Само собой разумеется, что постоянно создаются новые формы метиса. В эту категорию попадает и компьютерное хулиганство. Метис, как должно быть вполне ясно, вездесущ, он существует в современном обществе и в менее современных, и, возможно, критическое различие — то, что в сравнении с доиндустриальными обществами современные общества особенно уверены в кодифицируемом, эпистемическом знании, передаваемом через формальное обучение.
[868] Ammarell. Bugis Navigation. P. 372.
[869] Несомненно, долгое ученичество было не только необходимым для обучения молодого ремесленника, но и тонко замаскированной формой эксплуатации, предназначенной увеличить прибыль владельца.
[870] Желание контроля над процессом работы — не просто предпосылка
к получению прибыли; это требование, предъявляемое к способности
менеджеров преобразовать процесс работы для приспособления к рынку
и учета требований начальников. Кен С. Кустерер называет контроль
над производственным процессом «способностью фирмы править».
См.: Kusterer. Know-How on the Job: The Important Working Knowledge
of «Unskilled» Workers. Boulder: Westview Press, 1978.
[871] Marglin. Losing Touch. P. 220.
[872] Там же, p. 222. Но, как вскоре обнаружили капиталисты, одно из преимуществ такой системы производства состояло в том, что она была менее подвержена крупномасштабным индустриальным забастовкам и поломкам оборудования.
[873] Taylor, цит. там же, p. 220.
[874] Как замечает Марглин, «только краткий конспект знания рабочих в форме эпистеме, к которому один менеджмент имеет доступ, обеспечит устойчивое основание для организационного контроля» (там же, p. 247).
[875] Noble David F. Forces of Production: A Social History of Automation. New York: Oxford Press, 1984. P. 250, цит. там же, p. 248.
[876] Noble. Forces of Production. P. 277, цит. по: Marglin. Losing Touch. P. 250.
[877] Цит. по: Know-How on the Job. P. 50.
[878] Вот почему до подоходного налога администраторы более старых систем налогообложения считали, что легче всего оценивать налоги, полагаясь исключительно на факт постоянного владения землей или реальной собственностью.
[879] Область социологии, занимающаяся анализом главного агента, посвящена различным методам, с помощью которых человека можно убедить делать то, чего от него хотят другие. Понятно, что самое непосредственное применение ее выводы находят в науке управления.
[880] Watts Michael J. Life Under Contract: Contract Farming, Agrarian Restructuring, and Flexible Accumulation // Michael J. Watts and Peter O. Little, eds. Living Under Contract: Contract Farming and Agrarian Transformation in Sub-Saharan Africa. Madison: University of Wisconsin Press, 1974. P. 21-77. См. также: Pred Allan and Watts Michael J. Reworking Modernity: Capitalism and Symbolic Discontent. New Brunswick: Rutgers University Press, 1992.
[881] Такая система включает не только производство цыплят, но и фермы, которые выращивают некоторые виды продуктов питания. Контрактное сельское хозяйство было широко распространено в третьем мире для овощеводства, а недавно и на разведение свиней.
[882] Однородность достигнута вначале, конечно, посредством научного разведения.
[883] Цит. по: Oakeshott. Rationalism in Politics. P. 20.
[884] Цит. там же, p. 5.
[885] Воспринимая то неимоверное благодушие, с которым Оукшот расценивает пришедшее к нему из прошлого наследие привычек, способов поведения, морали, практически невозможно не задаться вопросом: а могли ли бы евреи, женщины, ирландцы или рабочий класс в целом чувствовать себя столь же одаренными историей, как и этот оксфордский преподаватель?
[886] Marglin Stephen A. Economics and the Social Construction of the Economy // Stephen Gudeman and Stephen Marglin, eds. People’s Ecology, People’s Economy (в печати).
[887] Hirschman Albert O. The Search for Paradigms as a Hindrance to Understanding // World Politics. 1970. №22 (April). P. 239. В другом месте Хиршман рассматривает вообще задачи социологии таким же способом: «Но после того, как столь многие пророчества потерпели неудачу, ведь не в интересах социологии пытаться охватить сложность, быть жертвой требования прогнозирующей силы?» (Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, Destructive, or Feeble? // Journal of Economic Literature. 1982. №20 [Dec]. P. 1463—1484).
[888] Цит. по: Penrose Roger. The Great Diversifier // A review of Freeman Dyson, From Eros to Gaia, in the New York Review of Books. 1998. March 4. P. 5.
[889] Как и все чисто практические правила, это правило не абсолютно. Оно не годится, например, если случилось несчастье и необходимо быстро принимать решение.
[890] Это, как мне кажется, самый сильный аргумент против высшей меры наказания для тех, кого нельзя убедить другими аргументами.
[891] Leopold Aldo. цит. по: Worster Donald. Nature’s Economy, 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 1994. P. 289.
[892] Типичное социологическое решение проблем этого вида состоит в том, чтобы превратить их в количественное упражнение, скажем, опрашивая граждан, для того чтобы оценить благосостояние сообщества по какой-то шкале.
[893] «Все становится кристально ясным после того, как вы свели реальность к одному-единственному из тысячи ее аспектов. Вы знаете, что делать... К тому же есть совершенная шкала для измерения степени успеха или неудачи.. Дело в том, что реальная сила теории состоит в безжалостном упрощении, которое превосходно переходит в умственные образы, созданные феноменальными успехами науки. Сила науки также проистекает от редукции действительности к тому или другому из многих ее аспектов, прежде всего редукции качества к количеству» (Schumacher E.F. Small Is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered. London: Blond and Briggs, 1973. P. 272—273).
[894] См.: John Brinckerhoff Jackson. Sense of Place, a Sense of Time. New Haven: Yale University Press, 1994. P. 190.
[895] Этим пониманием я во многом обязан Colin Ward’s Anarchy in Action. London: Freedom Press, 1988. P. 110—125.
[896] Личное впечатление на первом съезде ассоциации ученых-аграриев «Аграрная реформа в СССР», проходившего в Москве 24—28 июня 1991 г.
[897] Müller Birgit. Toward an Alternative Culture of Work: Political Idealism and Economic Practices in a Berlin Collective Enterprise. Boulder: Westview Press, 1991. P. 51—82.
[898] Daly Herman E. Policies for Sustainable Development // Program in Agrarian Studies, Yale University, New Haven, 1996, Febr. 9. P. 4.
[899] Там же, p. 12—13. Дэли добавляет: «В пределе все другие разновидности становятся культивируемым естественным капиталом, разводимым, управляемым при меньшем населении, чтобы оставить больше места для людей и их мебели. Инструментальными ценностями вроде избыточности, способности к восстановлению, стабильности, надежности пришлось бы пожертвовать вместе с присущей человеческой разновидности ценностью разумной жизни в интересах «эффективности», определенной как нечто увеличивающее человеческий масштаб» (p. 13).
[900] Я благодарен моему коллеге Аруну Агравалу за то, что он подчеркнул это обстоятельство.
[901] Классическую разработку этого аргумента, эмпирически основанного на многих случаях, можно найти в: Netting Robert M. Smallholders, Householders: Farm Families and the Ecology of Intensive, Sustainable Agriculture. Stanford: Stanford University Press, 1993.
[902] См. важную кингу: Mingione Enzo. Fragmented Societies: A Sociology of Economic Life Beyond the Market Paradigm. Oxford: Basil Blackwell, 1991.
[903] Putnam Robert. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press, 1993.
[904] Этот порядок имен павших, на котором настаивала Майя Лин, вызвал большую полемику во время постройки Мемориала.
[905] Около Вьетнамского Мемориала стоит скульптурная группа, изображающая небольшую команду солдат, несущих раненого товарища. Эта группа была изначально предложена многими организациями ветеранов, которые выступили против существующего памятника.
[906] Иносказательно сопоставимая логика может быть применена к детским площадкам, см.: Play as an Anarchist Parable. Chap. 10 in Ward, Anarchy in Action. P. 88—94.
