Новое издательство, 2017
Перевод: Ирина Владимировна Троцук ISBN: 978-5-98379-200-5
Джеймс Скотт
Искусство быть неподвластным
Анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии

Предисловие к русскому изданию
Глава 1. Холмы, долины и государства. Введение в историю Зомии
Последнее великое огораживание
Великое горное царство — Зомия, или Пограничные территории материковой Юго-Восточной Азии
Исторический симбиоз гор и равнин
Модель анархической истории материковой Юго-Восточной Азии
Компоненты политического порядка
Глава 2. Государственное пространство. Контролируемые и захваченные территории
География государственного пространства и сопротивление ландшафта
Картографирование государственного пространства в Юго-Восточной Азии
Глава 3. Концентрация человеческих ресурсов и зерна. Рабство и поливное рисоводство
Государство как центростремительная демографическая машина
Формирование государственных ландшафтов и подданных
Искоренение вариативного сельского хозяйства
Е pluribus ипит (из многих — единое): креольский центр
Государственное пространство как самоликвидирующееся
Глава 4. Цивилизация и бунтари
Равнинные государства и высокогорные народы: враждебные близнецы
Экономическая потребность в варварах
Адаптация чужой атрибутики: все этапы пути
Отказ от государства и переход в варварство
Глава 5. Как удержать государство на расстоянии. Заселение горных районов
Повсеместность бегства от государства и его причины
Повстанцы и раскольники в горах
Перенаселенность, болезни и экология государственного пространства
Сопротивление расстояния: государства и культура
Мини-зомии — засушливые и влажные
Независимость как форма идентичности избегающих государства народов
Глава 6. Бегство от государства и предотвращение государства. Роль культуры и сельского хозяйства
Предельный случай: «скрывающиеся деревни» каренов
Размещение, размещение, еще раз размещение и мобильность
Подсечно-огневое земледелие как форма «сельского хозяйства беглецов»
Подбор культур в сельском хозяйстве беглецов
Подсечно-огневое земледелие Юго-Восточной Азии как форма бегства от государства
Сельскохозяйственные культуры беглецов в Юго-Восточной Азии
Социальная структура беглых сообществ
Отказ от государственности и устойчивых иерархий
В тени государства, в тени холмов
Глава 6½. Устная традиция, письменность и тексты
Устные истории об утрате письменности
Ограничения грамотности и прецеденты ее утраты
Ограничения письменности и преимущества устной традиции
Преимущества жизни без истории
Глава 7. Этногенез. Случай радикального конструктивизма
Родоплеменной строй и этническая принадлежность: отсутствие взаимосвязи
Создание государства как космополитический процесс
Идентичности: проницаемость, множественность, подвижность
Радикальный конструктивизм: племена умерли — да здравствуют племена
Сохранение генеалогического своеобразия
Логика позиционирования в социальном пространстве
Эгалитаризм: способ предотвращения государства
Талант к пророчествам и восстаниям: хмонги, карены и лаху
Теодицея маргиналов и обездоленных
Внезапный радикальный переворот: социальная структура окончательного бегства от государства
Космологии этнического сотрудничества
Христианство: ресурс дистанцирования и модернизации
Бегство от государства и предотвращение государства: глобальные и локальные стратегии
Говорят, история народов, у которых она в принципе есть, — это история классовой борьбы. Впрочем, не менее истинно утверждение, что история народов, таковой не обладающих, — это история борьбы с государством.
— Пьер Кластр. Общество против государства
Предисловие к русскому изданию
Я бесконечно горд тем обстоятельством, что моя книга нашла отклик в российской интеллектуальной среде, несмотря на то что по большей части она посвящена крестьянству Юго-Восточной Азии — региона, который вряд ли входит в число важнейших элементов, формирующих культурную и научную картину мира россиян. Отчасти моя гордость объясняется и тем, что именно русским ученым я многим обязан в своем профессиональном становлении. Поясню, что я имею в виду.
Над моим письменным столом висят фотографии трех ученых, чьей проницательности, начитанности, образованности и приверженности идеалам свободы я всегда стремился подражать. Это Эдвард Томпсон, Марк Блок и Александр Васильевич Чаянов. Работа Чаянова «Очерки по теории трудового хозяйства» стала для меня постоянным источником вдохновения с того самого момента, как я прочитал ее более сорока лет назад. Для меня она — яркий пример того, сколь важным для теоретического поиска может оказаться скрупулезное и внимательное к деталям эмпирическое исследование сельскохозяйственных практик. Я всегда слежу, чтобы ни один из моих студентов не покинул стены университета с дипломом, не побывав в серьезнейших «отношениях» с работой Чаянова.
Следует отметить, что двое изображенных на висящих над моим столом фотографиях людей — Марк Блок и Александр Чаянов — были уничтожены тоталитарными режимами, и их трагические кончины разделяет промежуток времени менее чем в десять лет. Кто знает, какие еще их тексты мы могли бы прочесть, если бы провидение дозволило им общаться со своими музами до преклонного возраста? Впрочем, некоторое представление об этом дают поразительные поздние работы Эдварда Томпсона — единственного из трех моих героев, кто мирно почил в собственной постели.
То, как у меня оказалась фотография Александра Чаянова, — типичный пример известного русского великодушия и широких жестов. В 1989 году я по приглашению Теодора Шани на впервые приехал в Россию на конференцию. На ней был сын Чаянова Василий, и за чашкой кофе я упомянул, что моя заветная мечта — повесить портрет его отца над своим рабочим столом. На следующий же день он принес на конференцию семейный фотоархив и настоял, чтобы я забрал все фотографии, выбрал ту, что мне больше всего понравится, и вернул ему остальные. Это удивительное проявление великодушия и доверия настолько глубоко тронуло меня, что я до сих пор отчетливо его помню.
Я также должен упомянуть, что всегда был страстным почитателем русской литературы, начиная с произведений И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского и заканчивая прозой Варлама Шаламова о ГУЛАГе. Мой коллега Александр Никулин был моим проводником в этом литературном мире — проницательным и с прекрасным чувством юмора. Ему и Теодору Шанину я хочу выразить благодарность и за незабываемые исследовательские поездки в Саратов и Карелию.
Мне крайне интересно, как российский читатель воспримет мою книгу о горных народах Юго-Восточной Азии, которые на протяжении последних двух тысячелетий отказывались становиться крестьянами, предпочитая оставаться свободными земледельцами, охотниками и собирателями. Они создавали такие формы сельского хозяйства, социальной структуры, пространственной мобильности и даже культуры, которые могли помочь им держать от себя государство на почтительном расстоянии, и вплоть до недавнего времени были в этом весьма успешны. Хотя я лишь мельком упоминаю это в книге, у России есть и собственная впечатляющая история избегания государства, в чем мы можем убедиться на примере казаков, старообрядцев и охотников, описанных в книге В. К. Арсеньева «Дерсу Узала».
— Январь 2015 года
Предисловие
Зомия — новое обозначение практически всех территорий, расположенных на высоте более чем триста метров над уровнем моря от центральных высокогорий Вьетнама до северо-востока Индии и пересекающих пять государств Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Таиланд и Бирму) и четыре провинции Китая (Юньнань, Гуйчжоу, Гуанси и частично Сычуань). Это пространство площадью 2,5 миллиона квадратных километров заселено сотней миллионов представителей различных меньшинств, формирующих изумительную по своему этническому и лингвистическому разнообразию общность. С географической точки зрения речь идет о материковом массиве Юго-Восточной Азии. Эта огромная территория находится на периферии девяти государств, не оказываясь при этом в центре ни одного из них; она простирается вопреки традиционным региональным обозначениям (Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, Южная Азия) и край не интересна не только своим экологическим разнообразием, но и взаимоотношениями с окружающими государствами, а потому представляет собой неизведанный объект изучения, своеобразные многонациональные Аппалачи, требующие нового подхода к страноведению.
Моя концепция проста, соблазнительна и спорна. Зомия — крупнейший из сохранившихся на Земле регионов, чьи народы до сих пор не были поглощены национальными государствами. Ее дни сочтены, хотя еще совсем недавно подобные самоуправляющиеся общности составляли большую часть человечества. Сегодня равнинные государства воспринимают их как «живых предков», тех, «кем они сами были до того, как изобрели поливное рисоводство, буддизм и цивилизацию». Я же, наоборот, считаю, что жителей гор следует воспринимать как сообщества беглецов и бродяг, сознательно выбравшие для жизни необитаемые территории и в течение двух тысячелетий спасавшиеся от угнетения, с которым было сопряжено государственное строительство на равнинах, — от рабства, воинской повинности, налогов, барщины, эпидемий и войн. Бóльшую часть районов, где они проживают, можно назвать осколочными зонами, или убежищем.
Практически все в жизни населяющих эти зоны народов, включая социальную организацию, идеологию и (что более спорно) в основном устную культуру, следует воспринимать как стратегические решения, принятые, чтобы удержать государство на рас стоянии. Территориальное рассеяние на пересеченной местности, мобильность, земледельческие практики, структуры родственных связей, подвижные этнические идентичности, приверженность харизматическим лидерам-пророкам были эффективными средствами избежать инкорпорирования в окружающие государственные образования и предотвратить появление аналогичных им институциональных структур. Конкретное государство, от которого бежало большинство этих народов, — ранняя китайская империя династии Хань. Истории о подобных бегствах зафиксированы во множестве горных легенд. Документальные источники, если и не вполне достоверные до 1500 года, позже хорошо описывают постоянные военные кампании против горных народов при китайских императорах династий Мин и Цин, приведшие к беспрецедентным восстаниям на юго-западе Китая в середине XIX века, после чего миллионы жителей страны стали беглецами. Отток населения из бирманского и тайского государств, промышлявших работорговлей, также подробно задокументирован.
Я надеюсь, что моя аргументация подходит не только для той части Азии, о которой я, собственно, пишу. Огромный пласт литературы, посвященной современному государственному строительству и его истории, практически не обращает внимания на его прямую противоположность — целенаправленную и принципиально-активную безгосударственность. Это история людей, избежавших государственной жизни; и без этой версии событий невозможно понять историю становления государств, а потому речь, по сути, идет об анархической истории.
Подобная версия исторического процесса автоматически включает в него все те народы, что были вытолкнуты из принудительных форм государственного строительства и основанных на рабском труде социальных систем, — цыган, казаков, многоязычные племена, состоявшие из беглецов из испанских колоний в Новом Свете и на Филиппинах, коммуны беглых рабов, болотных арабов, сан-бушменов и т. д.
Она также пересматривает устойчивые представления о «примитивизме». Скотоводство, собирательство, подсечно-огневое земледелие, сегментарная система родства — это нередко формы «вторичной адаптации», «самоварваризации», которые использовались народами, выбиравшими такое местоположение, жизненные практики и социальные структуры, чтобы избежать поглощения государством. У живущих в тени государств подобное уклонение от них прекрасно сочетается с производными, имитационными и паразитическими государственными формами в горных районах.
Моя модель исторического процесса разрушает доминирующий в Китае и иных странах цивилизационный дискурс о «варварах», «отсталых» и «примитивных» народах. При ближайшем рассмотрении все эти понятия на самом деле обозначают неуправляемые и пока-не-поглощенные-государством сообщества. Цивилизационные дискурсы никогда не признáют, что люди по собственному желанию переходят в варварское состояние, а потому оно всячески стигматизируется и этнизируется. Этничность и «племена» возникают ровно там, где заканчиваются налогообложение и верховная власть государства, — в этом смысле между Китайской и Римской империями нет значимых различий.
Обычно используемые безгосударственными народами жизненные практики и системы родства воспринимаются как само собой разумеющиеся — экологически и культурно детерминированные. Но, проанализировав различные хозяйственные практики, в том числе выбор возделываемых культур, конкретные социальные структуры и модели территориальной мобильности с точки зрения их эффективности для бегства от государства, я при хожу к выводу, что все эти якобы данности на самом деле были сознательным политическим выбором.
Горы как убежище для беглецов от государства, включая партизан, — важная географическая тема. Я лишь развиваю идею сопротивления ландшафта как принципиально важную для понимания структурирования политического пространства и сложностей государственного строительства в досовременную эпоху.
Если кого и стоит ругать за эту книгу, то только меня. Я ее написал. Давайте сразу поставим все точки над «i», прежде чем я начну извиняться и пытаться нанести (хотя и понимаю всю их бессмысленность) несколько упреждающих ударов против грозящих мне критических выпадов, основания для которых я прекрасно осознаю.
Меня часто упрекали в том, что я не прав, но крайне редко — в том, что мои тексты невразумительны и непонятны. Эта книга не является исключением. Я ни в коем случае не отрицаю, что де лаю весьма дерзкие заявления о жизни горных народов в материковой Юго-Восточной Азии. Я убежден, что в целом мои утверждения верны, даже если я и заблуждаюсь относительно отдельных деталей. Как и всегда, решение о том, прав ли я, — в руках моих читателей и рецензентов. Однако я хотел бы четко обозначить три важных для меня момента. Во-первых, ничего нового я не написал. Повторяю: в книге нет ни одной идеи, авторство которой полностью принадлежит мне. Что сделал я — предложил логику аргументации, которая связала воедино множество используемых мной источников, и попытался оценить ее эвристичность. Мой творческий вклад, если уж говорить о таковом, состоит в том, что я составил целое, соединив все точки. Я понимаю, что многие из тех, к чьим аргументам и гипотезам я прибегал, сочтут, что я слишком далеко зашел, — некоторые уже сообщили мне об этом, но, к счастью для меня, большинство уже не в состоянии на меня пожаловаться. Они не несут никакой ответственности за то, как я интерпретировал их идеи, — ровно так же меня не следует винить за то, как будут использованы мои идеи, изложенные в этой книге.
Я был несколько удивлен, когда осознал, что как будто превратился в историка — не особенно хорошего, но все же историка, причем достаточно древнего (по возрасту) историка древностей. Я осознаю профессиональные риски труда историка: скажем, когда историк собирается писать о XVIII веке, но вдруг понимает, что погряз в детальном описании века XVII, потому что именно тот заложил фундаментальные предпосылки интересующего его исторического периода. Нечто подобное случилось и со мной. Я читал этнографические описания горных племен и отчеты о нарушении прав человека бирманскими военными в регионах компактного проживания этнических меньшинств и вдруг осознал, что неотвратимо погружаюсь в изучение процессов агрессивного государственного строительства классических царств-мандал. Возобновлением исследований жизни доколониальной и колониальной Юго-Восточной Азии я обязан двум не связанным между собой лекционным курсам для аспирантов. Один был посвящен основополагающим текстам по истории этого региона и задумывался как своеобразный интеллектуальный учебный лагерь, где бы мы все читали те классические труды, которые стоят на полках большинства ученых, хотя им было бы стыдно признаться, что они их никогда не читали, включая и двухтомную «Историю Юго-Восточной Азии», изданную в Кембриджском университете. Для всех нас этот лекционный курс стал увлекательнейшим занятием. Второй курс был посвящен Бирме и базировался на тех же посылках.
Второе принципиально важное обстоятельство: все, что написано в моей книге, практически не имеет смысла для периода после Второй мировой войны. С 1945 года, а в некоторых случаях даже раньше, государство получило в свое распоряжение мощные технологии, сокращающие расстояния, — железные и всепогодные дороги, телефон, телеграф, самолеты, вертолеты, а сегодня — и новые информационные технологии, которые настолько изменили стратегический баланс сил самоуправляемых сообществ и национальных государств, настолько ослабили роль территориально-географических факторов сопротивления, что с этого времени мои аналитические выкладки теряют свое значение. Суверенные национальные государства сегодня устанавливают полный контроль над своими территориями до самых отдаленных границ и окончательно поглощают слабо или прежде не контролируемые районы. Потребность в природных ресурсах «племенных зон» и желание гарантировать безопасность и продуктивность периферии повсюду привели к реализации государством стратегий «поглощения», в соответствии с которыми по определению более лояльные и нуждающиеся в земельных участках жители равнин переселялись в горные районы. Так что не говорите мне, будто я вас не предупреждал, что мои гипотезы и выводы неприменимы к Юго-Восточной Азии в XX веке.
И наконец, меня очень беспокоит, что мой радикальный конструктивизм в трактовке этногенеза будет неверно интерпретирован и воспринят как девальвация и даже злостная клевета на идею этнической идентичности, во имя которой сражались и погибли множество смелых мужчин и женщин. Это совершенно не соответствует действительности. Все идентичности, все без исключения, конструируются социально: ханьская, бирманская, американская, датская — абсолютно все. Нередко подобные идентичности, особенно в случае меньшинств, сначала изобретаются мощными империями: например, ханьская династия придумала народность мяо, британские колонисты — народности карен и шан, французы — народность зярай. Самоизобретенные или навязанные, подобные идентичности более или менее произвольно выбирают ту или иную черту, какой бы размытой она ни была, — религию, язык, цвет кожи, особенности питания или средства существования — как свою базовую детерминанту. Перечисленные категории, институционализированные в географическом контексте, формах землепользования, судебной практике, обыденном праве, моделях выдвижения лидеров, школьной системе и официальном документообороте, могут стать настолько страстно проживаемыми идентификациями, что эти идентификации будут стигматизированы бо́льшими по размерам группами или обществом в целом и превратят своих субъектов в стойких противников социального порядка. Здесь придуманные идентичности соединяются с героическим самопозиционированием, превращаясь в почетный отличительный знак. В современном мире, где национальное государство стало главной политической формой, неудивительно, что подобное упорное отстаивание собственных прав обычно принимает форму этнонационализма. Поэтому по отношению к тем, кто, подобно народностям шан, карен, чин, мон, кая, рискует всем в борьбе за хотя бы какие-то варианты независимости и признания, я испытываю только восхищение и уважение.
Я признаю свой безмерный интеллектуальный долг по крайней мере перед пятью «мертвыми белыми», чьи ряды пополню в свое время. Они были первопроходцами на том пути, по которому я сейчас иду; без них я не смог бы даже найти эту дорогу.
Первый из них — Пьер Кластр, чья смелая интерпретация жизни коренных народов Южной Америки после Конкисты как заполненной практиками бегства от государства и предотвращения его формирования, изложенная в книге «Общество против государства», в свете полученных позже доказательств оказалась провидческой. Глубокие и смелые рассуждения Оуэна Латтимора о взаимоотношениях китайской империи Хань с ее скотоводческой периферией помогли мне осознать, что нечто подобное могло происходить и на юго-западной границе Китая. Выводы Эрнеста Геллнера о взаимодействии берберов и арабского населения навели меня на мысль, что именно там, где заканчиваются верховная власть и налогообложение, начинаются «этничность» и «племенной строй», то есть варварство — лишь предпочитаемое государством обозначение любых самоуправляемых народов, не являющихся его гражданами. Никто, вставший на тот путь, по которому я иду, никуда не дойдет, внимательно не ознакомившись с прекрасной работой Эдмунда Лича «Политические системы высокогорной Бирмы», — в этом мире не так много книг, с которыми «хорошо думается». И наконец, я в долгу перед Джеймсом Скоттом, больше известным как Шве Йо, военачальником, офицером колониальных войск, составителем «Географического справочника Верхней Бирмы» и автором книги «Бирманцы». Мы не родственники, но я столько узнал благодаря его метким наблюдениям и мы оба, согласно бирманскому астрологическому календарю, имеем схожие имена, поэтому я тоже принял имя Шве Йо, надеясь умилостивить его духа.
Меня вдохновляли и направляли работы, иначе, чем принято, оценивавшие способы и причины, по которым оставшиеся-в-стороне-от-государственного-строительства люди изначально выбирали этот путь, работы, радикально пересматривавшие доминирующий цивилизационный нарратив, навязываемый само провозглашенной властью. Небольшая классическая монография Гонсало Агирре Бельтрана «Регионы бегства», опубликованная почти тридцать лет назад, обосновала применимость идей Кластра практически для всей Латинской Америки; позже Стюарт Шварц и Фрэнк Саломон провели тщательнейший и детальный анализ этой гипотезы. В географическом плане несколько ближе моим изысканиям исследования Роберта Хефнера о горах Тенгер на острове Ява и изучение Джеффри Беньямином народности оранг-асли в Малайзии — эти убедительные и блестящие кейс-стадис определили мое понимание Зомии.
Термином «Зомия» я полностью обязан Виллему ван Шенделю — он оказался настолько интеллектуально чуток, что осознал: эта огромная высокогорная географическая зона, простирающаяся до запада Индии (а по его мнению, даже дальше), исключительна и заслуживает собственного обозначения. Прочерчивая предметное поле «исследований Зомии», он поставил под сомнение привычные представления о том, что мы называем территорией или регионом. Я записался пехотинцем в армию Зомии (в полк психологической атаки) сразу после того, как ознакомился с его убедительным обоснованием необходимости введения этого термина. Виллем, я и еще несколько коллег с нетерпением ждем того дня, когда сможем созвать первую международную конференцию, посвященную изучению Зомии. Работа ван Шенделя, посвященная бенгальской границе, — прекрасный пример того, чего можно добиться, если мы безоговорочно примем его точку зрения.
Если бы я обладал необходимым терпением, а главное, стремлением к полноте изложения, в этой книге должна была бы и могла появиться глава о водных вариантах бегства от государства. Я упоминаю о них лишь вскользь и очень сожалею, что не смог уделить им должного внимания. Многочисленные оранглауты (морские кочевники, или морские цыгане), поселившиеся на островах Юго-Восточной Азии, — по сути, морской, странствующий по островам аналог подсечно-огневых земледельцев горных твердынь. Как и горные народы, они традиционно обладают воинственным нравом и легко модифицировали свои жизненные практики от пиратства (морских набегов) и работорговли до верной службы нескольким малайским королевствам в качестве военно-морских охранников и ударной силы в военных противостояниях. Стратегически выгодно проживающие на основных судоходных путях и способные наносить неожиданный удар и мгновенно скрываться, они формируют морскую Зомию, которая заслуживает упоминания в книге. Бен Андерсон, уговаривая меня продолжить изыскания в этом направлении, как-то сказал: «Моря больше и пустыннее, чем горы и леса. Посмотри, насколько легко все эти пираты до сих пор отбиваются от Большой семерки, Сингапура и прочих, и как самоуверенно». Но, как заметит любой читатель, моя книга и так получилась слишком длинной, поэтому я решил оставить эту тему более компетентным авторам, и Эрик Тальякоццо превосходно начал ее изучение.
Следует также назвать четырех авторов, чьи мысли для мен я чрезвычайно важны и без чьих исследований моя книга вряд ли была бы написана. Я не могу сосчитать, сколько раз перечитал работы Ф.К.Л. (Лимана) Чит Хлаинга и Ричарда О’Коннора, чьи идеи оказали влияние на меня. Виктор Либерман, первый историограф государственного строительства в Юго-Восточной Азии в срав ни тельном аспекте, и Жан Мишо, первым из нас поднявший флаг Зомии (как собственного названия высокогорий Юго-Восточной Азии), были для меня ключевыми собеседниками. Все четверо названных ученых демонстрировали мне высочайший уровень интеллектуальной заинтересованности, даже и особенно в те моменты, когда не соглашались с моими доводами. Их представления могут отличаться от моих, изложенных в этой книге, но я хочу, чтобы они знали, что сделали меня умнее — пусть и не настолько, насколько им хотелось. Кроме того, я бесконечно признателен Жану Мишо за его великодушное разрешение использовать объемные цитаты из его «Исторического словаря народов горных массивов Юго-Восточной Азии» в моем глоссарии.
Многие мои коллеги, у которых были варианты получше провести свое свободное время, тем не менее читали части или всю рукопись моей книги и давали мне искренние советы. Я надеюсь, что они заметят разбросанные по всему тексту свидетельства моего внимания к их замечаниям, поскольку благодаря им я старательно конструировал и продумывал более детализированную и внятную аргументацию. Перечислю их имена (без попыток как-то структурировать данный список): Майкл Адас, Аджай Скариа, Раманчандра Гуха, Танья Ли, Бен Андерсон, Майкл Онг-Твин, Масао Имамура, историки У Та Хтун Мауна и У Со Кйау Ту, археолог У Тун Тейна, геолог Артур Пе, Джеффри Беньямин, Шаншан Ду, Мэнди Садан, Майкл Хетевей, Уолт Ковард, Бен Кеквлит, Рон Херринг, Индрани Чаттержи, Хин Монг Вин, Майкл Доув, Джеймс Хаген, Жан-Барт Джевальд, Томас Барфилд, Тонг чай Виничакул, Кэтрин Боуи, Бен Кирнан, Памела Макэлви, Нэнс Каннингэм, Онг Онг, Дэвид Ладден, Лео Лукассен, Дженис Старгардт, Тони Дей, Билл Клауснер, Мая Тан, Сьюзан О’Донован, Энтони Рид, Мартин Клейн, Джо Гулди, Ардет Мон Таунгмун, Бо Бо Нге, Магнуса Фискесьё, Мэри Каллахан, Энрике Майер, Анджелик Хогеруд, Майкл Макговерн, Тант Мьинт У, Марк Эдельман, Кевин Хеппнер, Кристиан Ленц, Эннпин Чин, Празенжит Дуара, Джефф Уэйда, Чарльз Кайз, Эндрю Тертон, Нобуру Ишикава, Кеннон Бризиль и Карен Барки. Подождите! В этом списке я засекретил имена четырех коллег, которые отказались высказать свои комментарии. Вы знаете, о ком я сейчас говорю. Стыдно! С другой стороны, если вы, пытаясь донести мою рукопись от принтера до своего письменного стола, упали, не вынеся ее тяжести, то примите мои извинения.
Я также хотел бы назвать несколько коллег, чьи работы оказали на меня влияние, суть которого мне сложно однозначно выразить. Исключительно проницательная работа Хьёрлифура Йонссона «Взаимоотношения народов мьен» определила логику моих рассуждений, особенно о пластичности идентичности и социальной структуры жителей гор. Микаэл Граверс обогатил мои знания о народности карен и космологических основаниях их милленаристских верований. Эрик Тальякоццо прочел мою рукопись с поразительным вниманием и составил для меня обязательный к прочтению список работ, который я все никак не осилю. И наконец, я многому научился у пяти коллег, с которыми очень давно начал изучение «народных и официальных идентичностей»: Питера Салинса, Пингаева Луанггарамсри, Кванчевана Буадэнга, Чусакака Виттаяпаки и Дженет Стурджен, которая, на мой взгляд, является развивающимся практикующим исследователем Зомии.
Не так давно, в 1996 году, моя коллега Хелен Сью убедила меня принять участие в дискуссии в рамках конференции, посвященной народам, населяющим приграничные территории Китая. Эта конференция была организована Хелен, Памелой Кроссли и Дэвидом Фором и оказалась настолько по-хорошему провокационной и бурно-дискуссионной, что породила множество идей, изложенных ниже. Вышедшая по итогам конференции под редакцией Памелы Кроссли, Хелен Сью и Дональда Саттона книга «Окраины империи: культура, этничность и границы на заре новой китайской государственности» (University of California Press, 2006) насыщена оригинальными историческими гипотезами, теоретическими моделями и этнографическими данными.
Немало институций служили мне теплой гаванью и приютом на протяжении последнего десятилетия, когда я так мучительно медленно нащупывал свой научный путь. Я начал начитывать материал о высокогорьях Юго-Восточной Азии и взаимоотношениях государств и странствующих народов в Центре перспективных исследований в области поведенческих наук в Пало Альто, где Алекс Киссар, Нэнси Котт, Тони Беббингтон и Дэн Сигал стали для меня прекрасными собеседниками и благожелательными коллегами. Весной 2001 года я продолжил свои изыскания в Осло, в Центре развития и окружающей среды, где попал под обаяние и интеллектуальное влияние Дезмонда Макнила, Зине Хауэлла, Нины Виточек и Бернта Хагвета, а также принялся усердно изучать бирманский язык на радиостанции «Демократический голос Бирмы» под руководством терпеливого Хин Монг Вина. Первый вариант книги я закончил на кафедре глобалистики аспирантуры по изучению международного развития в Университете Роскильде. Я хочу выразить искреннюю благодарность Кристиану Лунду, Пребену Каарсхольму, Бодилу Фольке Фредериксену, Инге Йенсен и Оле Брун за интеллектуально бодрящую и исключительно приятную поездку.
В последние два десятилетия мои научные изыскания проходят на базе Программы аграрных исследований в Йельском университете. Коллеги, лекторы, выпускники и факультет, где я вел занятия, постоянно возрождали мою веру в существование подобного места для интеллектуальных занятий, способствующего общению, одновременно дружелюбному и сложному, радушному и жесткому. Кей Мэнсфильд всегда была и остается сердцем и душой программы, компасом на корабле наших интеллектуальных занятий. Мои коллеги К. Сиварамакришнан (больше известный как Шиви), Эрик Уорби, Роберт Хармс, Арун Агравал, Пол Фридман, Линда-Анне Ребхун и Майкл Доув не скупились на участие в моем непрекращающемся обучении. Кроме того, Майкл Доув и Гарольд Конклин научили меня всему, что я знаю, о подсечно-огневом земледелии, которое принципиально важно для моего исследования.
У меня работали несколько научных ассистентов — столь инициативных и талантливых, что они спасли меня от месяцев бес полезных изысканий и от множества ошибок. Я уверен, что очень скоро они сделают себе имя в науке. Араш Хазени, Шафкат Хусейн, Остин Зидерман, Александр Ли, Кейти Шарф и Кейт Харрисон помогли мне превратить мой замысел в что-то значимое.
Мои многочисленные бирманские друзья, которые помогали мне бороться с бирманским языком, заслуживают по крайней мере огромной награды за столь тяжкий труд и, наверное, даже приобщения к лику святых (впрочем, в традиции Тхеравады следует говорить о божественных дэвах). Я хочу поблагодарить Сайя Хин Монг Ги, моего самого давнего, закаленного в боях за мои знания и самого терпеливого учителя, а также и всю его семью, включая Сан Сан Лин. Лет Лет Онг (известная как Виола Ву), Бо Бо Нге, Ка Лу По и Хин Монг Вин смело вступали со мной в невыносимо вялотекущие и дремучие разговоры. Куон Кьяу и Ко Со Кьяу Ту, не будучи формально моими учителями, тем не менее по-дружески помогали мне продвигаться вперед. И наконец, в Мандалае и многочисленных других путешествиях Сайя Найинг Тун Лин, учитель по призванию, придумал методику обучения, которая соответствовала моим скромным возможностям, и жестко ей следовал. Часто наши уроки проходили на просторном балконе на четвертом этаже небольшого отеля. Когда в четвертый или пятый раз подряд я чудовищно искажал тональность или звук, он резко вставал и подходил к краю балкона. Не раз я опасался, что в отчаянии он бросится через перила. Но он выдержал. Он возвращался назад, садился, делал глубокий вдох и начинал все заново. Без него я бы ни за что не справился.
Пока я мучительно подбирал подходящее название для своей книги, мой друг упомянул, что Джимми Казас Клаузен, политолог из Университета Висконсина в Мэдисоне, читал лекционный курс по политической философии под названием «Искусство быть неподвластным». Клаузен великодушно разрешил мне использовать это название для книги, за что я ему бесконечно благодарен. Я с нетерпением жду того дня, когда он, в чем я не сомневаюсь, подведет философскую основу под мои изыскания в собственной книге на эту тему.
Карты, представленные на страницах книги, были составлены благодаря искусству и воображению Стейси Мейплс, сотрудника Отдела карт Библиотеки Стерлинга в Йельском университете. Он картографически выразил мое понимание пространственных особенностей государственного строительства в Юго-Восточной Азии[1].
Везде, где это казалось мне уместным, я включал в текст слова и иногда целые фразы на бирманском. Поскольку общепринятой системы транслитерации бирманского в латиницу не существует, я использовал модель, предложенную Джоном Океллом из Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета в первой части его книги «Бирманский: введение в разговорный язык» (Northern Illinois University, Center for Southeast Asian Studies, 1994). Чтобы не возникло путаницы, везде, где бирманский вариант был принципиально важен, я дополнял его бирманским написанием.
Я не мог и мечтать о более внимательном и талантливом редакторе для своей книги и других изданий, вышедших в серии Agrarian Studies, чем Джин Томсон Блэк. Вряд ли Yale University Press могло бы рассчитывать на более вдохновенного редактора, чем Дэн Хитон. Работая с моей рукописью, он сочетал уважение к тексту с непримиримостью к ошибкам и многословности, благодаря чему существенно улучшил качество итоговой версии книги, которая попадет в руки читателей.
И последнее, но важное замечание: я не смог бы задумать эту книгу и тем более претворить ее в жизнь без идей и поддержки, дарованных мне моей высокочтимой музой.
Глава 1. Холмы, долины и государства. Введение в историю Зомии
Я начну свою книгу с трех весьма показательных описаний, полных горького разочарования. Первые два принадлежат управленцам — претендентам на звание покорителей неприступных земель и их мятежных обитателей. Третье сделано на ином континенте человеком, возомнившим себя покорителем душ и впавшим в отчаяние от атеизма и ересей, порождаемых будто бы самим местным пейзажем.
Составлять карты всегда сложно, но карту провинции Гуйчжоу — особенно… У районов на юге Гуйчжоу рваные и запутанные границы… Административные области разбиты на множество подчиненных земель, зачастую разделенных другими территориями… Есть даже районы, никому не подчиняющиеся, где проживает народность мяо, смешавшаяся с китайцами…
На юге Гуйчжоу много высокогорий. Они перетекают друг в друга без каких-либо равнин и дорог между ними, без рек или водных русел, прорисовывающих их границы. Они раздражающе многочисленны и непокорны… Людей здесь живет немного, и в основном высокогорные пики не имеют названий. Их скопления трудно различить — горные хребты и вершины выглядят одинаково. Тот, кто привык описывать горы, перечисляя только основные вершины и хребты, тут вынужден говорить подробно и обстоятельно. Иногда, чтобы описать несколько километров горного массива, нужно подготовить целую кипу документов, где рассказ всего лишь о дневном переходе займет несколько глав.
Будто чтобы окончательно запутать ситуацию, на протяжении пятидесяти километров своего русла река здесь может иметь пятьдесят разных наименований на местных диалектах, а лагерная стоянка на полутора километрах — не менее трех обозначений. Вот насколько ненадежна номенклатура географических названий[2].
Холмистые, заросшие джунглями пространства — именно здесь дкойтам удавалось продержаться дольше всего. Таковы территории между Минбу, Таемьо [и поясом болотистых низин] у подножия гор Шан, Аракан и Чин. Преследовать их было невозможно: дороги узки, извилисты и будто созданы для нападений из засад. За исключением нескольких дорог, остальная территория практически непроходима; тропическая лихорадка косила наши отряды; только один смог войти в джунгли и немного продвинуться. Все поселения крошечные и встречаются крайне редко; они очень компактны и окружены густыми, непроходимыми джунглями. Дороги могут пропустить лишь одну повозку или еще более узки; в местах пересечения джунглей они полностью заросли кустами и колючими ползучими растениями. Много сухой травы сжигается в марте, но как только возобновляется сезон дождей, все вокруг опять становится прежним — непроходимым[3].
Поверхность земли настолько изборождена многочисленными пересекающимися речными потоками, что топографическая карта типичного графства площадью в 373 квадратные мили насчитывает 339 речушек, то есть по девять на каждые десять квадратных миль. Большинство долин имеет V-образную форму, и редко где по берегам рек земли достаточно, чтобы проехал экипаж или был разбит сад… Изоляция, и так обусловленная сложностью и медленностью способов передвижения, усугубляется целым рядом обстоятельств. Прежде всего, все пути обходные. Ехать приходится по одному рукаву реки, а возвращаться — по другому, или же вверх — по одному притоку до развилки рек, а обратно — по другому, по дальней стороне горной цепи. Вот почему если женщина выходит замуж за десять миль от родной деревни, проходит много лет, прежде чем она навестит своих родителей[4].
За каждым из этих высказываний стоит некий управленческий проект — Цинской и Британской империй или протестантской церкви на Аппалачах. Каждый из них задумывался людьми, свято верившими, что они несут на эти земли порядок, прогресс, просвещение и цивилизацию, убежденными, что прежде никем не управляемые территории нуждаются в административном контроле, гарантируемом государством или церковью, и оценят его преимущества.
Но в чем же тогда причина конфликтного характера взаимоотношений подобных проектов и их агентов, с одной стороны, и относительно автономных зон и их жителей — с другой? Характера, который ярко проявился в Юго-Восточной Азии, где сильнейший социальный раскол — противостояние жителей гор и равнин, поселений в верховьях (hulu в Индонезии) и низовьях (hilir) рек — определяет большую часть истории региона[5]. Внимательное изучение причин противостояния позволит иначе взглянуть на ход и логику глобального исторического процесса формирования государств на равнинах и постепенного заселения горных массивов.
Конечно, столкновение государственной экспансии и самоуправляемых сообществ — не уникальная характеристика Юго-Восточной Азии. Его отголоски в виде культурного и административного «внутреннего колониализма» прослеживаются в становлении большинства современных западных национальных государств; в проектах Римской, Османской, Британской империй, Габсбургской и Ханьской династий; в покорении аборигенного населения в колониях «белых поселенцев» на территории современных Соединенных Штатов, Канады, Южной Африки, Австралии и Алжира; в противостоянии оседлого, городского арабского населения и кочевых скотоводческих племен, которое определило историю Ближнего Востока[6]. Конкретные формы конфликта в каждом случае уникальны, но сами столкновения самоуправляемых и государственных людей повсеместны, как бы они ни назывались — борьба «дикарей» и «цивилизации», «горных/лесных» и «равнинных/пастбищных» народов, «жителей низовий» и «верховий» рек, «варваров» и «цивилизации», «отсталых» и «современных», «свободных» и «зависимых», людей «с историей» и людей без корней, — что позволяет использовать принцип триангуляции в сравнительном анализе. Везде, где получится, я не премину воспользоваться этой возможностью.
Мир периферий
Честно говоря, на всем протяжении истории, начиная с зерновых, аграрных цивилизаций, интересующее меня противостояние, судя по письменной традиции, мало заботило ученых. Но если мы немного отклонимся от общепринятых моделей и используем более оптически сильные исторические линзы, сфокусированные на понятии человечества, а не на паре «государство — цивилизация», то удивимся, насколько оно повсеместно и как стремительно развивалось. Homo sapiens появился примерно двести тысяч лет назад и около шестидесяти тысяч лет назад заселил Юго-Восточную Азию, где первые поселения возникли только в I тысячелетии до н. э. как небольшое пятнышко на историческом ландшафте — локальное, почти незаметное и мимолетное. Незадолго до нашей эры, которая охватывает не более одного процента человеческой истории, здешний социальный пейзаж состоял из очень небольших, автономных родов, которые изредка объединялись для совместной охоты, ритуальных праздников, сражений, торговли и мирных переговоров. Ничего похожего на государство здесь не существовало[7], и жизнь без него считалась нормальным состоянием человека.
Вероятно, возникновение аграрных царств стало тем самым событием, которое обозначило диалектическое противоречие между оседлым населением государств и группами, живущими в пограничном состоянии — имеющими некоторые формы социального управления, но фактически независимыми. По крайней мере до начала XIX века отсутствие транспортных путей, состояние государственных военных технологий и, в первую очередь, демографические тенденции жестко ограничивали захватнические претензии даже самых амбициозных государств. При плотности населения в 5,5 человека на квадратный километр в 1600 году (по сравнению с 35 в Индии и Китае) правители Юго-Восточной Азии просто не могли контролировать свои огромные приграничные территории[8], которые выполняли функцию примитивного, но эффективного инструмента саморегуляции: чем больше было давление государства на граждан, тем меньше их у него оставалось. Эту диалектическую гарантию народной свободы хорошо охарактеризовал О’Коннор: «С возникновением государств вновь изменились условия адаптации — по крайней мере для земледельцев: территориальная мобильность позволяла им избегать налогового бремени и военных опасностей. Я называю это третичным расселением. Две первые революции — аграрная и усложнение социальной структуры — прошли более спокойно, потому что государство тогда еще не контролировало крестьян, а занималось „объединением людей… и созданием деревень“…»[9].
Последнее великое огораживание
Только современное государство в своих колониальных и суверенных воплощениях обрело ресурсы для реализации того проекта управления, который прежде лишь в мечтах являлся его доколониальным предшественникам, — подчинения безгосударственных территорий и народов. По сути, это последнее великое огораживание в Юго-Восточной Азии, которое последовательно — пусть и очень грубо, неуклюже и с постоянными откатами назад — проводилось по крайней мере на протяжении всего XX столетия. Все правительства — колониальные и независимые, коммунистические и неолиберальные, популистские и авторитарные — стремились к выполнению этого проекта. Навязчивая идея огораживания приводила к разным, но всегда негативным результатам, видимо, потому что любые проекты административной, экономической и культурной стандартизации с трудом совместимы с современными моделями государственности.
По логике государства подобное огораживание — это попытка интеграции людей, территорий и ресурсов периферийных районов, в том числе финансовыми средствами, для повышения их рентабельности (если оперировать французскими терминами), то есть для превращения в подотчетные источники валового национального продукта и экспортной торговли. Но в действительности жители периферий всегда были крепко экономически связаны с центральными территориями и мировой торговлей. Нередко именно они производили наиболее ценные с точки зрения международной торговли товары. Тем не менее попытки полностью инкорпорировать их в экономику страны гордо именовались развитием, экономическим прогрессом, искоренением неграмотности и социальной интеграцией, хотя на деле речь шла совершенно о другом: целью государства было не столько повышение производительности периферий, сколько гарантии того, что экономическая деятельность здесь будет законодательно отрегулирована, обложена налогами, статистически учтена и предполагает процедуру конфискации; если же она этим критериям соответствовать не могла, то замещалась удобными государству экономическими формами. Везде, где возможно, государство принуждало кочевых, подсечно-огневых земледельцев к оседлому образу жизни в деревнях. Оно также пыталось заменить общую собственность на землю иными институциональными формами — собственностью коллективных хозяйств или, чаще, частной собственностью, свойственной либеральным экономикам; национализировало леса и залежи полезных ископаемых; везде, где возможно, вводило наличный расчет, вытесняло монокультурными (похожими на плантации) аграрными производствами прежние поликультурные натуральные хозяйства. Термин «огораживание» кажется мне наиболее подходящим для описания этих процессов, напоминая об огораживании в Англии после 1761 года, когда крупные частные коммерческие хозяйства поглотили половину крестьянской пашни.
Оригинальность и революционный характер этого грандиозного огораживания станут очевидны, если мы максимально расширим его временны́е рамки. Исторически первые государства Китая и Египта, позже Индия в конце правления Чандрагупты, классическая Греция и республиканский Рим с демографической точки зрения были очень скромны: они занимали крохотную часть мирового ландшафта, укладываясь в пределы статистической погрешности при оценке общей численности населения Земли. Роль равнинной Юго-Восточной Азии, где первые государства возникли только в середине нашего тысячелетия, в истории ничтожна и явно переоценена в учебниках. Маленькие городишки, обнесенные стенами и рвами с водой, окруженные несколькими деревеньками, эти крошечные оплоты социальной иерархии и политической власти, были крайне нестабильны и географически изолированы. Для человека, не испытывающего восторга перед археологически значимыми руинами и историческими вехами государственного строительства, это пространство выглядит как сплошная периферия без каких-либо центров — бо́льшая часть здешнего населения и территорий прекрасно существовала без них.
Несмотря на свою крохотность, эти государственные образования обладали одним стратегическим и военным преимуществом — концентрировали человеческие и пищевые ресурсы вследствие ирригационного рисоводства[10]. В качестве новой политической формы эти рисовые государства объединяли ранее живших вне государственных институций людей: несомненно, часть из них привлекали возможности торговли, обогащения и социально-статусного роста при дворах правителей; другие, и таких было большинство, были пленниками и рабами, захваченными в битвах или купленными на невольничьих рынках. Огромная «варварская» периферия подпитывала первые миниатюрные государства по крайней мере в двух отношениях: во-первых, она поставляла сотни товаров и лесных продуктов, необходимых для процветания игрушечных рисовых городов; во-вторых, была источником наиболее важного товара того времени — пленников, основной рабочей силы государств. Мы точно знаем, что бо́льшая часть жителей Древних Египта, Греции и Рима, первых государств кхмеров, тайцев и бирманцев была несвободна — это были рабы, пленники и их потомки.
Огромное неконтролируемое пространство вокруг недолговечных государств постоянно угрожало их безопасности. Здесь жили кочевые народы, которые ради выживания занимались то собирательством, то охотой, то подсечно-огневым земледелием, то рыболовством, то скотоводством, но принципиально отрицали государственный контроль. Разнообразие, текучесть и изменчивость их жизненных практик означали, что аграрное государство, базирующееся на оседлом образе жизни, не могло рассчитывать на эти не подчиняющиеся ему территории с финансовой точки зрения. Пока их жители сами не изъявляли желания торговать, их товары были никому не доступны, в том числе потому что первые государства практически всегда возникали на пахотных равнинах и плато, а многочисленные безгосударственные группы жили, с точки зрения государства, в географически труднодоступных районах — гористых, болотистых, затопленных, засушливых или пустынных. Даже если, что изредка случалось, их товары оказывались в принципе доступны, рассеяние кочевых народов и трудность транспортировки сводили на нет экономическую выгоду подобной торговли: центр и периферия по своему расположению дополняли друг друга и автоматически должны были стать торговыми партнерами, но вести торговлю было практически невозможно, поэтому она обретала форму редких добровольных обменов.
Для государственной элиты периферия, воспринимаемая часто как полчища «варварских племен», также представляла потенциальную угрозу. Редко, но надолго оставляя воспоминания (завоевания монголов, гуннов и османов), вооруженные кочевники сметали государства и правителей. Безгосударственные племена часто нападали на поселения землепашцев, иногда облагая их данью по примеру государства, которому оседлый образ жизни и сельское хозяйство были нужны для «облегчения сбора податей».
Впрочем, основной и постоянной угрозой со стороны неуправляемой периферии было искушение иным, чем в государстве, образом жизни. Основатели первых государств часто отнимали у земледельцев пахотные земли, предлагая им либо стать гражданами, либо убираться. Выбравшие второй вариант, по сути, стали первыми политическими беженцами, примкнув к группам, оставшимся вне сферы влияния государства. Когда бы оно ни расширяло свои границы, жители прежде периферийных районов оказывались перед той же дилеммой.
Когда государство проникает повсюду и кажется вездесущим, легко забыть, что на протяжении бо́льшей части человеческой истории жизнь внутри государства, за его пределами или же в некоторой буферной зоне была предметом выбора, который можно было сделать, а потом изменить, если того требовали обстоятельства. Процветающие мирные государства привлекали все больше людей, находящих в них массу преимуществ, — таков доминирующий цивилизационный нарратив, в соответствии с которым дикие варвары, зачарованные величием мирных и справедливых царств, становились их гражданами. Этот нарратив пронизывает все мировые религии, основанные на идее спасения, не говоря уже о сочинениях Томаса Гоббса.
Но этот же нарратив упускает из виду два важных момента: во-первых, как уже было сказано выше, множество, если не большинство жителей первых государств были не свободны, а закабалены; во-вторых, и этот факт наиболее неудобен для доминирующего цивилизационного нарратива, граждане имели привычку сбегать из городов-государств. Жизнь в городе по определению означала необходимость платить налоги, нести воинскую повинность, отрабатывать барщину, а зачастую и сервитут — это основа стратегии развития государства и его военной мощи. Когда груз этих обязательств оказывался чрезмерным, люди не задумываясь сбегали на периферию или в другое государство. Очень долго до наступления нашей эры скученность населения и домашнего скота и сильная зависимость от одной зерновой культуры определяли здоровье людей и плодородие почв, а потому так часто случались голодные годы и эпидемии. Кроме того, первые государства были военными машинами, проливающими реки крови своих граждан, поэтому те стремились избежать воинской повинности, военных набегов и разорений. Вот почему первые государства выталкивали населения не меньше, чем поглощали, а в случае нередких в то время войн, засух, эпидемий или мятежей, которые подрывали основы государственного строя, — просто изрыгали его. Государство — не что-то раз и навсегда данное: бесчисленные археологические находки в местах расположения столиц первых царств, которые быстро расцвели и в мгновение ока были сметены с лица земли войнами, эпидемиями, голодом или стихийными бедствиями, говорят о длительных периодах создания и распада государств, а не об их вневременной устойчивости. В течение столетий люди жили то в государствах, то без них, причем «безгосударственность» была цикличной и обратимой[11].
Чередование периодов строительства и разрушения государств привело со временем к формированию периферии, состоявшей в равной степени из беглецов и кочевников, которые никогда не были гражданами какого-либо государства. Эта «осколочная территория» вне государств, где волей-неволей объединились группы — осколки государственного строительства и политического соперничества, постепенно превратилась в зону удивительного смешения этносов и языков. Экспансия и развал государств порождали и эффект храповика: пример беженцев заставлял и других жителей государств искать на безгосударственной периферии безопасный приют и новую жизнь. Вот почему бо́льшая часть горных массивов Юго-Восточной Азии — именно такая осколочная зона: название юго-западной китайской провинции Юньнань — «музей человеческих рас» — отражает эту историю миграций. Подобные зоны возникали везде, где экспансия государств, империй, работорговли и войн наряду с природными катаклизмами вынуждали многочисленные группы людей искать убежище в труднодоступных районах: на Амазонке, в высокогорьях Латинской Америки (за исключением Анд, где государства возникали на плодородных плато), в высокогорьях Африки, куда не совершали набеги работорговцы, на Балканах и Кавказе. Отличительные черты всех осколочных зон — относительная географическая труднодоступность и исключительное многообразие языков и культур.
Такая трактовка периферии резко контрастирует с официальными версиями цивилизационного развития, которых придерживается большинство народов и в соответствии с которыми отсталые, наивные и фактически варварские племена посте пенно входили в состав развитых, более совершенных в культурном отношении и процветающих государств. В действительности же многие безгосударственные варвары в тот или иной период истории предпочитали, совершая осознанный политический выбор, от государства дистанцироваться — это обстоятельство вносит в прежнюю благостную историческую картину новый компонент политического действия. Многие, если не большинство, жители неподконтрольной государству периферии сознательно здесь селились, а потому их нельзя считать реликтами канувших в лету прежних социальных формаций, которые горожане равнин Юго-Восточной Азии называют своими «живыми предками». Состояние значительных групп людей, сознательно выбравших жизнь за пределами государств, нередко и совершенно неуместно называется «вторичным примитивизмом». Но повседневное существование, социальная организация, территориальное расселение и многие элементы культуры периферий далеки от архаических и целенаправленно и искусно спроектированы, чтобы одновременно предотвращать их поглощение близлежащими государствами и минимизировать шансы формирования здесь структур власти, аналогичных государственным. Бегство от государства и предотвращение возникновения его аналогов пронизывают все жизненные практики и, нередко, идеологию периферии, являясь, таким образом, «эффектом государства». Жители периферии — «сознательные варвары»: они ведут активную и взаимовыгодную торговлю с государственными центрами на равнинах, старательно избегая их политического влияния.
Если мы признаем хотя бы возможность того, что «варварство» — не остаточное явление, а сознательный выбор места и образа жизни и социальной структуры для сохранения независимости, то общепринятая версия социальной эволюции человеческой цивилизации разбивается вдребезги. Ее временна́я периодизация — от собирательства к подсечно-огневому земледелию (где-то — к скотоводству), далее — к оседлому и ирригационному земледелию, параллельно от кочевничества — к небольшим расчищенным в лесах пашням, затем — к деревушкам, селам, городам и столичным центрам — подкрепляет чувство превосходства равнинных государств. Но что, если каждая из этих гипотетических «стадий» — на самом деле просто набор вариантов социальности, любой из которых представляет собой особый тип взаимоотношений с государством? И что, если в течение длительных исторических периодов многие народы, исходя из стратегических соображений, выбирали из этого набора наиболее «примитивные» формы социальности, чтобы держать государство от себя на почтительном расстоянии? Тогда цивилизационный дискурс равнинных государств и многие ранние версии социальной эволюции — не что иное, как самонадеянное увязывание государственности с цивилизованностью и безосновательное объявление безгосударственных народов примитивными.
Аргументация моей книги принципиальным образом противостоит этой версии исторического процесса. Практически ника кие характеристики, с помощью которых осуществляется стигматизация населения периферий, — проживание в приграничных районах, территориальная мобильность, подсечно-огневое земледелие, подвижная социальная структура, религиозная неортодоксальность, эгалитаризм и даже отсутствие письменности и доминирование устной традиции — не говорят о его примитивности и цивилизационной отсталости. В длительной исторической перспективе это способы адаптации, направленные одновременно на избегание захвата государством и предотвращение его формирования, то есть это политический выбор безгосударственных людей в мире государств, которые одновременно и очаровывают, и пугают.
Заполучение граждан
Очень долго в истории избегание государства было реальной альтернативой: тысячи лет люди жили вообще без государственных структур или в огромных, расколотых на множество суверенных владычеств, империях с плохо сообщающимися территориями[12]. Сегодня эта возможность практически исчезла. Чтобы понять, сколь драматично сократилось поле для маневра за по след нее тысячелетие, смоделируем предельно упрощенную и ускоренную схему изменения баланса сил без- и государственных народов в истории.
В центре этой модели находится прочная взаимосвязь государства и оседлого сельского хозяйства[13]. Государство всячески стимулировало развитие оседлыми земледельцами зернового производства, которое в обозримой исторической ретроспективе было и остается фундаментом государственной власти. Кроме того, оседлое сельское хозяйство обусловило возникновение земельной собственности, патриархальной семьи и, что особенно важно и поддерживалось государством, больших семейных хозяйств. Зерновое производство по определению экстенсивно, а потому быстро растет и, если ему не мешают болезни и голод, обеспечивает избыток населения, которое вынуждено мигрировать и осваивать новые земли. Соответственно, на длительном историческом отрезке именно оседлое земледелие — «кочевое» и агрессивное, постоянно себя воспроизводящее на все новых территориях, тогда как, что точно подметил Хью Броуди, собиратели и охотники, живущие на одной и той же территории и демографически более стабильные, наоборот, оказываются «исключительно оседлыми»[14].
Массированная европейская колониальная и поселенческая экспансия привела к широкому распространению оседлого земледелия. В «Новых Европах» — Северной Америке, Австралии, Аргентине и Новой Зеландии — европейские поселенцы по мере сил развивали привычный для себя тип сельского хозяйства. В колониях, где до них уже существовали государства с оседлым земледелием, европейцы заменили местных феодалов своими губернаторами, которые собирали налоги и следовали местным традициям поддержки оседлого земледелия, лишь внедряя более эффективные формы хозяйствования. Все прочие туземные практики, если только они не были выгодны с торговой и финансовой точек зрения (например пушной промысел), признавались бесполезными, а потому собиратели, охотники, подсечно-огне вые земледельцы и скотоводы игнорировались или вытеснялись с пахотных земель на бесплодные пустоши. Тем не менее к концу XVIII века, утратив свой статус большинства населения земли, безгосударственные народы всё еще занимали бóльшую часть континентов — леса, скалистые горы, степи, пустыни, территории Крайнего Севера, болотистые и другие труднодоступные отдаленные зоны были приютом для всех, кто имел причины бежать от государства.
В общем и целом жителей периферии было нелегко втянуть в четко регламентированные денежные отношения наемного труда и оседлого земледелия. В этом смысле «цивилизация» их не привлекала: они могли пользоваться всеми преимуществами торговли, не сопряженной с каторжным трудом, подчинением и ограниченной мобильностью — со всем тем, с чем имели дело граждане. Масштабы сопротивления государству обусловили наступление так называемого золотого века рабства на побережьях Атлантического и Индийского океанов в Юго-Восточной Азии[15]. Местное население массово сгонялось с территорий, где его труд объявлялся незаконным или бесполезным, и перевозилось в колонии и на плантации, где его заставляли возделывать наиболее доходные для землевладельцев и государственной казны культуры (чай, хлопок, сахар, индигоферу, кофе и др.)[16]. Первым шагом в процессе огораживания стало закабаление — насильственный захват и вывоз населения с безгосударственных территорий, где люди в большинстве своем вели независимую (и счастливую!) жизнь, туда, где государству был нужен их рабский труд.
Два заключительных этапа массового огораживания, пришедшиеся в Европе на XIX век, а в Юго-Восточной Азии — в основном на конец XX века, знаменуют настолько радикальное изменение отношений государств со своими перифериями, что фактически выпадают из моей модели. В этот период «огораживание» означало не столько перемещение безгосударственных людей на подконтрольные государству территории, сколько колонизацию периферии — превращение ее в полностью контролируемую, управляемую и экономически доходную зону.
Внутренняя, зачастую не до конца осознаваемая логика огораживания — окончательное избавление от безгосударственных пространств. Этот поистине имперский проект стал возможен только благодаря современным технологиям, сокращающим расстояния (всепогодные дороги, мосты, железнодорожное и авиасообщение, современное оружие, телеграф, телефон, новые информационные технологии, включая глобальные навигационные спутниковые системы), говорить о которых в Юго-Восточной Азии даже после 1950 года бессмысленно. Нынешнее понимание суверенитета и ресурсные потребности развитого капитализма отчетливо обозначили последнюю стадию огораживания.
Национальное государство, как, по сути, базовый и единственно возможный вариант суверенитета в XX веке, воспринимается крайне враждебно безгосударственными народами. В этой модели верховная власть обладает монополией на применение насилия, которая по определению простирается на всю территорию страны; за ее границами аналогичным правом обладает соседнее суверенное государство. Сегодня в принципе исчезли большие, никем не контролируемые или раздираемые противоречиями нескольких слабых держав территории и народы, не относимые ни к чьей юрисдикции. Исходя из практических соображений, национальные государства стремились к этому, затрачивая все имеющиеся ресурсы: создавая военизированные пограничные посты, перемещая лояльное население ближе к границам, замещая им вытесняемое «нелояльное», развивая на приграничных территориях оседлое земледелие и транспортное сообщение, вводя миграционный учет.
Обеспечивая свой суверенитет, национальные государства осознавали, что прежде игнорировавшиеся и считавшиеся бесполезными земли, куда вытеснялись безгосударственные народы, жизненно необходимы развитой капиталистической экономике[17], поскольку богаты природными ресурсами — нефтью, железной рудой, медью, свинцом, ураном, углем, бокситами, редкоземельными металлами, исключительно важными для развития аэрокосмической и электронно-технической индустрий и гидроэлектростанций, биоресурсами и заповедными зонами — то есть всем тем, что может стать источником государственных доходов. Районы, прежде привлекательные лишь запасами серебра, золота и драгоценных камней, не говоря уже о рабах, переживают новый виток золотой лихорадки благодаря навязчивому желанию государств жестко контролировать свою территорию вплоть до самых отдаленных границ — неуправляемых периферий и всех их жителей.
Захват этих территорий и установление здесь жесткого контроля невозможны без соответствующей культурной политики. В основном периферия вдоль государственных границ материковой Юго-Восточной Азии населена людьми, по своим языковым и культурным практикам резко отличающимися от жителей центральных регионов, что порождает озабоченность государств беспорядочными перемещениями через национальные границы, создающими хаотичное множество идентичностей, потенциальные очаги политического протеста и сепаратизма. Слабые равнинные государства разрешали, вернее, терпели определенный уровень автономии, если у них не было иного выбора. Если же они обладали достаточными ресурсами, то пытались контролировать периферию, стимулируя или, реже, требуя ее лингвистического, культурного и религиозного соответствия основному населению страны. Например, в Таиланде народность лаху вынуждали говорить на тайском, получать образование, принимать буддизм и сохранять лояльность монархии; в Бирме народность карен — говорить на бирманском, принимать буддизм и поддерживать военную хунту[18].
Параллельно с экономическим, административным и культурным выравниванием проводилась и политика демографического поглощения, обусловленная демографическим давлением и планами государственного строительства. В поисках незанятой земли огромное число людей с равнин перемещалось или вытеснялось в горные районы. Здесь они воссоздавали привычные для себя формы поселений и оседлого земледелия и со временем начинали демографически доминировать над рассеянными и мало численными местными жителями. Комбинация принудительного заселения и демографического поглощения хорошо просматривается в серии государственных мобилизационных кампаний во Вьетнаме в 1950-х и 1960-х годах: «Оседлость — кочевникам», «За оседлое земледелие и оседлый образ жизни», «Атака на горы», «Очистим горы с помощью электричества»[19].
Культурная стандартизация и унификация автономных, самоуправляемых сообществ — длительный процесс, определяющий историческое самосознание каждого крупного материкового государства в Юго-Восточной Азии. Так, в официальном национальном нарративе Вьетнама «поход на юг» — к Меконгу и через дельту реки Бассак — представлен неточно, хотя это ключевое историческое событие, не уступающее по важности борьбе за национальное освобождение и самоопределение[20]. История Бирмы и Таиланда также отмечена перемещением населения с северных, первоначальных регионов заселения Мандалая, Аюттхаи и нынешнего Ханоя в соответственно дельты рек Иравади, Чао Прая и Меконг. Великие космополитические морские города Сайгон (сегодня это Хошимин), Рангун и Бангкок, созданные для охраны дельт рек, прибрежных территорий и внутренних районов, сегодня демографически доминируют над исторически более ранними городами в центре страны.
Понятие «внутренний колониализм» в самом широком своем смысле прекрасно описывает произошедшее, поскольку включает в себя поглощение, перемещение и/или истребление местных жителей; ботаническую колонизацию, в ходе которой ландшафт преобразовывался путем вырубки лесов, осушения или ирригации земель, чтобы обеспечить выращивание новых зерновых культур, заложить основы оседлого образа жизни и административной системы по государственному или колониальному образцу. Один из способов оценки результатов внутренней колонизации — рассмотреть ее как массированное, последовательное и широкомасштабное искоренение местного многообразия языков, малых народностей, локальных практик хозяйствования, форм земельной собственности, видов охоты, собирательства и лесничества, религиозных верований и т. д. Принудительное сближение периферии с центром представители государственной власти называли прогрессом и развитием цивилизации, считая, что таковые достижимы через распространение лингвистических, хозяйственных и религиозных практик доминирующей этнической группы (ханьцев, кинхов, бирманцев, тайцев)[21].
Оставшиеся безгосударственными народы и территории материковой Юго-Восточной Азии крайне малочисленны. Меня интересуют прежде всего так называемые горные народы Бирмы (их часто ошибочно называют племенами). Я сразу хочу уточнить, что странный термин «безгосударственные пространства» я использую не как синоним высокогорий, а как обозначение труднодоступных территорий. Государства, чье существование определялось концентрацией зернового производства, обычно возникали там, где были огромные пространства пахотных земель. В материковой Юго-Восточной Азии подобные агроэкологические районы обычно расположены в низинах, а потому я говорю о «равнинных государствах» и «горных народах». В случае же когда, как в Андах, наиболее пригодные для ведения традиционного сельского хозяйства земли расположены на значительных высотах, все происходило ровно наоборот: государства возникали в горных районах, а безгосударственные пространства складывались у подножий гор во влажных низинах. Иными словами, ключевой фактор государственного строительства — не высотность сама по себе, а возможности концентрации зернового производства. Безгосударственные пространства, в свою очередь, формировались там, где, прежде всего в силу сложных географических условий, государству было крайне сложно устанавливать и сохранять контроль. Вероятно, именно географические препятствия на пути государственной власти имел в виду император Минь, говоря о юго-западных провинциях своей империи: «Дороги длинны и опасны, горы и реки труднопроходимы, обычаи и традиции разнятся»[22]. Болота, топи, мангровые заросли, пустыни, вулканически опасные зоны, даже открытое море, как и постоянно расширяющиеся и меняющиеся дельты великих рек Юго-Восточной Азии, — все они выполняют одну и ту же функцию: независимо от своей высотности, это трудно- или недоступные земли, которые сводят на нет все попытки государственного контроля; потому на протяжении всей истории они служат спасительным убежищем для тех, кто противостоит государству или бежит от него.
Великое горное царство — Зомия, или Пограничные территории материковой Юго-Восточной Азии
Один из крупнейших, если не самый большой оставшийся на земле безгосударственный регион — это обширное высокогорное пространство, которое называется по-разному на равнинной части Юго-Восточной Азии, но в последнее время — Зомией[23].
Эта огромная горная область на границах материковой Юго-Восточной Азии, Китая, Индии и Бангладеш простирается примерно на 2,5 миллиона квадратных километров, занимая площадь, практически равную Европе. Вот как один из первых ученых, выбравших это пространство и населяющие его народы как объект изучения, Жан Мишо, оценил его масштабы: «С севера на юг оно охватывает южные и западные границы провинции Сычуань, полностью Гуйчжоу и Юньнань, западные и северные земли провинции Гуанси, западную часть провинции Гуандун, бóльшую часть северной Бирмы с соседней территорией самой [северо]-восточной Индии, север и запад Таиланда, практически весь Лаос выше долины реки Меконг, северный и центральный Вьетнам вдоль исторической области Аннамских гор, север и восточные рубежи Камбоджи»[24].
По самым приблизительным подсчетам населяющие Зомию меньшинства насчитывают от восьмидесяти до ста миллионов человек[25]. Эти народности состоят из сотен этнических подгрупп и используют наречия по крайней мере пяти языковых групп, которые не поддаются какой-либо классификации.
Будучи расположена на высоте от двухсот-трехсот метров до более чем четырех тысяч метров над уровнем моря, Зомия могла бы восприниматься как Аппалачи Юго-Восточной Азии, если бы не тот факт, что она охватывает территорию восьми национальных государств. Поэтому лучшей аналогией является Швейцария — горная периферия Германии, Франции и Италии, ставшая самостоятельным государством. Заимствуя удачную характеристику Эрнеста Геллнера, данную им берберам Высокого Атласа, можно назвать Зомию, эту широко раскинувшуюся горную территорию, «огромной Швейцарией, только без часов с кукушкой»[26]. Впрочем, эти высоко расположенные территории не формируют горную страну, поскольку здесь много болот, да и расположены они слишком далеко от основных городских центров соответствующих национальных государств[27]. Практически во всех возможных смыслах Зомия — маргинал: она географически далека от очагов экономической деятельности, формирует своеобразную контактную зону восьми национальных государств и целого ряда традиций и космологий[28].
Научные школы, исторически возникавшие в первых классических государствах, в их культурных центрах и, даже чаще, в национальных государствах, к сожалению, используют неадекватную оптику для изучения этого высокогорного пояса в качестве некоей целостности. Виллем ван Шендель — один из немногих ученых, кто впервые убедительно обосновал необходимость рассматривать эту совокупность «осколков» национальных государств как особый регион. Он пошел даже дальше и дал этой «осколочной» зоне собственное благородное имя — Зомия: этот термин привычен горцам, которые говорят на близких тибетских и бирманских языках на пограничных территориях между Индией, Бангладеш и Бирмой[29]. Собственно Зо означает «отдаленный» и потому несет в себе коннотацию жизни в горах; Ми — «люди». Практически по всей Юго-Восточной Азии сочетания Ми-зо и Зо-ми обычно используются для обозначения жителей удаленных горных районов, хотя в то же время это устойчивое этническое название географической области[30]. Ван Шендель смело предлагает растянуть границы Зомии до Афганистана и да же дальше; я все же буду использовать этот термин для обозначения более восточных горных территорий, начиная с горный районов Нага и Мизо на севере Индии и Читтагонгского горного района в Бангладеш.
На первый взгляд Зомия кажется неподходящим кандидатом на звание отдельного региона. Для того чтобы некоторая географическая область могла называться регионом, она должна обладать значимыми культурными чертами, явно отличающими ее от соседних территорий. Например, подобным образом Фернан Бродель обосновал свое утверждение, что населяющие побережья Средиземного моря сообщества составляют особый регион, поскольку между ними существуют длительные и интенсивные коммерческие и культурные связи[31]. Несмотря на глубочайшие политические и религиозные противоречия между Венецией и Стамбулом, они всегда были неотъемлемой частью легко опознаваемого мира постоянных обменов и взаимного влияния. Энтони Рид высказал схожее, но по многим параметрам куда более сильное предположение относительно прибрежных территорий Зондского шельфа в морской Юго-Восточной Азии, где осуществлять торговлю и миграцию было куда проще, чем в Средиземноморье[32]. Принцип формирования региона во всех случаях схож: в досовременном мире вода, особенно если она была спокойной, объединяла людей, тогда как горы, особенно если они были высоки и скалисты, — разобщали. Уже к 1740 году морское путешествие от Саутгемптона до мыса Доброй Надежды занимало не больше времени, чем поездка на дилижансе из Лондона до Эдинбурга.
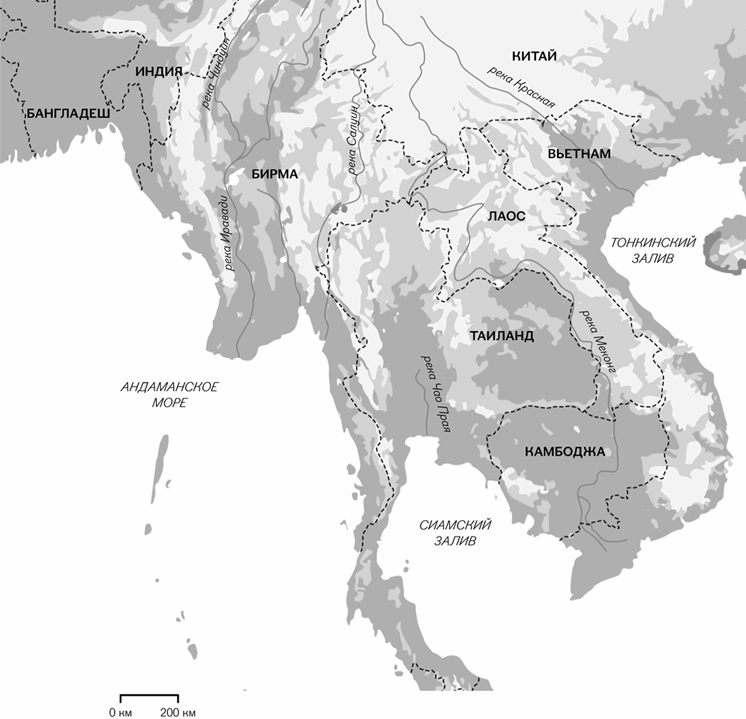
На этом основании следует считать Зомию скорее «негативным» регионом, поскольку разнообразие, а не однородность — ее отличительное свойство. На площади в сотню километров в здешних горах можно обнаружить большее культурное многообразие — языков, видов одежды и поселений, этнических идентичностей, экономических занятий и религиозных практик, — чем где-либо в долинах рек. Наверное, Зомия не может похвастаться тем безмерным культурным разнообразием, коим обладает почти калейдоскопичная Новая Гвинея, но и здесь крайне сложная этническая и лингвистическая мозаика ставила в тупик этнографов и историков, не говоря уже о претендентах на статус правителей. Научные исследования этой территории оказались столь же фрагментарными и автономными, как и она сама[33].
Я глубоко убежден не только в том, что Зомия — регион в полном смысле этого слова, но и в том, что невозможно сконструировать сколь-либо удовлетворительную модель становления равнинных государств, не понимая, насколько важную роль в их возникновении и распаде сыграла Зомия. Я считаю, что диалектические и симбиотические отношения гор и равнин, как антагонистических, но одновременно тесно взаимосвязанных пространств, должны быть исходной посылкой любых научных гипотез исторического развития Юго-Восточной Азии.
Бо́льшая часть физически и социально обжитых горных пространств внятно отличается от куда более плотно заселенных городских центров в долинах. Жители гор значительно более рассеяны и разнятся в культурном отношении. Такое впечатление, что сложные географические условия и относительная изоляция в течение веков стимулировали нарастание здесь «спецификации» языков, диалектов, одежды и культурных практик. Относительная доступность лесных ресурсов и земли на крутых склонах также способствовала большей дифференциации хозяйственных практик, чем это было возможно в долинах, где в ос нов ном безраздельно доминировало поливное рисоводство. Подсечно-огневое земледелие (или палевое, «огневое»), требующее больше территорий для постоянного выжигания все новых лесов под поля и иногда перемещений поселений, куда больше распространено в горных районах.
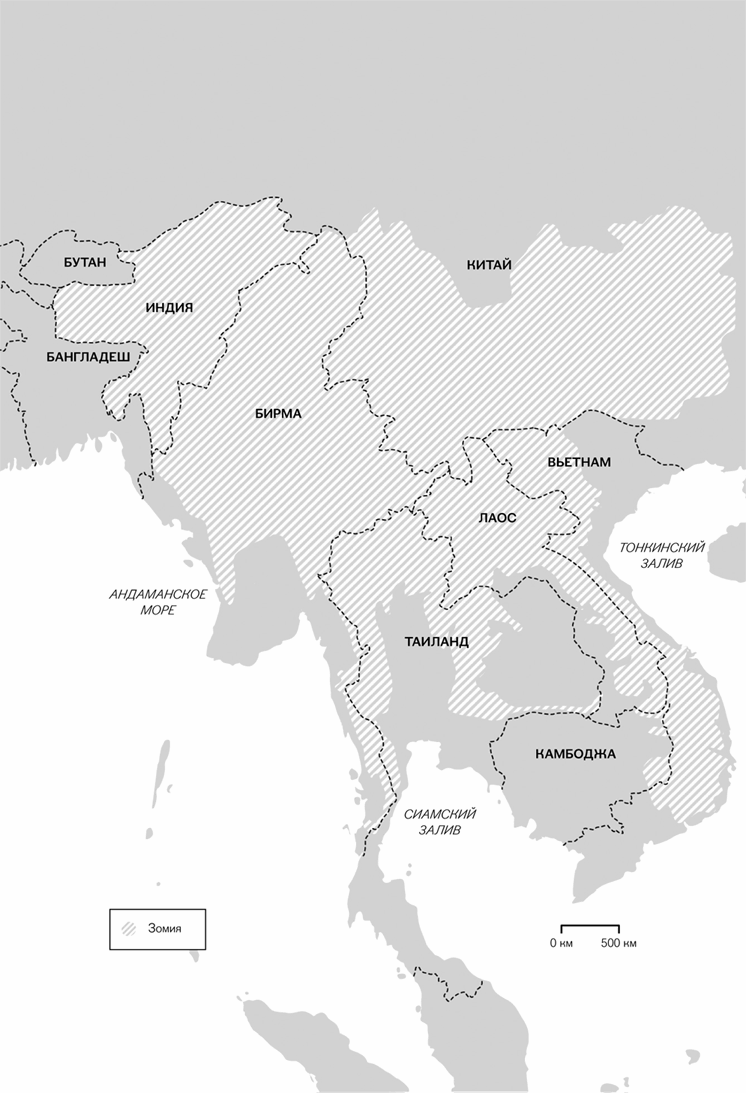
В целом социальная структура здесь более подвижна и эгалитарна, чем в иерархических равнинных обществах с кодифицированными системами права. Гибридные идентичности, территориальные перемещения и социальная подвижность — типичные характеристики жителей приграничных районов. Первые колониальные чиновники, проводя инвентаризацию своих новых владений, были удивлены, обнаружив деревни, в которых бок о бок проживали несколько «народностей»: на селение горных деревень говорило на трех-четырех языках, этническая идентичность отдельных членов или групп могла существенно варьировать, иногда даже в рамках одного поколения. Стремясь составить реестр населения по модели классификации растительного и животного мира Линнея, колониальные чиновники постоянно впадали в отчаяние, сталкиваясь с поразительной текучестью населения, которое просто отказывалось жить на одном месте. Тем не менее нашелся единственный поселенческий принцип, который смог внести хоть какой-то порядок в эту, казалось бы, полную анархию идентичностей, — высотность проживания[34]. Как первым заметил Эдмунд Лич, если смотреть на Зомию не с высоты воздушного шара, а в горизонтальной плоскости, как бы прочерчивая топографический профиль территории, то ее упорядоченность становится очевидна[35]. В любом ландшафте каждая конкретная группа обычно селится в достаточно ограниченном диапазоне высот, чтобы использовать агроэкономические возможности своей экологической ниши. Так, например, народность хмонг предпочитает селиться очень высоко (между восемьюстами и тысячей метров над уровнем моря) и выращивает кукурузу, опий и просо, которые бурно разрастаются на этих высотах. Если с воздушного шара или же на карте поселения хмонгов выглядят как случайная россыпь мельчайших точек, то только потому что эта народность целенаправленно селится только на вершинах гор, оставляя склоны и межгорные долины другим группам.
Расселение в горах в четком соответствии с высотностью над уровнем моря и экологическими нишами влечет за собой территориальное рассеяние. Однако дальние перемещения, брачные союзы, схожие хозяйственные практики и культурная преемственность способствуют формированию схожих идентичностей на огромных территориях. Народность акха, проживающая вдоль границы провинции Юньнань и Таиланда, и народность хани, населяющая верховья Красной реки во Вьетнаме, — очевидно похожие культуры, хотя и разделенные более чем тысячей километров. Обычно горные народности более схожи друг с другом, чем какая бы то ни было из них с равнинными группами, проживающими не далее тридцати-сорока миль от них. Таким образом, Зомия существует как регион не благо даря политическому единству, которого здесь просто нет, но вследствие аналогичности разнообразных горных сельскохозяйственных практик, моделей расселения и мобильности, принципов грубого эгалитаризма, который, что неслучайно, приписывает женщинам несколько более высокий статус, чем достался жительницам долин[36].
Ярчайшая отличительная черта Зомии в сопоставлении с низменными регионами, с которыми она граничит, — ее относительная безгосударственность. Конечно, в исторической перспективе в горах возникали государства — эта возможность гарантировалась достаточно плодородными плато и/или же расположением на пересечении важных сухопутных торговых путей. Наньчжао, Кенгтунг, Нан и Ланна — самые известные из них[37] — исключения, подтверждающие правило. Хотя проекты государственного строительства в изобилии возникали в горных районах, справедливости ради надо отметить, что лишь небольшая их часть смогла осуществиться. Претенденты на звание царств, которым удавалось сломить сопротивление объективных обстоятельств, сохраняли свои позиции лишь на очень короткий и заполненный бесконечными кризисами период времени.
Но если отставить в сторону эти немногочисленные случаи возникновения государств, горы, в отличие от долин, не платили налоги монархам и десятины каким-либо устойчивым религиозным институтам. Здешние жители представляли собой сообщества относительно свободных, обходившихся без государства животноводов и горных фермеров. Положение Зомии на границах центров равнинных государств определило ее своеобразную изоляцию и, соответственно, автономию, которой подобная изоляция способствует. Само размещение Зомии в буферной зоне на границах множества конкурирующих и примыкающих друг к другу суверенных государств предоставляло населяющим ее народам определенные преимущества в занятиях контрабандой, производстве опия и создании «мелких пограничных держав», с трудом балансирующих на грани утраты тяжело выторгованной квазинезависимости[38].
Более убедительное и, я думаю, корректное политическое описание Зомии состоит в том, что горные народы активно сопротивлялись поглощению классическими, колониальными и независимыми национальными государствами. Помимо использования преимуществ своей географической изоляции от центральных районов суверенных держав, бо́льшая часть Зомии «противостояла проектам национального и государственного строительства тех стран, на территории которых находилась»[39]. Это сопротивление стало особенно явным после получения многими государствами независимости после Второй мировой войны — Зомия стала ареной сепаратистских восстаний, борьбы за права коренных народов, милленаристских движений, региональных конфликтов и вооруженного противостояния равнинным государствам. Однако истоки этих протестов схожи: в доколониальную эпоху сопротивление, по сути, было культурно детерминированным отказом от жизненных практик долин и выражалось в бегстве из государств в горы в поисках прибежища.
В колониальный период политическая и культурная автономия горных районов поддерживалась европейцами, которые воспринимали местный сепаратизм как малозначимую для себя проблему по сравнению с сопротивлением большинства равнинных жителей колониальным порядкам. Одним из результатов классической политики «разделяй и властвуй» стало то, что, за редкими исключениями, горные народы играли незначительную роль или вообще не участвовали в антиколониальных восстаниях (а иногда выступали на стороне колониальных властей). В лучшем случае они оставались в маргинальной позиции по отношению к национально-освободительным нарративам, в худшем — считались пятой колонной, угрожающей национальной независимости. Отчасти по этой причине постколониальные равнинные государства стремились установить полный контроль за горными территориями, используя для этого методы воен ной оккупации, проводя кампании против подсечно-огневого земледелия, основывая поселения, стимулируя миграцию горожан в горные районы, насаждая религиозные практики, побеждая пространство строительством дорог, мостов и телефонных линий, претворяя в жизнь программы развития, в ходе которых в горах вводились равнинные модели административного управления и культурные стили жизни.
Но горы — не только пространство политического сопротивления, но и зона культурного протеста. Если бы дело было только в политике и власти, то, скорее всего, горные сообщества походили бы на равнинные государства в культурном отношении, отличаясь от них лишь высотностью и рассеянностью расселения, обусловленными географическими факторами. Однако нельзя сказать, что в целом жители гор похожи на население равнин с точки зрения культурных, религиозных и лингвистических практик. Социокультурная пропасть между горами и долинами до самого недавнего времени воспринималась в Европе как некая историческая константа. Фернан Вродель признавал политическую независимость гор и одобрительно цитировал высказывание барона де Тотта о том, что «самые скалистые горы всегда были прибежищем свободы». Но он пошел еще дальше, предположив наличие непреодолимого культурного разрыва между долинами и горами: «Горы, как правило, представляют собой мир, удаленный от цивилизации, детища городов и низменностей. Жители гор в большинстве случаев остаются на обочине великих цивилизационных движений, бывают не затронуты их медленным распространением. Обладая хорошей способностью к расширению по горизонтальной плоскости, эти движения оказываются бессильными перед препятствиями в несколько сотен метров, мешающими им подниматься по вертикали»[40]. По сути, Вродель воспроизводит идею, высказанную столетия назад, в XIV веке, великим арабским философом Ибн Хальдуном, заметившим, что «арабы могут установить контроль только на равнинной территории» и не преследуют племена, которые скрываются в горах[41]. Сравните смелое утверждение Вроделя о том, что цивилизации не могут подняться в горы, с почти идентичным высказыванием Оливера Уолтерса о доколониальной Юго-Восточной Азии, в котором он процитировал слова Пола Уитли: «Многие люди жили на отдаленных высокогорьях и были вне досягаемости городских центров, где сохранились записи.
Мандалы [судебные центры цивилизаций и власти] — феномен равнин, и даже здесь географические условия способствовали неуправляемости. Пол Уитли верно заметил, что „санскрит перестает звучать уже через 500 метров от них“»[42].
Исследователи Юго-Восточной Азии не перестают поражаться тому, сколь жесткие ограничения накладывает география, особенно высота над уровнем моря, на культурное и политическое влияние. Пол Мае, изучая Вьетнам и вторя Уитли, заметил по поводу распространения вьетнамского языка и культуры, что «это этническое приключение заканчивается у подножия горных хребтов страны»[43]. Оуэн Латтимор, широко известный прежде всего своими исследованиями северных границ Китая, также отметил, что индийская и китайская цивилизации, в соответствии с высказыванием Вроделя, хорошо перемещались по равнинам, но быстро выдыхались, как только сталкивались со скалистыми горами: «Подобная стратификация пространства характерна не только для Китая, она переходит его границы, проникая на полуостров Индокитай, в Таиланд и Бирму, — влияние великих древних цивилизаций распространяется безмерно далеко на низменностях, где возникают очаги сельского хозяйства и большие города, но заканчивается перед высотами»[44].
Хотя Вомия исключительно разнообразна в лингвистическом плане, как правило, языки, на которых говорят в горах, явно отличаются от используемых в долинах. Структуры родства, по крайней мере формальные, также различны в горах и на равнинах. Отчасти это объясняет идея Эдмунда Лича, который охарактеризовал горные народы как наследующие «китайской модели», а равнинные общества — как последователей «индийской» или санскритской традиции[45].
Горные сообщества, как правило, во всем отличны от равнинных: первые склоняются к анимизму или, в XX веке, к христианству, но не к «великим традиционным» религиям спасения, которые исповедуют жители равнин (в частности буддизм или ислам). Даже если, что иногда случается, горные народы принимают «мировую религию» своих равнинных соседей, они делают это с той степенью нетрадиционности и таким милленаристским пылом, которые скорее пугают, чем внушают доверие элитам равнинных государств. Горные жители производят излишки, но не используют их в интересах царей и монахов. Отсутствие крупных, устойчивых, поглощающих излишки производственной деятельности религиозных и политических структур обусловливает возникновение в горных районах социальной пирамиды, которая, в отличие от стратификационных моделей равнинных обществ, имеет мало уровней и локально детерминирована. Статусные различия и маркеры достатка весьма разнообразны и в горных, и в равнинных районах — различие в том, что во втором случае они имеют надлокальный и устойчивый характер, тогда как в горах они одновременно нестабильны и географически локализованы.
Эта характеристика, конечно, не раскрывает разнообразия политических практик в горных сообществах. Подобная вариативность ни в коем случае не является лишь функцией «этничности», хотя некоторые горные народности, например лаху, хму и акха, исключительно эгалитарны и децентрализованны. Однако повсеместно встречаются группы, на которые такое обобщение не распространяется. Окажем, среди народностей карен, качин, чин, хмонг, яо/мьен и ва встречаются как относительно иерархизированные подгруппы, так и децентрализованные, эгалитарные. Что удивительно и важно, так это то, что уровень иерархичности и степень централизации исторически изменчивы. Насколько я понимаю, вариативность существенно зависит от стремления имитировать процессы государственного строительства. Иными словами, либо речь идет о некотором кратковременном военном союзе, либо о каком-то типе «грабительского капитализма», основанном на захвате рабов и сборе дани с жителей равнин. Горные народы вполне могли выстраивать взаимовыгодные отношения с равнинными царствами, что совершенно не означало их политического поглощения или подчиненного положения, — они могли руководствоваться соображениями выгоды в случае контроля прибыльного торгового пути или охраны удобного выхода на ценные рынки. Политические структуры горных сообществ, за редчайшими исключениями, были имитационными в том смысле, что могли использовать внешнюю атрибутику и дискурс монархии, но не ее сущностные практики — налогообложение и прямой контроль за всем и вся, не говоря уже о постоянной армии. Горные государственные формы — это почти всегда редистрибутивные отношения с системой состязательных пиршеств, и поддерживаются они лишь из соображений доступной таким образом выгоды. Если иногда они и казались относительно централизованными, то, по мнению Варфилда, лишь потому что изображали «теневые империи» кочевых скотоводов, которые хищная периферия создавала, чтобы монополизировать преимущества торговли и набегов на окраинах равнинных государств. Горные государственные формы обычно еще и паразитичны в том смысле, что разрушались сразу после того, как вскормившая их империя распадалась[46].
Зоны спасения от государства
Существуют убедительные доказательства того, что Вомия — зона не только сопротивления равнинным государствам, но и спасения от них[47]. Используя слово «спасение», я хочу сказать, что большая часть населения гор в течение более чем полутора тысяч лет перебиралась сюда, чтобы избежать многочисленных невзгод, связанных с проектами государственного строительства на равнинах. Горные народы отнюдь не «отстали» от прогрессивной поступи цивилизационного развития на равнинах, а в течение столетий сознательно выбирали для жизни территории, по определению недоступные государственному контролю. Жан Мишо отмечает в этой связи, что так называемый кочевой образ жизни в горах является «стратегией бегства и выживания», приводя в подтверждение беспрецедентное количество массовых восстаний во второй половине XIX века в центральных и юго-западных районах Китая, в результате которых миллионы беженцев устремились на юг, в отдаленные высокогорные регионы. Ему импонирует моя идея, что Вомию в исторической перспективе следует рассматривать как регион бегства от государств, прежде всего от Ханьской империи. Он полагает, что, «возможно, справедливо утверждение, будто по крайней мере часть горных жителей, перебравшихся на эти высокогорья из Китая за последние пять столетий, были вынуждены покинуть отчий дом в результате агрессии со стороны более мощных соседей, в первую очередь в результате Ханьской экспансии»[48].
Детальные и убедительные документальные подтверждения того, что Ханьская экспансия порождала конфликты и миграционные потоки, исключительно многочисленны начиная с эпохи династии Мин (1368), не говоря уже о правлении императоров Цин. Конечно, самые ранние свидетельства редки и довольно сомнительны, особенно если учитывать удивительную подвижность этнических и политических наименований в те времена. Тем не менее общая ситуация была такова: по мере того как разрасталось китайское государство, народы, оказавшиеся под ударом экспансии, либо поглощались (становились ханьцами), либо были вынуждены бежать, нередко после неудачного восстания. Беглецы формировали, пусть и временные, сообщества, которые, по сути, «самомаргинализировались» посредством миграции[49]. Поскольку этот процесс повторялся снова и снова, культурно многосложные зоны бегства возникали уже внутри империй. По мнению Фискесьё, «история безгосударственных народов в этом регионе» может быть описана как череда столкновений тех, кто длительное время проживал в горах (например, народа ва), с теми, кто искал здесь спасения: «Среди беглецов [от китайской государственной власти] мы видим множество представителей тибето-бирманских этнолингвистических групп (лаху, хани, акха и др.), а также говорящие на языках мяо и хмонгов другие народы… которые называют „горными племенами за пределами Китая“, „наследниками поражений“, в результате которых они в течение последних нескольких столетий перебирались в северные районы современных государств — Таиланда, Бирмы, Лаоса и Вьетнама, где многие из них до сих пор считаются вновь прибывшими»[50].
Здесь, в регионах, недоступных прямому государственному контролю, а потому защищенных в определенной степени от налогов, трудовых и воинских повинностей и отнюдь не редких эпидемий и неурожаев, связанных с высокой концентрацией населения и приверженностью монокультурам, подобные группы обретали относительную свободу. Здесь они развивали то, что я назвал бы сельским хозяйством беглецов, — те формы земледелия, что мешали их поглощению соседними государствами. Даже их социальную структуру можно вполне уверенно расценивать как способствующую избеганию государства, поскольку ее формат был призван помогать территориальному рассеянию и автономии, предотвращая возникновение любых форм политического подчинения.
Невероятная лингвистическая и этническая текучесть в горных районах — сама по себе важнейший социальный ресурс адаптации к изменчивым властным рокировкам, потому что она упрощает феноменально искусные трансформации идентичности. Жители Вомии, как правило, не только характеризуются лингвистической и этнической подвижностью и вариативностью, но и, в своей приверженности следовать харизматическим лидерам, способны на практически мгновенные социальные преобразования — в одночасье покинуть свои поля и дома, чтобы присоединиться к уже существующему сообществу или создать собственное по велению авторитетного проповедника. Их готовность без колебаний «перевернуть свою жизнь на 180 градусов» в конечном счете объясняется желанием избежать возникновения социальной структуры. Если рассуждать и дальше в этом ключе, пусть и с куда большей натяжкой, то ровно так же можно интерпретировать и неграмотность горных народов. Практически все они рассказывают легенды, согласно которым когда-то давно они имели письменность, но либо утратили ее, либо она была украдена. Учитывая значительные преимущества гибкой устной традиции перед письменными версиями истории и генеалогий, можно объяснить утрату грамотности и корпуса письменных текстов как более или менее целенаправленную адаптацию к безгосударственному состоянию.
Если суммировать мою аргументацию, то она такова: для адекватного понимания истории горных народов ее следует трактовать как историю не потомков архаических сообществ, а «беглецов» от процессов государственного строительства на равнинах — в длительной исторической перспективе мы фактически имеем дело с «высадившимися на необитаемом острове». Большая часть сельскохозяйственных и социальных практик горных жителей — способы извлечь из этого бегства максимальную выгоду, сохранив при этом все экономические преимущества поддержания отношений с равнинными государствами.
Территориальная концентрация граждан и производства в условиях низкой плотности населения, что характерно для Юго-Восточной Азии, требовала различных форм принуждения к труду. Все без исключения государства здесь были рабовладельческими, причем некоторые — вплоть до начала XX века. В доколониальный период войны в Юго-Восточной Азии были чаще обусловлены захватом не земель, но как можно большего числа пленников, которых перемещали в центральные районы государств-победителей. В этом смысле последние мало чем отличались от, скажем, Афин времен Перикла, где численность рабов в пять раз превышала количество граждан.
Результатом подобных проектов государственного строительства стало возникновение осколочных зон, или зон бегства, куда устремлялись все те, кто хотел спастись от закабаления. Эти зоны — не что иное, как прямой «эффект государства». А Зомия, в основном вследствие безмерных экспансионистских претензий молодой китайской империи, оказалась одной из самых больших и древних из подобных зон. Такие регионы — неизбежное следствие жестких проектов государственного строительства, а потому они есть на всех континентах. Ниже я рассмотрю некоторые из них в сравнительном контексте, а сейчас лишь перечислю несколько примеров, чтобы показать, насколько широко распространено это явление.
Поскольку испанская колонизация в Новом Свете основывалась на принуждении местного населения к труду, последнее, стремясь обрести свободу, было вынуждено бежать в труднодоступные районы — горные и засушливые[51]. Они характеризуются значительным лингвистическим и этническим разнообразием, а порой и упрощением социальной структуры и практик хозяйствования (переходом к скотоводству, подсечно-огневому земледелию) в целях повышения мобильности. Ровно то же самое случилось и во времена испанского правления на Филиппинах: горные районы северного Лусона были заселены в основном филиппинцами, которые бежали сюда с равнин от рабовладельческих рейдов малайцев и жестких мер подавления сопротивления местного населения испанцами[52]. После периода адаптации к экологическим условиям жизни в горах здесь начался процесс этногенеза, который привел к неверному восприятию горных народов как потомков переселенцев доисторических миграционных волн на остров.
Казачество, сформировавшееся на многих границах России, — еще один яркий пример описанных выше процессов. Изначально казаки — ни больше ни меньше как беглые крепостные со всех губерний европейской части России, которые оседали на пограничных территориях[53]. По критерию региона проживания сложились разные казачьи «войска»: донские казаки (в бассейне реки Дон), азовские (у Азовского моря) и т. д. В этих пограничных районах, копируя особенности верховой езды своих татарских соседей и деля общие пастбища, они превратились в «народ», который позже служил в российской, османской и польской кавалериях. История цыганских групп рома и синти в Европе в конце XVII века — еще один показательный пример[54]. Их, как и другие стигматизированные народы, приговаривали по суду к двум типам трудовой повинности: рабству на галерах в Средиземном море или же, на северо-востоке, службе в пехоте или военными носильщиками в княжестве Бранденбург-Пруссия. В результате цыгане сконцентрировались на узком клочке земли, в так называемом преступном коридоре, — единственной зоне спасения между этими двумя затягивающими и столь схожими смертельными опасностями.
Захваты в плен и закабаление, которые составляли суть первых процессов государственного строительства, породили зоны бегства и спасения, а рабство как трудовая система создало множество «зомий» — крупных и мелких. Можно очертить на карте ряд высокогорных районов Западной Африки, которые были относительно свободны в течение почти пяти долгих столетий рабовладельческих рейдов и торговли, затянувших в свои сети десятки миллионов рабов[55]. Численность населения этой зоны свободы постоянно росла, несмотря на сложные географические условия жизни и необходимость вводить всё новые хозяйственные практики. Многие из тех, кому не удалось спастись из лап работорговцев в Африке, будучи перевезены в Новый Свет, быстро сбегали и создавали на отдаленных территориях поселения беглых рабов (маронов) везде, где существовало рабство. Известное высокогорное плато Кокпит на Ямайке, пальмовые леса (палмары) Бразилии, где возник Палмарис — фактически государство примерно двадцати тысяч беглых рабов, Суринам с самой большой численностью беглых рабов-маронов — лишь три показательных примера. Если бы мы включили в этот список и менее масштабные «убежища» на болотах, топях и в дельтах рек, то он бы многократно увеличился. Назовем лишь несколько из них: обширные болота в низинах Евфрата (осушенные в годы правления Саддама Хусейна) в течение двух тысяч лет служили прибежищем для спасающихся от государственного контроля. Ту же функцию, хотя и в меньших масштабах, выполняло легендарное Великое мрачное болото на границе Северной Каролины и Виргинии, Припятские болота в Польше, сегодня расположенные на белорусско-украинской границе, и Понтийские болота недалеко от Рима (в конце концов осушенные Муссолини) — все они известны как зоны спасения от государства. Описок подобных географических убежищ будет по крайней мере столь же длинным, как и перечень порождающих их типов подневольного труда.
Жители высокогорий Юго-Восточной Азии, несмотря на все свое бурное разнообразие, все же имеют несколько общих характеристик, принципиально отличающих их от равнинных соседей. История возникновения горных народов неразрывно связана с бегством, а потому по отношению к государству они представляют по крайней мере оппозицию, а иногда и силы активного сопротивления. Поскольку эти взаимоотношения, которые мы стремимся показать, имеют исторический и структурный характер, то совершенно бессмысленно ограничивать анализ исключительно рамками национальных государств. Большую часть того исторического периода, который нас интересует, их вообще не существовало, а когда они все же, пусть поздно, но возникли, многие горные народы продолжали вести свою кроссграничную жизнь, как будто ничего вокруг не изменилось. Понятие «Вомия» — это попытка обозначить новый тип «пространственных» исследований, где выделение особого региона не имеет ничего общего с национальными границами (например Лаос) или стратегическими соображениями (Юго-Восточная Азия), а базируется на экологических закономерностях и структурных взаимоотношениях, которые легко преодолевают любые государственные границы. Если мы будем верны выбранному научному пути, то модель «исследований Вомии» вдохновит других ученых идти по нему применительно к другим регионам и всячески его развивать.
Исторический симбиоз гор и равнин
Бессмысленно изолированно рассматривать формирование классических равнинных государств (мандал и современных), так как это грозит порождением заблуждений, ведь города всегда существовали в симбиотическом единстве с горными народами[56]. Говоря о симбиозе, я апеллирую к биологической метафоре более или менее близкого сосуществования двух организмов, в нашем случае — социальных, причем специфика симбиоза — антагонизм, паразитизм или даже «синергизм», взаимное обогащение — не оговаривается и не принципиальна.
Невозможно написать логически последовательную историю горных территорий без учета их постоянного взаимодействия с равнинными городскими центрами; впрочем, невозможно написать и логически последовательную историю городов без понимания их связи с горной периферией. В общем и целом большинство исследователей горных народов прекрасно осознают это диалектическое единство, наличие глубинных исторических предпосылок символического, экономического и человеческого обмена между двумя типами сообществ. К сожалению, нельзя сказать то же самое даже о самых выдающихся описаниях равнинных городских культур[57], и это неудивительно. Рассматривая их как самодостаточные образования (например, «тайскую цивилизацию» или «китайскую культуру»), историки воспроизводят совершенно ненаучную модель, по сути, пропагандируя выгодную государственным элитам герметичную трактовку культуры. Я полагаю, что горные и равнинные сообщества должны изучаться в симбиозе — иначе их история теряет смысл.
Писать историю равнинных городских центров без учета их взаимоотношений с горными народами — все равно что писать историю колониальной Новой Англии и Ореднеатлантических штатов, забывая о границах американских поселений; все равно что рассказывать о рабстве в Соединенных Штатах до гражданской войны, не упоминая об освобожденных рабах и Канаде как зоне потенциальной свободы. В каждом из перечисленных случаев внешние границы определяли, обозначали и нередко конституировали правила поведения внутри страны. Если же государственный центр забывал об этом, то не просто «упускал из виду» горные территории, но, по сути, игнорировал те приграничные условия жизни и обмены, которые служили гарантией самого его существования.
Постоянные перемещения между равнинами и горами, их причины, особенности и последствия — вот предмет моего рассмотрения. Ведь многие жители городов — «экс-горные», а жители гор — «экс-равнинные», причем смена местожительства в том или ином направлении не исключала возможности возврата. В одних обстоятельствах народы дистанцировались от государства, позже желали (или насильственно принуждались к этому!) стать гражданами данного или какого-то другого государства, чтобы через несколько столетий вновь выскользнуть из его лап — вследствие его распада или собственного бегства. Подобные территориально-статусные трансформации нередко влекли за собой изменения этнической идентификации в широком смысле этого слова. Я сторонник радикального «конструктивизма» в изучении «горных племен» материковой Юго-Восточной Азии. По крайней мере, при первом рассмотрении можно лучше понять особенности их жизни, если видеть в них беженцев, которые заселили горные пространства за последние полторы тысячи лет, покинув не только Бирму, Таиланд и Сиам, но прежде всего Ханьскую империю в период экспансионистской политики династий Тан, Юань, Мин и Цин, когда войска и поселенцы хлынули на юго-запад Китая. В горных районах поселенцы неоднократно могли менять местожительство, будучи вытеснены другими, более сильными группами беженцев, перед угрозой нового витка государственной экспансии или же в поисках новых земель и автономии. Вполне справедливо считать, что расположение и тип поселения, многие экономические и культурные практики в горах — не что иное, как «эффект государства». Такая версия истории радикально противоречит общепринятой, в соответствии с которой население гор — это потомки первобытных людей, оставленные здесь теми, кто спустился с гор и создал цивилизацию.
Аналогичным образом можно считать равнинные центры ирригационного выращивания риса «эффектом гор». Конечно, равнинные государства — относительно новые исторические образования, оформившиеся примерно в середине I тысячелетия н. э. как объединения возникших ранее сообществ очень разных людей, в том числе оседлых земледельцев, которые прежде никогда не были гражданами каких-либо государств[58]. Первые, самые ранние государства-мандалы были скорее не военными, а культурными центрами и привлекали тех, кто, независимо от своего происхождения, желал принять их религиозные, лингвистические и культурные практики[59]. Возможно, складываясь из осколков множества культур, равнинная идентичность стремилась всеми силами максимально социокультурно отделить себя от всех групп, оставшихся за пределами государства. Иными словами, если горные сообщества можно рассматривать как эффект государства, то культуры равнин — как эффект гор.
Большинство эпитетов, которые мы перевели бы как «грубый», «неотесанный», «варварский», а в случае китайского языка — как «некультурный», — используются для характеристики жителей гор и лесов. «Лесной житель» и «пещерный человек» — сегодня обозначения «нецивилизованности». Удивительно, насколько прочным и долговечным, несмотря на многовековые интенсивные миграции людей, товаров и культур через легко проницаемые границы гор и равнин, оказалось это культурное противопоставление в нашей повседневной жизни. Жители двух географических зон убеждены в своих сущностных различиях, хотя это представление противоречит многочисленным историческим фактам.
В чем же причина этого парадокса? Вероятно, первый шаг к его пониманию — осознание того факта, что взаимоотношения равнинных государств и горных народов не только симбиотичны, но и исторически синхронны и квазиконфликтны. Согласно как традиционной трактовке горных «племен», так и современному фольклору, в них видят реликты прежних стадий человеческой истории: какими мы были до того, как начали ирригационно выращивать рис, научились писать, развили искусства и приняли буддизм. «Именно так и никак иначе» — эта версия истории считает равнинные культуры более поздними, развитыми, цивилизованными, оставившими все дурное позади, в племенном строе, и это страшно искажает исторические факты. Равнинные и горные сообщества складывались одновременно и взаимосвязанно, дополняя и буквально следуя по пятам друг за другом. Жители гор всегда контактировали с городскими центрами первых равнинных царств напрямую или через прибрежные торговые пути; и жители городов всегда взаимодействовали с безгосударственной периферией: Делёз и Гваттари называли эти взаимосвязи «локальными действиями банд, маргиналов и меньшинств по защите прав разрозненных сообществ в противовес органам государственной власти», благодаря чему «непостижимым образом они оставались полностью свободными от государства»[60].
Ровно те же отношения складывались у государств с кочевниками, включая скотоводческие племена. Так, Пьер Кластр убедительно показал, что якобы примитивные индейцы Южной Америки — это не древние племена, которые не сумели изобрести оседлое земледелие и государственные формы жизни, а, скорее, бывшие крестьяне, отказавшиеся от оседлого земледелия и деревенского образа жизни после завоевания Америки: свою роль сыграли и демографический коллапс вследствие новых пандемий, и принудительный труд в колониях[61]. Миграции и жизненные практики индейцев помогали им держать государство на расстоянии. В степях Центральной Азии древнейшие на планете кочевые племена, как показал Грязнов, тоже прежде занимались оседлым земледелием, но также отказались от него по политическим и демографическим причинам[62]. Латтимор пришел к тому же выводу: кочевое скотоводство возникло после оседлого земледелия — скотоводами становились оседлые земледельцы на границах пахотных земель, которые «отделялись от сельских сообществ»[63]. Государства и кочевые народы — это не некие последовательные стадии социальной эволюции, а близнецы, возникшие примерно в одно время и связанные тесными неустранимыми узами, пусть и нередко жестокой вражды.
Сложный симбиоз сотрудничества и противостояния лежит в основе истории и антропологии Ближнего Востока. В Магрибе он принимает форму борьбы арабского и берберского населения. В своей известной книге «Святые в горах Атлас» Эрнест Геллнер показал динамику того, что я имею в виду: политическая автономия и племенной уклад берберов в горах Атлас — «не „догосударственный“ племенной строй, а политический и частичный отказ от конкретных форм управления, не исключающий принятия присущих берберским племенам культурных и этических норм»[64]. Приняв общеарабские культурные паттерны и мусульманство, эти племена категорически и последовательно отрицали лишь тип политического устройства арабских стран. Поэтому вплоть до недавнего времени, как утверждает Геллнер, историю Марокко можно было описывать как противостояние земель malchazen («обнесенных границами») и земель siba («за пределами границ»). Siba принято переводить как «институциональное диссидентство» (реже — «анархия»), хотя фактически слово обозначает «неуправляемость», зону политической автономии и независимости в противовес malchazen — «управляемости» и подчиненности государству. По Геллнеру, политическая независимость — всегда выбор, а не данность.
В отношении групп, сознательно покинувших города или оставшихся за пределами государственных границ, Геллнер использует выражение «маргинальный трайбализм», чтобы подчеркнуть их политически неопределенный статус:
Подобные племена знают о возможности… стать частью централизованного государства… Но они целенаправленно от нее отказываются и яростно ей сопротивляются. Таковы племена в горах Атласа. Вплоть до начала эпохи современных государств они были сознательными диссидентами… «Маргинальный» трайбализм… — это тип племенного строя, который сложился на, границах неплеменных сообществ по причине того, что последствия подчинения делают очень привлекательным избегание политической централизации и государственной власти, а горы и пустыни очень облегчают побег. Такой трайбализм расчетливо маргинален и четко понимает, от чего отказывается.
В Магрибе, как и в Вомии, водораздел между зонами, подконтрольными государству и маргинальными, автономными, имеет географический, экологический и политический характер: очевидна «связь между высокогорьями, говорящими на берберском, и политическим диссидентством» в том смысле, что «узкие ущелья и горы — явный конец государственного контроля (bled el-makhazen) и начало диссидентства (bled es-siba)»[65].
Пример берберов показателен по двум причинам. Во-первых, Геллнер очень точно продемонстрировал, что демаркационная линия между арабским и берберским населением по сути своей не цивилизационная, не говоря уже о религиозной, а политическая, отделяющая граждан от неподконтрольных государству племен. Если предположить, и это делает Геллнер, что история знает многочисленные переходы через этот рубеж, то возникает вопрос, насколько политический статус этнически предопределен, то есть насколько он зависит от фундаментальных человеческих различий, а не является результатом сознательного выбора. Иными словами, те, кто по каким бы то ни было причинам стремился избежать «огосударствления», себя «трайбализировали» — этничность и родовой строй возникали там, где заканчивался суверенитет и налогообложение. Этническая периферия запугивалась и стигматизировалась официальной риторикой именно потому, что находилась вне зоны влияния государства и представляла собой пример успешного ему противостояния, столь притягательный для потенциальных политических беженцев.
Во-вторых, анализ берберо-арабских отношений, проведенный Геллнером, примечателен и как долгожданный иной взгляд, корректирующий официальную государственную версию — «взгляд с равнин» или «взгляд из городских центров» на «варварскую периферию» как осколок прошлого, который рано или поздно, по частям и с разной скоростью будет поглощен светом арабской цивилизации. В Юго-Восточной Азии и Магрибе данный взгляд исключительно популярен, поскольку в прошлом столетии неуправляемая периферия была постепенно поглощена современными национальными государствами. Но идея, что просвещенный центр, как магнит — железные опилки, притягивал и объединял периферийных людей, по крайней мере наполовину ошибочна: жизнь вне государства была одновременно и проще, и привлекательнее; исторические факты говорят об эволюционных колебаниях политического состояния, а не о линейном развитии. Конечно, избегание государства — тоже не истина в последней инстанции, а, скорее, факт, к сожалению, повсеместно не получающий должного освещения в доминирующем цивилизационном нарративе, несмотря на свое историческое значение.
Моя модель симбиоза и противостояния, политического выбора и его географической подоплеки позволяет, грубо говоря, понять исторические взаимоотношения горных народов и равнинных государств материковой Юго-Восточной Азии, где, как и в Магрибе, различия «государственности» и «безгосударственности» — очевидный социальный факт, явно выраженный в языковых практиках и массовом сознании. В различных культурных контекстах коннотации пар «просвещенный» — «первобытный», «культурный» — «дикий», «равнинные народы» — «горные народы» эквивалентны антонимам makTiazen и siba, то есть «управляемый» — «неуправляемый». Смысловая идентичность понятий «быть цивилизованным» и «быть гражданином» настолько не ставится под сомнение и воспринимается как сама собой разумеющаяся, что антонимичность понятий «граждане» и «самоуправляемые народы» прекрасно отражает ее суть.
Классические государства Юго-Восточной Азии, как и Ближнего Востока, были окружены относительно свободными сообществами — безгосударственными территориями и самоуправляемыми племенами, жившими не только в горных районах, но и на болотах, топях, в мангровых зарослях, лабиринтах и дельтах рек. Эти маргинальные группы были одновременно принципиально важным торговым партнером равнинных царств, убежищем от государственных институций и власти, зоной относительного равенства и интенсивной территориальной мобильности, поставщиком рабов и граждан для близлежащих государств и источником экокультурной идентичности, практически зеркально отражавшей идентичность граждан равнинных царств. Итак, хотя мое внимание приковано к высокогорьям Вомии, я говорю в целом о взаимоотношениях без- и государственных регионов. Я фокусируюсь на Вомии, этом огромном межгосударственном пространстве, в силу ее важности как наиболее значимого в истории сложно устроенного горного приюта для беглецов от равнинных проектов государственного строительства. Ее жители приходили на эти земли или оставались тут, желая оказаться не досягаемыми для государств. Здесь географическое название Юго-Восточная Азия, обычно понимаемое как группа национальных государств в заданных географических координатах, не работает и затрудняет наше понимание происходящего. За два тысячелетия Вомию населили бесчисленные мигранты из пограничных с ней стран; многие из них были когда-то оседлыми земледельцами. Они бежали на запад и юг из Ханьской империи и иногда Тибета (тайцы, народности яо/мьен, хмонг/мяо, лаху, аха/хани), на север — из Таиланда и Бирмы по политическим, культурным и нередко военным причинам.
Поэтому нельзя считать, что в Вомии жили некие рассеянные горные племена — изучать местные народы следует как некую позиционную и относительную противоположность равнинных царств. Этническая дифференциация и идентичность горных народов не только значимо варьировали во времени, но и всегда отражали их коллективное отношение к государственной власти. Рискну предположить, что здесь никогда не было «племен» в полном смысле этого слова: жизненные и хозяйственные практики горных народов, выбор ими возделываемых культур — это своеобразные формы сдерживания или протеста против любых попыток их государственного поглощения. И наконец, как было показано выше, социальную структуру и паттерны проживания в горах следует рассматривать тоже как политический выбор против государства. Я убежден, что своеобразный эгалитаризм социальных структур в Юго-Восточной Азии — это аналог берберского принципа «разделяйся, чтобы не подчиняться»[66]. И это отнюдь не социологические или культурологические абстрактные схемы: реальные правила наследования, генеалогические ветви, локальные модели лидерства, структуры домохозяйств и, возможно, даже уровень грамотности проектировались целенаправленно, чтобы предотвратить (реже — способствовать) поглощение государством[67], хотя конкретные формы всего описанного можно квалифицировать по-разному и находить множество исключений. Моя задача — не формулировка провокационных вопросов, а выражение сомнения, порожденного историческими фактами, в связи с характеристикой относительно автономных горных племен как отсталых и нецивилизованных.
Модель анархической истории материковой Юго-Восточной Азии
Адекватное понимание логики жизни народов Юго-Восточной Азии на протяжении большей части их истории блокирует ее государственная версия — классическая, колониальная и национально-независимая, которая вполне оправдана в отношении последних пятидесяти лет, но грубо искажает суть более ранних периодов, причем чем дальше в историю, тем это искажение существеннее. Большая часть истории Юго-Восточной Азии прошла фактически без равнинных государств: они возникали очень ненадолго, сравнительно мало что контролировали на небольшом радиусе за пределами царских дворов и в целом не могли систематически пользоваться своими подданными как ресурсами (в том числе как рабочей силой). Междуцарствия не были редкостью и случались чаще, чем периоды царств: в доколониальную эпоху скопление крошечных княжеств позволяло населению легко менять местожительство и лояльность, исходя из соображений собственной выгоды; спокойно перемещаться в зоны, никому не подконтрольные или лежащие на пересечении интересов нескольких государств.
Когда бы и где бы ни возникали в материковой Юго-Восточной Азии государства, они постоянно меняли политический курс с заботы, необходимой для привлечения новых подданных, на закабаление — чтобы выжать из них максимум труда и урожая. Рабочая сила — вот ключ ко всему: даже если в основном доходы государства обеспечивала торговля, в конечном счете казна зависела от способности власти мобилизовать людские ресурсы для сохранения и защиты выгодных торговых путей[68]. Периодически государства вырождались в деспотии. Физическое бегство (фундамент народной свободы) стало основным способом проверки власти на прочность: как будет детально показано ниже, граждане, измотанные налоговыми, воинскими и трудовыми повинностями, сбегали в горы или близлежащие государства, а не устраивали восстания. Превратности войн и политического соперничества, неурожаи и монаршие мании величия — все эти кризисные факторы процесса государственного строительства были непредсказуемы, но исторически неизбежны.
Прежде дискуссии об историческом развитии Юго-Восточной Азии фокусировались на вопросе, как писать историю государств, а то, что именно они должны быть в центре внимания, не ставилось под сомнение. Поэтому резкой критике подверглась работа Жоржа Оэдэса «Индианизированные государства Юго-Восточной Азии» — за то, что автор не упомянул о целесообразном и целенаправленном заимствовании и адаптации индийской космологии в городских центрах Юго-Восточной Азии[69]. К перекосам индоцентричных версий истории позже добавился колониальный европоцентризм, нарративы которого базировались на наблюдениях за местными сообществами с «палубы корабля, бастионов крепости, высоких галерей торговых рядов»[70]. Стала очевидна необходимость написания «автономной» истории Юго-Восточной Азии, свободной от обоих искажений. К сожалению, вплоть до недавнего времени практически все попытки создания таковой заканчивались публикацией пусть грамотных и оригинальных, но лишь хронологий развития государств.
Почему же так получается, что история государств настойчиво вытесняет историю народов[71] Этот вопрос заслуживает внимательного рассмотрения. Если кратко, то причину я вижу в том, что даже слабые и недолговечные первые классические государства, созданные по образцу индийских княжеств, были политическими структурами, которые оставили после себя огромное количество артефактов. То же самое можно сказать про первые сельские поселения, характерные для первых государств. Хотя аграрные поселения необязательно были структурно сложнее сообществ собирателей и подсечно-огневых земледельцев, но они были куда более плотно заселены, если речь идет о поливном рисоводстве, и в сотню раз более плотно, чем сообщества собирателей, а потому произвели куда большую массу обломков в виде артефактов, мусора, строительных материалов и археологических руин[72]. А чем больше оставленная вами куча камней, тем весомее ваша роль в истории! Более рассеянные, мобильные и эгалитарные народы, мало озабоченные собственной утонченностью и развитием торговых сетей, хотя зачастую и более многочисленные, относительно невидимы в истории и редко удостаиваются упоминаний просто потому, что разбросали свои артефакты на огромных пространствах[73].
То же самое можно сказать и о письменных свидетельствах: почти все, что мы знаем о первых государствах Юго-Восточной Азии, почерпнуто из наскальных надписей и более поздних летописных свидетельств — дарственных на землю, официальных хроник, судебных протоколов, реестров налоговых сборов, повинностей и церковных пожертвований[74]. Чем внушительнее оставленный вами текстовый шлейф, тем заметнее ваше место в истории. Но этот же письменный след умножает искажения. Традиционные обозначения истории в бирманском и тайском языках (yazawin и phonesavadan) переводятся соответственно как «жизнь правителей» и «хроники царей», поэтому по ним сложно реконструировать жизненные миры неэлитарных групп, даже живших при дворе. Они обычно упоминаются в документах прошлого лишь в виде статистических данных: столько-то работников, столько-то подлежащих воинской повинности, налогоплательщиков, мелких земледельцев, выращивающих рис, столько-то граждан, платящих подати. Они редко обретают статус исторических акторов — только в исключительных случаях радикального нарушения социального порядка, например когда речь идет о подавлении мятежа. Такое впечатление, что крестьяне прилагали все усилия, чтобы не попасть в исторические хроники.
Доминирующие нарративы, сфокусированные на дворцовой и городской истории, полны и иных искажений: они фактически навязывают нам повествования только о «государственных пространствах»; они исключают или игнорируют одновременной «безгосударственную периферию», и длительные периоды упадка династий и распада царств, когда вряд ли можно говорить о наличии государств. В правдивой, беспристрастной, тщательно описывающей события каждого года хронике жизни доколониальных государств материковой Юго-Восточной Азии почти все страницы окажутся пустыми. Неужели мы тоже притворимся, как придворные летописцы, что в отсутствие сильной династии история заканчивалась? Однако проблема пустых страниц — не единственная: официальная хроника дворцовых центров систематически преувеличивает масштабы власти, мудрости и величия династий[75]. Дошедшие до нас письменные источники — это в основном налоговые и земельные переписи, с одной стороны, и хвалебные гимны, присяги на верность, обоснования легитимности — с другой, причем последние принуждали к подчинению и возвеличивали власть, а не фиксировали факты[76]. Если считать космологическое хвастовство королевских дворов правдивым изложением фактов, то мы рискуем, как заметил Ричард О’Коннор, «автоматически принять имперские грезы нескольких великих правителей за реальную жизнь целого региона»[77].
Суверенные государства Юго-Восточной Азии ответственны за новые исторические мистификации. Как этнические и географические наследники первых царств, они заинтересованы в преувеличении их славы, целостности и благодеяний. Более того, история классических государств была скорректирована и искажена, чтобы идентифицировать протонации и использовать протонационализм как оружие в борьбе с нынешними внешними и внутренними врагами. Так, древние артефакты, например барабаны Донгшона (огромные бронзовые культовые предметы, датируемые примерно У веком до н. э. — началом нашей эры, которые находят на всех высокогорьях Юго-Восточной Азии и на юге Китая), и местные восстания стали символом национально-освободительного движения и этнических достижений своего времени, хотя ни о чем подобном тогда никто не думал. В итоге мы получаем историческую сказку об исключительно древнем зарождении нации, которая старательно камуфлирует непоследовательность и случайные повороты истории и подвижность существовавших ранее идентичностей[78]. Подобные крайне нереалистичные версии истории, как нам напоминает Вальтер Веньямин, призваны убеждать в естественности прогресса и в необходимости существования государства вообще и национального — в частности[79].
Неадекватность письменных версий исторического процесса, производимых мандалами, династиями и столицами, настолько очевидна даже при скептическом к ним отношении, что они оказываются принципиально важны лишь как самоцентрированные описания и фиксация космологических претензий. Большая часть охватываемой ими хронологии, особенно в высокогорьях, прошла без государств и их «подобий»: если таковые и возникали, то как личные, крохотные и фрагментированные вотчины правителей, редко надолго переживавшие своих основателей. Их космология и идеология простирались существенно дальше, чем реальный политический контроль за производством зерна и человеческими ресурсами[80].
Здесь принципиально важно отличать «крепкую руку» государства от его же экономического и символического влияния, которое простиралось намного дальше. Доколониальные государства в изъятии урожая и рабочей силы у своих граждан могли рассчитывать на очень небольшую территорию в радиусе примерно 300 км вокруг царского двора, причем совершенно негарантированно и только в сухой сезон. О другой стороны, реальное экономическое влияние доколониальных царств было намного масштабнее, но зависело от добровольных обменов: чем выше была стоимость и меньше вес и размер товаров (сравните тончайший шелк и драгоценные камни с углем или зерном), тем большим экономическим потенциалом обладала власть. Символическое воздействие государства — регалии, титулы, внешний вид (костюмы), космология — простиралось намного дальше в форме идей, которые оказывали неизгладимое впечатление даже на самых мятежных жителей гор, участвовавших в восстаниях против равнинных царств. Если о сценарии жесткой силы амбициозные правители империй могли только мечтать, то влияние, которое они оказывали на перемещения населения, их торговые практики и мировоззрение, было действительно велико.
Что получится, если вместо этих мечтаний предложить такую модель истории Юго-Восточной Азии, где длительные периоды нормативной и нормализованной безгосударственности будут изредка прерываться, как правило, короткими династическими правлениями, каждое из которых, растворяясь в истории, будет оставлять после себя новую порцию монарших мечтаний? Об этом говорит и Энтони Дей, критикуя чрезмерно фокусирующиеся на понятии и роли государства версии исторического процесса: «Какой бы была история Юго-Восточной Азии, если бы мы считали конфликтные взаимоотношения между родами не отклонением, а нормой абсолютистского государства, которое по определению должно „бороться с беспорядком“?»[81]
Компоненты политического порядка
Отказавшись от одностороннего взгляда на историю как процесс становления царств-государств, к чему нас призывают Дей, О’Коннор и с некоторыми оговорками Кит Тейлор, попробуем представить хронологию развития материковой Юго-Восточной Азии как формирование элементов политического порядка[82]. Я использую это словосочетание — «политический порядок», — чтобы у читателя не сложилось ошибочного впечатления, будто за пределами государств начиналось царство хаоса. В зависимости от географических и исторических условий здесь могли складываться различные элементы политического порядка — от нуклеарных семей до двупоколенных и патриархальных домохозяйств оседлых земледельцев, маленьких деревушек, крупных сел, городов с пригородами и их конфедераций. Последние представляют собой самый сложный уровень интеграции, который никогда не отличался стабильностью, поскольку предполагал объединение нескольких небольших городов на территории, удобной для ирригационного рисоводства и плотно населенной людьми, поддерживающими родственные связи с жителями прилегающих горных массивов. Альянсы подобных «рисовых архипелагов» не были редкостью, хотя и не отличались долговечностью — обычно их жителям не удавалось отстоять свободу самоопределения. Память о них живет в названиях поселений по всему региону: Оишуанбаньна («двенадцать рисовых деревень») в провинции Юньнань, Оипсонг Чутаи («двенадцать тайских правителей») вдоль вьетнамско-лаосской границы, Негри Оембилан («девять областей») на западе Малайзии и Ко Муо («девять городов») в округе Шан в Бирме. В этом смысле крупнейшими квазистабильными создателями государств в регионе были малайская народность негери/негара, тайская — муанг и бирманская — манг (§ 5:), которые концентрировали рабочую силу и запасы зерновых, проживая на удачно расположенных территориях — на пересечении важных торговых путей.
Вовлечение подобных потенциальных узлов силы в политические и военные альянсы было само по себе маленьким и обычно мимолетным чудом искусства государственного строительства. Они исключительно редко и очень ненадолго подчинялись центральной власти: как только политические выгоды подчинения исчерпывали себя, государства распадались на свои конститутивные элементы — крошечные царства, деревушки и даже домохозяйства. Новые агломерации могли возникнуть благодаря усилиям амбициозного политического лидера, но опять же лишь как временный альянс тех же элементов. Местные царьки взирали на символический и идеологический формат государственного строительства без удивления и без малейших претензий на широкие властные полномочия. Государственная мимикрия, которую я называю космологическим бахвальством, была скопирована с первых китайских и индийских княжеств, когда рудиментарные модели власти до мельчайших деталей воспроизводились в самых крошечных сельских поселениях.
Крупные политические образования были крайне нестабильны; их строительные кирпичики также не отличались крепостью. Мы можем наблюдать их непрекращающуюся подвижность: они беспрестанно раскалывались, перемещались, сливались и возрождались. Домохозяйства и составляющие их деревни и индивиды тоже редко вели размеренную жизнь — селение могло сохраняться в течение, скажем, полувека, но люди уезжали и приезжали, их лингвистическая и этническая идентификация могла радикально измениться[83]. Демография играла в этих процессах главную роль: плотность населения в Юго-Восточной Азии составляла в 1600 году одну шестую индийских и одну седьмую китайских показателей. Открытость границ автоматически блокировала чрезмерные претензии государств — в случае эпидемий, голода, тяжелого бремени налогов, трудовых и воинских повинностей, межгрупповых конфликтов, религиозного раскола, бесчестья, скандала или просто желая изменить свою судьбу, домохозяйства и целые поселения легко снимались с места. Соответственно, членство в любом социальном образовании было очень подвижным, а его существование — нестабильным. Постоянством отличались только экологические и географические критерии предпочтительного места проживания: незасушливая долина с судоходной рекой или торговыми путями могла быть временно оставлена, но как только условия позволяли, она заселялась вновь. Такова типичная модель формирования государственных центров у народов негери, муанг и манг.
Претенденты на статус создателей государств могли рассчитывать лишь на этот очень неустойчивый строительный материал. Отсутствие амбициозного и сильного лидера или шаткость политической системы мгновенно приводили к тому, что на месте государства вдруг оказывались его «останки» — составлявшие его элементы политического порядка. Возможна ли в этой ситуации ясная и последовательная версия истории? Я убежден, что да, однако это не может быть история династий. Конститутивные элементы политического порядка имеют свою хронологию, обладают, пусть и грубой, но логикой формирования, соединения и распада, демонстрируют определенную степень автономии в отношении прежних династических и современных государств, то есть их история отличается от истории государств или царств. По сути, благодаря своей неустойчивости элементы политического порядка — относительно постоянные характеристики социального ландшафта, в отличие от редких и эфемерных исторически успешных империй. Случайный характер «государств» в истории заставляет нас воспринимать их не как некие политические единства, а как «сложные переплетения договорных отношений»[84]. Вот почему любая угроза распада государства, как отметил Акин Рабибхадана, рассуждая о Сиаме начала XIX века, заставляет «элементы системы разлетаться в разные стороны, чтобы спасти свою жизнь»[85].
Обнаружение закономерностей в бесконечном движении бесчисленных малых единиц кажется невыполнимой задачей: безусловно, это сложнее, чем писать историю династий, но я могу опереться на работы своих предшественников, пытавшихся понять аналогичные социальные системы. Если мы говорим о Юго-Восточной Азии, то ее социальной структуре посвящено немало работ, авторы которых стремились уловить логику ее изменчивой истории. Самая известная и самая противоречивая из них — книга Эдмунда Лича «Политические системы высокогорной Бирмы». За ней последовали работы о высокогорьях, прежде всего Малайзии, которые характеризуются постоянными трансформациями крошечных государств, мобильностью населения, явным противостоянием жителей верховий и низовий рек, государств и периферии, что предоставляет богатую пищу для гипотез и размышлений. Помимо Юго-Восточной Азии, можно обратиться к исследованиям столкновений горожан и безгосударственных кочевников на Ближнем Востоке. Использование в качестве отправной точки анализа домохозяйств и трактовка поселений, племен и конфедераций как временных и шатких альянсов дали прекрасные результаты в книге Ричарда Уайта, посвященной народам района Великих озер в Северной Америке XVIII века[86]. И наконец, можно обратиться к труду Фукидида «История», где мир людей лишь частично управляем царями, где изменчивая лояльность и сомнительная надежность политических союзов — постоянный источник беспокойства всех основных противников: Афин, Спарты, Коринфа и Сиракуз, — каждый из которых, в свою очередь, представляет собой конфедерацию[87].
Главная проблема безгосударственной версии истории материковой Юго-Восточной Азии — обозначение условий, необходимых для объединения и распада элементов политического порядка. Эту проблему хорошо зафиксировал один из наблюдателей взаимоотношений государств и их автономных периферий: «Наступает момент, когда мы понимаем, что фактически имеем дело с молекулами, которые иногда образуют расплывчатые конфигурации, а иногда столь же легко разъединяются. Даже их названия не отличаются логичностью или определенностью»[88]. Подобная нестабильность молекул крайне неудобна антропологам и историкам — представьте, насколько это серьезная проблема для имперских функционеров, претендующих на звание царей, собирателей земель, колониальных властей и чиновников в современном мире. Правители государств считают почти невозможным установить эффективный политический контроль над людьми, которые все время находятся в движении, не имеют устойчивых моделей социальной организации и постоянного места жительства, чьи лидеры эфемерны, жизненные практики многосоставны и изменчивы, пристрастия малочисленны, лингвистическая и этническая идентичность подвижны.
Но в этом вся суть! Подобный формат экономической, политической и культурной организации — по большей части не что иное, как стратегия избегания инкорпорирования в государство, наиболее эффективно реализуемая в горных периферийных районах государственных систем, то есть в местах, подобных Вомии.
Здесь [на Суматре] я сторонник деспотизма. Сильная рука, необходима для объединения людей, для превращения их в общество… Суматра в основном населена бесчисленными крохотными племенами, у которых нет общего правительства… Сейчас люди здесь столь же непоследовательны в своих привычках, как птицы в небесах, и пока они не будут собраны и организованы под чьей-то властью, с ними нельзя иметь дела[89].
В начале XIX века, что, впрочем, справедливо и для первых материковых государств, сэр Отэмфорд Раффлз, которого я процитировал, уверенно называл в качестве необходимого условия колониального правления концентрацию населения и оседлое сельское хозяйство, то есть постоянно проживающих на одном месте граждан, чей труд и товары государство может подсчитать и изъять. Рассмотрим теперь логику и динамику формирования государственных пространств в материковой Юго-Восточной Азии.
Глава 2. Государственное пространство. Контролируемые и захваченные территории
География государственного пространства и сопротивление ландшафта
Складывай овощи в корзину, а людей — в муамг[90].
— Томская, пословица
Представьте на мгновение, что вы юго-восточно-азиатский «эквивалент» Жан-Батиста Кольбера, главы правительства Людовика XIV. Как и Кольберу, вам дано поручение обеспечить процветание королевства. Место действия, как и в XVII веке, досовременное: путешествовать по суше можно пешком, на повозке или верхом, по воде — под парусами. Но предположим, что, в отличие от Кольбера, вы начинаете свой проект с чистого листа: вы можете проектировать любые экологические, демографические и географические условия, наиболее выгодные для государства и его правителя. Что бы вы предпочли в подобных обстоятельствах?
Грубо говоря, ваша задача — придумать идеальное «государственное пространство», или же идеальное пространство для захвата. До тех пор пока государство зависит от налогов и сборов в самом широком смысле этого слова (продовольствия, рабочей силы, солдат, дани, товаров на продажу и денег), перед ним стоит один и тот же вопрос: какие меры способны с максимальной вероятностью обеспечить правителю значительные и гарантированные излишки рабочей силы и зерна с наименьшими издержками?
Очевидно, что принцип решения этой задачи зависит от степени географической концентрации жителей и обрабатываемых ими полей в непосредственной близости от центра государства. Подобная концентрация была тем более необходима в досовременных условиях, где экономика, основанная на доставке товаров на повозках, запряженных волами или лошадьми, жестко ограничивала расстояние, на которое в принципе имело смысл транспортировать зерно. Например, чтобы по пологой поверхности перевезти телегу зерна на расстояние 250 километров, упряжка волов должна была съесть ровно то же количество зерна, что и перевезет. Общий принцип, хотя здесь возможны исключения, отражен в древней ханьской пословице: «Не продавай зерно покупателю, если он живет дальше тысячи ли» (415 километров)[91]. Незерновые элиты, ремесленников и других специалистов в центре государства, соответственно, должны были кормить крестьяне, проживающие поблизости. Учитывая исторически низкую плотность населения, способствующую демографическому рассеянию, концентрация человеческих ресурсов в Юго-Восточной Азии имела вынужденный характер и крайне сложно реализовывалась. Таким образом, центр королевства и находящегося в нем правителя должна была не только кормить, но защищать и поддерживать рабочая сила, сконцентрированная относительно близко, практически на расстоянии вытянутой руки.
По мнению нашего гипотетического Кольбера, поливное рисоводство (padi, sawah) обеспечивает государство основополагающей зерновой культурой. Хотя оно дает куда меньшую отдачу с точки зрения вложенного труда, чем другие сельскохозяйственные практики, его урожайность по сравнению с прочими культурами Старого Света просто исключительна, если речь идет о единице площади земли, то есть поливное рисоводство максимизирует производство продовольствия в зоне прямого контроля государственного центра. Устойчивость и относительно надежная урожайность поливного рисоводства также привлекли бы к нему внимание нашего Кольбера. Поскольку большинство питательных веществ поступает на рисовые поля с водой из постоянных потоков или из ила в случае так называемых лиманных полей, одни и те же земли сохраняют свою урожайность в течение длительных периодов времени. И наконец, именно потому что поливное рисоводство основано на принципах трудоинтенсивного производства, оно требует определенной плотности населения, которое и является ключевым ресурсом государственного строительства[92].
Практически повсеместно рис (поливное рисоводство), наряду с другими базовыми зерновыми культурами, стал фундаментом возникновения первых государств. Его важность для нашего гипотетического Кольбера не исчерпывается только плотностью населения и концентрацией продовольствия, которые он сделал возможными. Для сборщиков налогов зерновые имеют решающие преимущества по сравнению, скажем, с корнеплодными культурами. Общеизвестно, что зерновые растут над землей, обычно и предсказуемо весь урожай вызревает примерно в одно время, то есть сборщик налогов может осмотреть поле, как только начинается созревание, и рассчитать ожидаемый будущий урожай. И, что более важно, если армия и/или сборщик налогов появятся в тот момент, когда урожай уже созрел, они смогут конфисковать столько зерна, сколько захотят[93]. Таким образом, зерновые культуры, в отличие от корнеплодных, одновременно лучше «видны» государству и легче изымаются. По сравнению с другими продовольственными товарами зерно относительно легко транспортировать, его цена за единицу веса или объема довольно высока, его можно хранить достаточно продолжительное время с минимальными потерями из-за порчи, особенно необрушенное зерно. Сравните, например, относительную ценность и способность не портиться воза риса и воза, скажем, картофеля, маниоки, манго или зеленых овощей. Если бы Кольберу нужно было изобрести идеальную для государства сельскохозяйственную культуру, вряд ли он смог бы придумать что-то лучше риса (поливного рисоводства)[94].
Вот почему неудивительно, что центры практически всех досовременных государств в Юго-Восточной Азии развивались в экологических условиях, наиболее способствующих поливному рисоводству. Чем более благоприятной для ведения сельского хозяйства и просторной была какая-то территория, тем выше были шансы, что на ней возникнет государство определенного размера и продолжительности существования. Следует подчеркнуть, что государства обычно, по крайней мере до начала колониальной эпохи, не создавали целенаправленно просторные рисовые поля и не играли ключевую роль в их сохранении. Все имеющиеся доказательства говорят о постепенном формировании территорий поливного рисоводства семейными союзами и деревнями, которые возводили и расширяли водозаборные плотины, шлюзы и каналы, необходимые для контроля за водой. Подобные ирригационные проекты нередко предшествовали созданию государственных центров и столь же часто выживали после развала государств, которые временно пользовались предоставляемыми ими возможностями концентрации рабочей силы и продовольствия[95]. Государства могли успешно развивать и расширять центры за счет поливного рисоводства, однако крайне редко сами их создавали. Поэтому взаимоотношения государства и основанного на поливном рисоводстве сельского хозяйства следует рассматривать скорее как некое избирательное сродство, чем как причинно-следственную связь.
Политическая прагматика, лежащая в основе этого избирательного сродства, хорошо прослеживается на примере того факта, что «и европейские губернаторы, и юго-восточно-азиатские правители считали наличие многочисленного оседлого населения, располагающего значительными запасами продовольствия, залогом власти и могущества»[96]. Раздача земель на острове Ява в IX–X веках, чему имеются письменные свидетельства, содержала в себе требование, чтобы получатели расчищали лес и превращали участки подсечно-огневого земледелия в постоянные поливные рисовые поля (sawah). Смысл данного процесса, по мнению Яна Виссемана Кристи, заключался в том, что «sawah… гарантировал оседлость населения, облегчал наблюдение за ним, обеспечивал достаточно стабильные урожаи и легкость их оценки»[97]. Государства не жалели усилий, как будет детально показано ниже, чтобы привлекать и удерживать население в непосредственной близости от двора, заставляя его обрабатывать поливные рисовые поля. Так, указы бирманских королей в 1598 и 1643 годах требовали соответственно, чтобы солдаты не покидали свое местожительство рядом с королевским двором, а охранники в свободное от исполнения обязанностей время обрабатывали свои поля[98]. Постоянные запреты сниматься с места и оставлять поля под паром, если мы рассмотрим королевские указы «против зерна», — свидетельство того, что для достижения этих целей приходилось преодолевать значительное сопротивление. Если же с поставленными задачами удавалось справиться, то монарх получал в свое распоряжение внушительную «сокровищницу» рабочей силы и зерна. Видимо, именно это произошло с Матарамом, государством на острове Ява, которое в середине XVII века датский посол описал как «невероятно огромные рисовые поля, раскинувшиеся вокруг Матарама на протяжении целого дня пути, с бесчисленными деревнями». Концентрация человеческих ресурсов в центрах государств была принципиально важна не только для производства продовольствия, но и из военных соображений — для защиты государства и для поглощения им территорий своих противников. Решающее преимущество подобного типа аграрных государств перед их морскими соперниками кроется именно в численном перевесе — количестве солдат, которое они могли выставить на поле боя.
Сопротивление ландшафта налагало жесткие, практически непреодолимые ограничения на масштабы контроля традиционного аграрного государства. Как уже говорилось выше, эти ограничения были однозначно обусловлены сложностями транспортировки основных продовольственных товаров. Даже в случае пологой поверхности и хороших дорог контролируемое государственное пространство не превышало в радиусе трехсот километров — дальше власть правителей становилась по-настоящему шаткой. В каком-то смысле сложность транспортировки зерна на большие расстояния, особенно по сравнению с относительной простотой пеших перемещений людей, то есть человеческого ресурса, отражает сущностное противоречие искусства государственного управления вплоть до начала XIX века. Необходимость обеспечивать центр страны зерном наталкивалась на непреодолимые географические препятствия и колебания урожайности, поскольку население, которое должно было выращивать урожай, слишком легко могло ускользнуть из сферы контроля государства. Иными словами, сопротивление граждан и неэффективность повозок, запряженных волами, сокращали доступный центру объем продовольствия, а почти безграничная пешая мобильность подданных (досовременным государствам было крайне сложно ее сдерживать) угрожала оставить его без земледельцев и защитников[99].
Общеизвестные статистические данные о досовременных путешествиях и мобильности населения убедительно демонстрируют, как особенности ландшафта влияют на скорость перемещений по воде и по земле. Как правило, большинство оценок дальности пеших путешествий по сухой равнинной местности сходятся в среднем на двадцати четырех километрах (пятнадцати милях) в день. Сильный носильщик, который несет тридцатишестикилограммовый (восьмидесятифунтовый) груз, может пройти примерно то же расстояние при благоприятных условиях. Однако, как только ландшафт становится более неровным, а погодные условия — более сложными (или одновременно происходит и то и другое), эта оптимистичная цифра резко уменьшается. Расчеты будут несколько иными для досовременной Юго-Восточной Азии, особенно в случае военных действий, поскольку здесь использовались слоны, способные нести грузы и преодолевать сложные маршруты, но их число было невелико, поэтому ни одна военная кампания не рассчитывала исключительно на них[100].
То, что можно назвать путешествием государств по горным районам, занимало намного больше времени. Один из случайно сохранившихся документов (860 год н. э.), относящийся к периоду, когда династия Тан расширяла границы своей империи, проникая в горные районы материковой Юго-Восточной Азии, начинается с принципиально важной военной информации о длительности переходов (выражалась в днях пути) между населенными пунктами — узловыми точками имперского контроля[101]. Тысячелетие спустя была зафиксирована та же озабоченность государства: показательный пример — путешествие лейтенанта О. Эйнсли в январе (сухой сезон) 1892 года по Восточным Шанским штатам, предпринятое, чтобы оценить политическую лояльность местных вождей и исследовать возможные маршруты. Его сопровождала сотня военных полицейских, пять европейцев и множество вьючных мулов с погонщиками. В путешествии не использовался колесный транспорт, видимо, потому что дороги были слишком узки. Эйнсли обнаружил два параллельных пути между Панъяном и Монпаном, которые можно было преодолеть за девять дней. Он зафиксировал сложности каждого дня пути, количество речек и ручьев, которые пришлось перейти, отметив мимоходом, что оба пути «были непроходимы в случае дождей». См. табл. 1.[102] В среднем преодолеваемая за день путешествия дистанция не превышала тринадцати километров (восьми миль) и значимо варьировала: максимум составил чуть меньше двадцати километров в день, минимум — примерно семь.
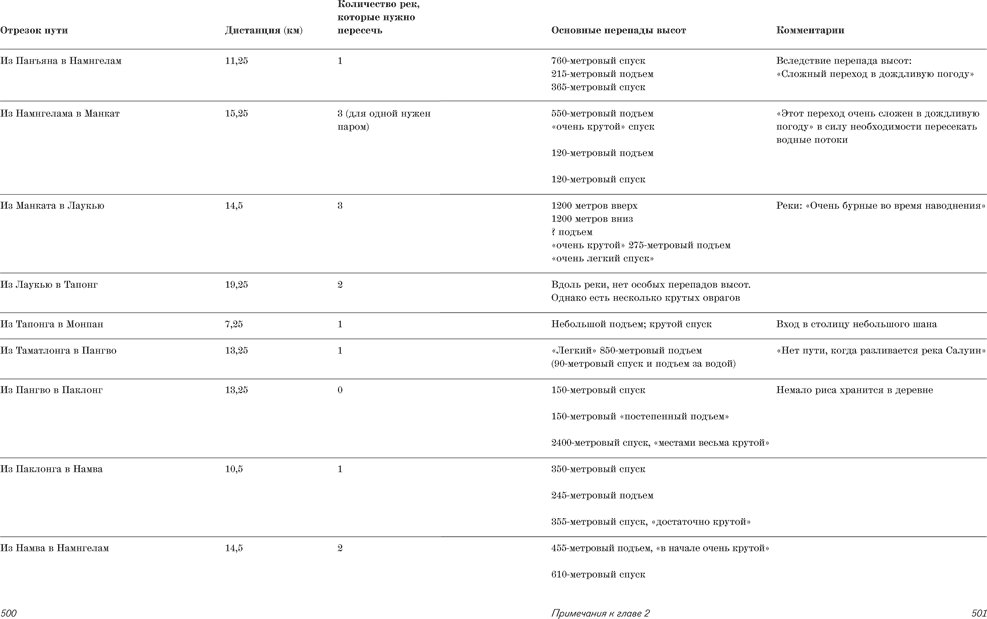
Конечно, повозка может отвезти куда угодно вес, который в семь — десять раз превышает возможности крепкого носильщика (240–360 килограмм)[103]. Однако двигается она медленнее и далеко не везде может пройти. Там, где носильщику достаточно небольшой тропинки, повозке нужна широкая дорога. В некоторых географических условиях проложить ее просто невозможно; любой, кто знаком с изрезанными колеями дорогами в отдаленных районах Бирмы, понимает, насколько медленно и мучительно приходится здесь передвигаться, даже если можно использовать повозки. В путешествии любой длительности извозчику приходится везти с собой корм для скота, что, соответственно, снижает вес перевозимого товара, или же ехать по дороге, вдоль которой этот корм просто растет[104]. Еще одно или два столетия назад даже на Западе сухопутные перевозки навалочных грузов «сталкивались с жесткими и по сути непреодолимыми препятствиями»[105].
Географические условия перемещений людей и товаров ограничивали сферу контроля любого берегового государства. Исходя из весьма завышенной оценки дневного пешего перехода в 32 километра, Ф. К. Лиман полагает, что максимальный размер доколониального государства не мог существенно превышать диаметр 160 километров, хотя Матарам на острове Ява был куда больше. Если мы расположим королевский двор в центре круга диаметром, скажем, 240 километров, то расстояние от центра государства до его границ составит 120 километров[106]. За этими пределами, даже на равнинах, власть государства ослабевала, уступая ее другому королевству, местным вождям и/или разбойничьим бандам (см. карту 3, иллюстрирующую влияние ландшафта на эффективность государственного контроля).
Водный транспорт представляет собой основное досовременное исключение из указанных ограничений. Судоходная вода сводит на нет сопротивление ландшафта. Ветер и течения позволяют перевозить огромные объемы товаров на расстояния, которые и вообразить невозможно, если речь идет о повозках. Согласно расчетам, стоимость перевозки товаров морем в Европе XIII века составляла лишь 5 % их же сухопутной транспортировки. Несоответствие затрат здесь было столь значительным, что наделяло стратегическими и торговыми преимуществами любое государство, расположенное вблизи судоходных водных путей. Большинство внушительных по своим размерам юго-восточно-азиатских доколониальных государств имели хороший доступ к морю или судоходной реке. Как отметил Энтони Рид, столицы многих государств Юго-Восточной Азии располагались на пересечении рек, где океанские суда перегружали товары на лодки, направлявшиеся вверх по течению. Размещение центров политической власти фактически совпадало с узлами коммуникативных и транспортных потоков[107].
Ключевая роль судоходных водных путей до начала строительства железных дорог отчетливо прослеживается в принципиальном значении каналов, где нередко использовалась сухопутная тягловая сила — лошади, мулы, волы, однако преодоление сопротивления ландшафта с помощью барж, движущихся по воде, обеспечивало резкий рост эффективности. Речное и морское сообщение обладают преимуществом «путей с наименьшими препятствиями» и минимальным географическим противодействием, а потому значительно увеличивают расстояния, на которые можно осуществлять обмены продовольствием, солью, оружием и человеческими ресурсами. Можно придумать на эту тему афоризм: «прозрачные» воды «соединяют», «мрачные» холмы, болота и горы — «разъединяют».
Карта 3. Поразительное сжатие государственного пространства под воздействием горного ландшафта можно продемонстрировать с помощью карты. Мы выбрали Мунгъян (Муанг Ян), шанский город вблизи бирманско-китайской границы, чтобы наглядно показать происходящее. Изолинии данной карты, обозначающие длительность путешествия, построены посредством гиперэллиптической проекции Вальдо Тоблера, алгоритма, позволяющего оценить скорость перемещения при заданном наклоне поверхности в конкретной географической точке. Представленные на карте изолинии показывают расстояние, которое можно преодолеть за шесть часов пути ежедневно. Рассчитанное с помощью алгоритма Тоблера возможное расстояние на ровной поверхности обозначено прерывистой линией, чтобы можно было провести сопоставление. Выйдя из Мунгъяна, путешественник затри дня преодолевал путь, который, если бы речь шла о ровной поверхности, мог бы пройти за полтора-два дня. Перемещение на юг и северо-запад намного сложнее, чем на восток. Если предположить, что диапазон контроля прямо зависит от легкости перемещений, то общая площадь контроля гипотетического мини-государства с центром в Мунгъяне составила бы менее трети его же аналога на более ровной местности.
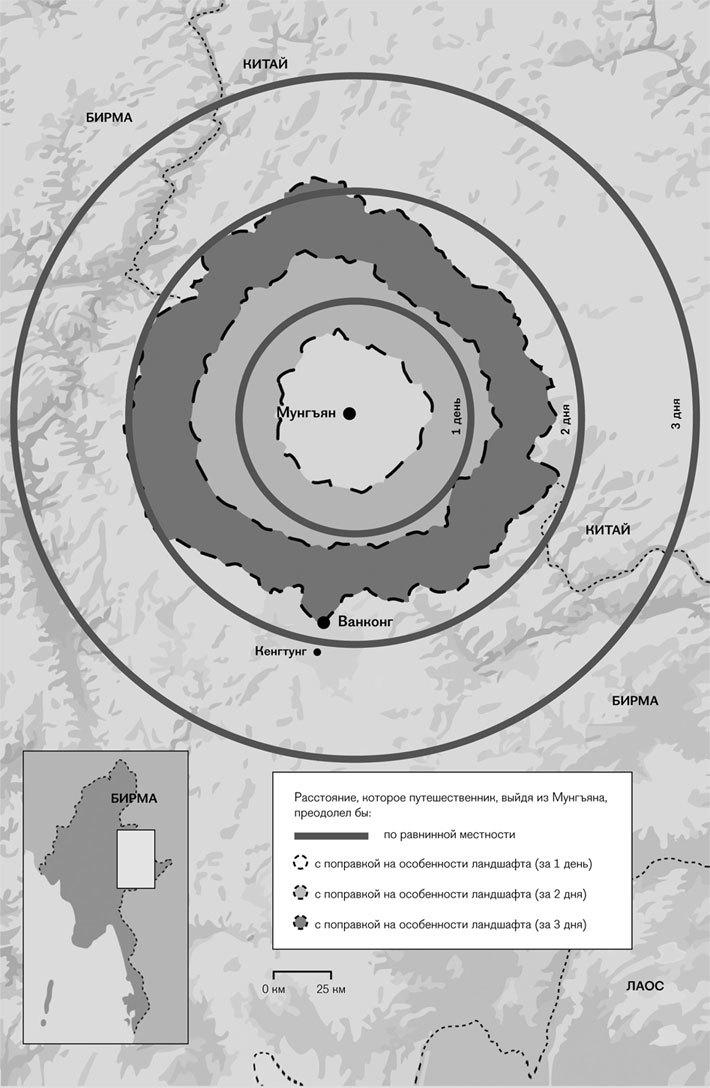
До изобретения сокращающих расстояние всепогодных автодорог и железнодорожного сообщения земледельческим элитам Юго-Восточной Азии и Европы было исключительно сложно, без судоходных водных путей, концентрировать и демонстрировать власть. Как отмечал Чарльз Тилли, «до конца XIX столетия сухопутный транспорт в Европе был повсеместно настолько дорог, что ни одна страна не могла бы обеспечить крупную армию или большой город зерном и другими тяжелыми товарами, не имея в своем распоряжении эффективного водного сообщения. Правители кормили основные города внутри страны, такие как Берлин и Мадрид, только ценой огромных усилий и затрат периферии. Исключительная эффективность водных путей в распоряжении Нидерландов, несомненно, обеспечила голландцам значительные преимущества в мирное и военное время»[108].
Почти обескураживающее противодействие, которое оказывали военным кампаниям скалистые территории даже в середине XX века, никогда не было столь очевидным, как в ходе похода Народно-освободительной армии Китая в Тибет в 1951 году. Тибетские делегаты и представители политических партий, которые подписали соглашение в Пекине, вернулись в Лхасу «быстрым путем», то есть сначала морем до Калькутты, затем поездом и верхом на лошадях через Сикким. Только путешествие из Гангтока, столицы Сиккима, до Лхасы заняло шестнадцать дней. В течение шести месяцев ударные силы Народно-освободительной армии Китая в Лхасе голодали, и три тысячи тонн риса были отправлены им — опять же по воде из Калькутты, а затем на мулах через горы. Продовольствие было также доставлено из Внутренней Монголии на север, но это потребовало неимоверного количества верблюдов — двадцати шести тысяч, причем более половины из них погибли или были ранены в пути[109].
Стандартные современные карты, в которых за единицу принят километр территории, невзирая на то, идет ли речь о суше или о воде, по определению ведут к заблуждениям. Поселения, расположенные на расстоянии трех-четырех сотен километров спокойной судоходной воды, будут более тесно связаны друг с другом социальными, экономическими и культурными взаимоотношениями, чем поселения, которые разделяют всего лишь тридцать километров скалистых гор. Точно так же большие равнины, по которым легко перемещаться, в большей степени способствуют формированию единого культурного и социального пространства, чем небольшая гористая зона, любые передвижения по которой сложны и медленны.
Если бы нам потребовалась карта, внятно показывающая социальные и экономические обмены, мы должны были бы придумать критерии картографирования, учитывающие сопротивление ландшафта. До произошедшей в середине XIX века транспортной революции это означало бы создание карты, в которой в качестве единицы измерения выступало бы дневное путешествие — пешком или в повозке, запряженной волами (или на парусной лодке). Для тех, кто привык к стандартным картам, где показаны прямые кратчайшие пути, результат будет выглядеть как ярмарочное кривое зеркало[110]. Судоходные реки, береговые линии и равнины значительно уменьшатся в размерах, чтобы отразить легкость путешествий по ним. И наоборот, сложные для любых передвижений горы, болота, топи и леса существенно разрастутся, что будет соответствовать длительности путешествий по ним, хотя сама дистанция, если бы была возможность преодолеть ее по прямой, может быть весьма небольшой. Подобные карты, какими бы странными они ни казались современному человеку, были бы куда более правильными путеводителями по культурам, взаимоотношениям и обменам, чем те, к которым мы все привыкли. Как будет показано ниже, они также помогают маркировать различия между географическими условиями, поддающимися государственному контролю и захвату (государственными пространствами) и по сути своей противостоящими таковым (негосударственными пространствами).
Карта, на которой за единицу измерения принято не расстояние, а время в пути, куда более соответствует локальным практикам, чем абстрактное стандартизированное восприятие пространства в километрах или милях. Если вы спросите юго-восточно-азиатского крестьянина, каково, скажем, расстояние до ближайшей деревни, скорее всего, ответ будет в единицах времени, а не линейного расстояния. Крестьянин, знакомый с часами, может сказать о «примерно получасе пути», а более пожилой житель деревни, не столь сведущий в абстрактных единицах времени, скорее, ответит в более привычной для себя манере — «на расстоянии трех приготовлений риса» или «двух выкуренных сигарет», поскольку данные «измерения» длительности общеизвестны и не требуют наличия наручных часов. На некоторых древних доколониальных картах расстояние между любыми двумя точками измерялось в количестве времени, необходимом для его преодоления[111]. Интуитивно мы чувствуем, что это разумно. Точка А может быть расположена всего в двадцати пяти километрах от точки В. Но, в зависимости от сложности путешествия, чтобы преодолеть это расстояние, могло понадобиться и два, и пять дней, а это, безусловно, крайне важная информация для путешественника. Кроме того, длительность пути могла меняться кардинальным образом в зависимости от того, перемещался человек из пункта А в пункт В или наоборот. Если пункт В находился на равнине, а пункт А — высоко в горах, то путешествие в горы из пункта В в пункт А, конечно, было намного длиннее и труднее, чем обратный путь, хотя преодолеваемое линейное расстояние при этом не менялось.
Учет в картографировании сопротивления ландшафта позволяет увидеть сообщества, культурные зоны и даже государства, которые прежде были сокрыты абстрактным изображением линейных расстояний. В этом суть открытия Фернана Вроделя в книге «Средиземноморский мир»: здесь запечатлено общество, которое воспроизводило себя посредством активных обменов товарами, людьми и идеями, не формируя при этом единой «территории» или политической системы в привычном смысле этих слов[112]. В несколько меньших масштабах тот же феномен зафиксирован Эдвардом Уайтингом Фоксом, который утверждал, что Эгейское море в классической Греции, которая никогда не была единой в политическом отношении, сформировало особое социокультурное и экономическое органическое единство, сплетенное воедино прочными нитями контактов и обменов, ставших возможными благодаря легкости перемещений по воде. Занимавшиеся торговлей и набегами морские народы, такие как викинги и норманны, обрели широкое влияние благодаря своим быстрым морским судам. Карта, отражающая масштабы их исторического влияния, состояла бы в основном из портовых городов, устьев рек и береговых линий[113]. А вот огромные морские пространства между ними оказались бы на этой карте очень маленькими.
Самый поразительный исторический пример рассматриваемого феномена — малайский мир, по преимуществу мир мореходов, чье культурное влияние распространилось на огромное пространство от острова Пасхи в Тихом океане до Мадагаскара и побережья Южной Африки, о чем свидетельствует разговорный суахили в прибрежных портах. Малайское государство, даже в XV–XVI веках, период своего расцвета, представляло собой, по сути, как и Ганзейский союз, неустойчивую коалицию торговых портов. Вазовыми элементами этой похожей на государство конструкции были порты Джамби, Палембанг, Джохор и Малакка, между которыми курсировала малайская аристократия, руководствуясь соображениями политической и торговой выгоды. Наше устойчивое, связанное в первую очередь с сушей восприятие «королевства» как компактного объединения сопредельных территорий утрачивает смысл, как только мы сталкиваемся с подобными морскими союзами на огромных пространствах.
Аграрные королевства обычно куда более автономны, чем морские державы, поскольку зависят от расположенных в непосредственной близости от центра государства запасов продовольствия и человеческих ресурсов. Тем не менее даже аграрные королевства отнюдь не самодостаточны — их выживание зависит от получения товаров из зон вне их прямого контроля, то есть горной и морской продукции: древесины, руды, белков и удобрений от сообществ скотоводов, соли и пр. Морские державы еще в большей степени зависимы от торговых путей в обеспечении себя всем необходимым, особенно рабами. По этой причине их можно назвать зонами высокой «государственности», не зависящими от локального зернового производства и рабочей силы. Их размещение обусловливалось стратегическими соображениями управления (посредством налогов, пошлин или конфискации) торговлей жизненно важными продуктами. Задолго до изобретения сельского хозяйства эти сообщества, контролировавшие ключевые месторождения обсидиана (необходимого для изготовления каменных орудий), сумели занять высокое положение в системе власти и в процессах обмена. Если говорить в целом, то на сухопутных и морских торговых путях существовали определенные стратегически важные пропускные пункты, контроль над которыми давал решающие экономические и политические преимущества. Малайский торговый порт — классический тому пример: располагаясь обычно перпендикулярно устью или слиянию рек, он позволял своему правителю монополизировать торговлю экспортными товарами в верховьях рек (huhi), контролируя в то же время доступ периферийных районов к товарам, полученным благодаря международной торговле с прибрежными районами и низовьями рек (hilir). Малаккский пролив был пропускным пунктом для торговли на большие расстояния между Индийским океаном и Китаем, а потому — исключительно привилегированной позицией для создания государства. Куда меньшие по размерам бесчисленные горные царства складывались на важных торговых путях, по которым караваны везли, помимо всего прочего, соль, рабов и чай. Они разрастались и разрушались, следуя капризам мировой торговли и товарным бумам. Как и их более крупные по размерам малайские родственники, даже в мирное время эти государства выживали только за счет сбора дани.
Позиционные преимущества подобного типа лишь частично определялись географическим положением — на суше или воде. Они, особенно в современную эпоху, также исторически обусловлены революциями в транспорте, инженерии и промышленности, в частности созданием железнодорожных узлов и дорожных развязок, строительством мостов и туннелей, открытием месторождений угля, нефти и газа.
Наша первоначальная интерпретация государственного пространства как концентрации зернового производства и рабочей силы на управляемой территории, соответственно, должна быть уточнена. Сокращающие расстояние судоходные водные пути и формирование центров политической власти на пропускных пунктах торговли стратегически важными товарами могли компенсировать недостаток зерна и человеческих ресурсов в непосредственном распоряжении государства, но только до какого-то предела. Вез определенного количества людей государствам, выживающим за счет сбора дани, было сложно удержаться на территории, предоставлявшей позиционные преимущества. В случае серьезных столкновений аграрные государства, как правило, побеждали морские или «возникшие на торговых путях» за счет численного преимущества. Эта несопоставимость человеческих ресурсов хорошо показана Барбарой Андайей в сравнительном анализе вьетнамского аграрного государства Чинь и морского государства Джохор, существовавших в начале XVIII века: «Ситуация становится совершенно понятной, если мы сравним вооруженные силы Джохора, самого известного из малайских государств, но не обладающего аграрной базой, с Чинем. В 1714 году голландцы подсчитали, что Джохор может выставить в битве 6500 человек и 233 судна всех типов. Во Вьетнаме же армия князей Нгуен насчитывала 22 740 человек, из них 6400 служили на флоте и 3280 — в пехоте»[114]. Самая древняя поучительная история об уязвимости морских государств рассказана Фукидидом в «Истории»: морская держава Афины была побеждена своими аграрными соперниками — Спартой и Сиракузами.
Картографирование государственного пространства в Юго-Восточной Азии
География жестко ограничивала процессы государственного строительства в материковой части Юго-Восточной Азии в доколониальный период. В этом параграфе я попробую схематично, но убедительно показать эти базовые сдерживающие факторы и их воздействие на местоположение, долговечность и сменяемость власти в существовавших здесь государствах.
Необходимым, но ни в коем случае не достаточным условием возникновения устойчивого самостоятельного государства было наличие аллювиальной равнины, пригодной для поливного рисоводства и потому способной обеспечить концентрацию значительной численности населения. В отличие от полуостровной морской части Юго-Восточной Азии, где легкость перемещений по спокойным водам Зондского шельфа обусловила становление широко раскинувшейся талассократии по образцу Афин, материковые государства были вынуждены бороться с куда более жестким сопротивлением ландшафта. Поскольку здесь в размещении горных хребтов и течении крупнейших рек доминирует северо-южный вектор, практически все классические государства возникали вдоль великой северо-южной системы рек. Перечислим их, продвигаясь с запада на восток: классические бирманские княжества на реке Иравади недалеко от ее слияния с рекой Чиндуин (города Паган, Ава и Мандалай) и на реке Ситтанг (Ситаун) немного на восток (Пегу и Таунгу); тайские классические княжества (Аюттхая и, намного позже, Бангкок у реки Чао Прая); кхмерские классические государства (Ангкор и его наследники) у великого озера Тонлесап, связанного с рекой Меконг; и, наконец, сердце классического государства Кинх (Чинь) у Красной реки в окрестностях Ханоя.
Объединяет все перечисленные случаи то, что эти государства возникали вблизи судоходных вод, но выше поймы реки, где плодородная равнина и постоянные водные потоки обеспечивали возможность поливного рисоводства. Поразительно, что ни одно раннее материковое государство не было расположено в дельте крупной реки. Дельты рек Иравади, Чао Прая и Меконг были принудительно заселены, и здесь начали заниматься поливным рисоводством только в начале XX века. Причины столь позднего развития этих районов, очевидно, таковы: 1) чтобы стало возможно рисоводство, требовались широкомасштабные дренажные работы; 2) их избегали, потому что здесь свирепствовала малярия (особенно сразу после расчистки территорий); 3) ежегодные разливы крупных рек были непредсказуемы и нередко разрушительны[115]. Впрочем, следует конкретизировать и обосновать мои смелые обобщения. Во-первых, политическое, экономическое и культурное влияние подобных центров политической власти, как и предсказывал Вродель, широко распространялось, если почти не сталкивалось с сопротивлением ландшафта, то есть по равнинам, судоходным рекам и береговым линиям. Ничто не иллюстрирует этот процесс более наглядно, чем постепенное, хотя и прерывистое замещение кхмеров и чамов вьетнамцами. Эта экспансия осуществлялась вдоль тонкой прибрежной полосы на юг, и берег выступал в роли водной магистрали, ведущей в конечном счете к дельте Меконга и далее за Вассак.
Сфера экономического влияния подобных государственных центров практически везде существенно превышала зону их политического контроля, поскольку последний зависел от получения монопольного доступа к рабочей силе и запасам продовольствия, которые можно было бы использовать в своих интересах, тогда как масштабы торгового влияния растут значительно легче. Однако проблема преодоления расстояний существовала и здесь: чем выше была меновая стоимость товара в соотношении с его весом и объемом, тем на большие расстояния велась торговля им. Дорогостоящие товары, такие как золото, драгоценные камни, ароматическая древесина, редкие лекарственные препараты, чай, ритуальные бронзовые гонги (предмет престижа в горах), связывали периферию с центром отношениями обмена, а не политического доминирования. Вот почему географический размах торговли и обменов, не требующих особых средств грузовой перевозки, был куда шире, чем достаточно скромные по сравнению с ним масштабы в принципе достижимой политической интеграции.
До сих пор я рассматривал только ключевые классические государства материковой части Юго-Восточной Азии. Однако принципиальное условие для формирования государств существовало практически везде — потенциальный центр поливного рисоводства, способный превратиться в «полностью подконтрольное территориальное ядро со столичным дворцом в самом его сердце»[116]. Различия между государствами определялись исключительно масштабами: если зона поливного рисоводства была большой и включала в себя множество сопредельных территорий, то при определенных условиях это могло способствовать возникновению крупного государства; если же размеры этой зоны были скромными, то и формирующееся, опять же при наличии определенных условий, государство также было небольшим. В последнем случае оно представляло собой укрепленный город, в котором проживало по крайней мере шесть тысяч подданных, у которого были союзники в близлежащих горах, расположенных на равнине с поливным рисоводством, и который управлялся, теоретически, единым властителем. По всей материковой Юго-Восточной Азии, нередко на достаточно больших высотах, рассеяны пространства с агроэкологическими условиями, способствующими формированию государств, хотя обычно, скорее, карликовых. В большинстве подобных мест в тот или иной период истории существовали небольшие тайские княжества. Изредка они объединялись в союзы или конфедерации, чтобы на короткий исторический миг превратиться в грозное государство. Процессы государственного строительства вокруг центров поливного рисоводства, независимо от их размеров, всегда были случайными и нередко эфемерными. Можно согласиться с Эдмундом Личем, что «рисовые поля оставались на одном месте», формируя тем самым потенциальный экологический и демографический ресурс, который умный и удачливый политический деятель мог использовать, чтобы создать новое или возродить прежнее государственное пространство. Однако даже весьма успешные династии были не в состоянии создать здесь подобие наполеоновской империи — только шаткие иерархии компактных суверенных княжеств. Оклеивал их воедино прежде всего разумный расчет при распределении прибылей и заключении брачных союзов, а в случае необходимости — и карательные кампании, обеспечивавшие жизненно необходимый жесткий контроль над человеческими ресурсами.
Таким образом, наша модель конститутивных элементов Бирмы в доколониальный период должна быть уточнена с учетом обозначенных базовых принципов захвата власти и установления зоны контроля. В период правления крепкой, процветающей династии «Бирма» как единая, мощная политическая сила состояла в основном из центров поливного рисоводства, сосредоточенных вокруг царского двора на расстоянии нескольких дней пешего пути. Эти центры необязательно располагались на смежных территориях, но обязательно были легкодоступными для чиновников и солдат из государственного центра — по торговым путям или судоходным водам. Природа этих связующих центр и периферию дорог имела решающее значение: армия, которая направлялась изымать зерно или наказывать мятежные регионы, должна была обеспечивать себя всем необходимым в пути. А для этого следовало прокладывать дорогу по территориям, богатым зерном, тягловым скотом, телегами и потенциальными новобранцами, чтобы восполнять запасы.
Карта 4. Совпадение местонахождения классических государств и судоходных водных артерий — общее правило, как видно по карте. Река Салуин/Нуцзян/Танлуин породила только одно классическое княжество, Татон, в своем устье. На большей части своего протяжения Салуин течет по глубоким ущельям и несудоходна, и лишь по этой единственной причине она — исключение из правила. Города Кенгтунг и Чиангмай также исключения, но в том смысле, что не расположены вблизи крупной судоходной реки. Однако каждый контролирует большую орошаемую долину, пригодную для поливного рисоводства, а потому и для государственного строительства.
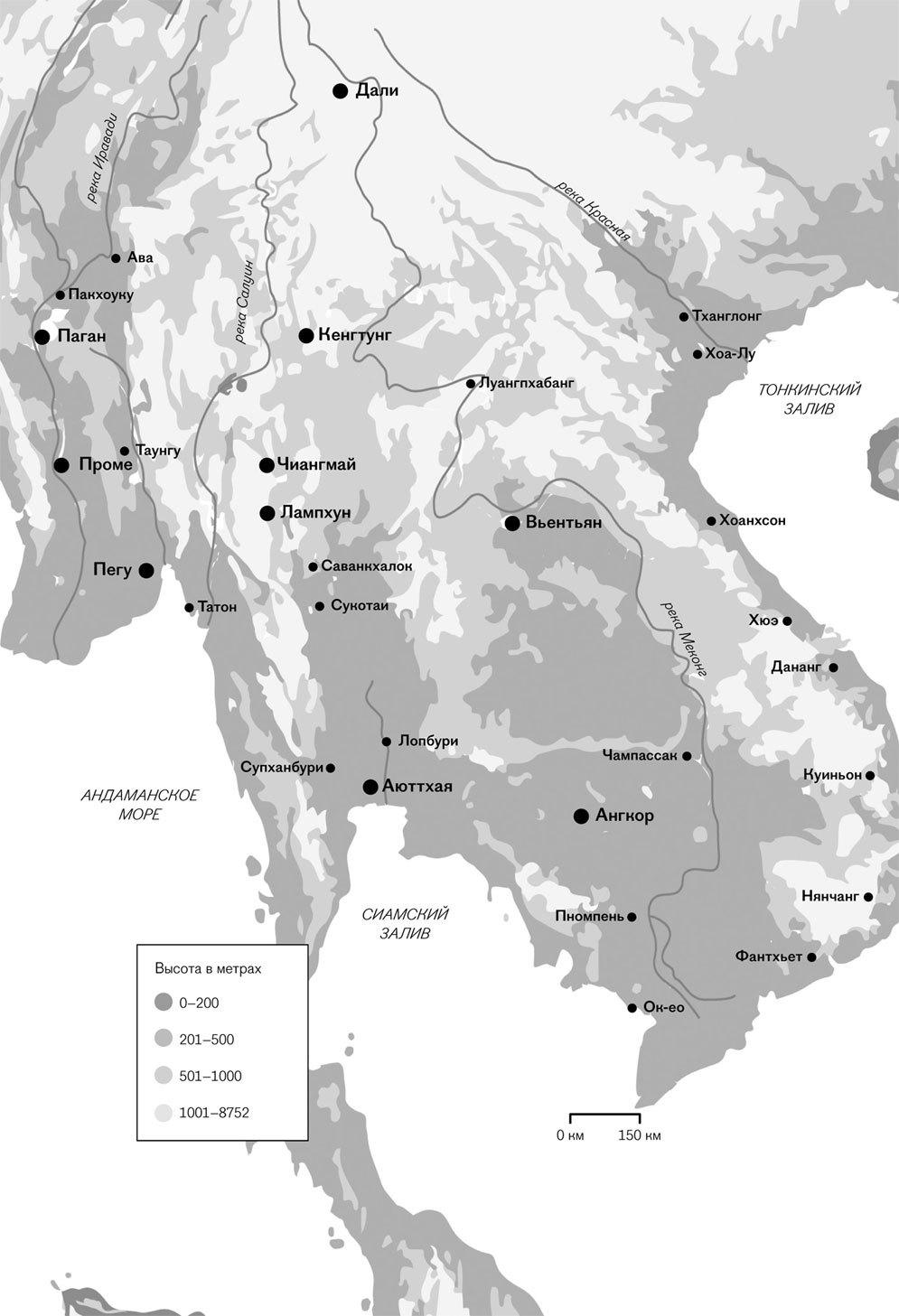
Соответственно, болота, топи и горы, даже если и располагались очень близко к центру государства, обычно не рассматривались как часть «политического, контролируемого пространства Бирмы»[117]. Эти территории были слабо заселены, и, за исключением большого плоскогорья, пригодного для поливного рисоводства, местное население в основном практиковало смешанные формы сельского хозяйства (рассеянные участки подсечно-огневого земледелия для выращивания риса и корнеплодов, собирательство и охота), продукцию которого было сложно обложить налогами и тем более изъять. Подобные районы могли платить дань княжескому двору, периодически обновляя клятвы верности ему и обмениваясь с ним ценными товарами, однако в целом оставались вне прямого политического контроля придворных чиновников. Фактически горные территории на высоте более трехсот метров не были частью доколониальной «Бирмы», которую следует рассматривать как равнинный феномен, редко рисковавший выйти за пределы своей ирригационно-адаптированной экологической ниши. Как отмечали Вродель и Пол Уитли, политический контроль легко установить на равнине, но, как только он сталкивается с сопротивлением ландшафта, резкими колебаниями высот над уровнем моря, пересеченностью местности и политическим препятствием в виде рассеяния населения и смешанных форм сельского хозяйства, то сразу начинает задыхаться.
В этих условиях современные трактовки суверенитета почти не имеют смысла. В отличие от свойственного нынешней конвенциональной картографии изображения государств как четко очерченных, визуально единых пространств, Бирму следует воспринимать, скорее, как горизонтальный топографический срез, вбирающий в себя большинство территорий, пригодных для поливного рисоводства и расположенных ниже трехсот метров над уровнем моря в зоне непосредственного контроля княжеского двора[118].
Карта 5. В самом лучшем случае «размах» доколониального государства был наиболее значительным на расположенных невысоко относительно уровня моря равнинах при условии наличия судоходных рек. Все королевства Верхней Бирмы возникали у реки Иравади выше или ниже ее слияния с рекой Чиндуин. Шанские горы к востоку от городов Мандалай и Ава, по прямой расположенные куда ближе, чем города вниз по реке — Пакхоуку и Магуэ, находились вне зоны эффективного контроля королевства. Доколониальное государство также обходило север и юг хребта Пегу-Йома, состоящего из невысоких, но скалистых гор, которые делят пополам рисовую долину. Эти горные районы успешно избегали государственного контроля в доколониальный период на протяжении большей части колониальной эпохи и даже в независимой Бирме, где оставались оплотом коммунистического сопротивления и восстаний каренов вплоть до 1975 года. Это очень показательный пример того, что даже весьма незначительные изменения в ландшафте могут препятствовать государственному контролю.
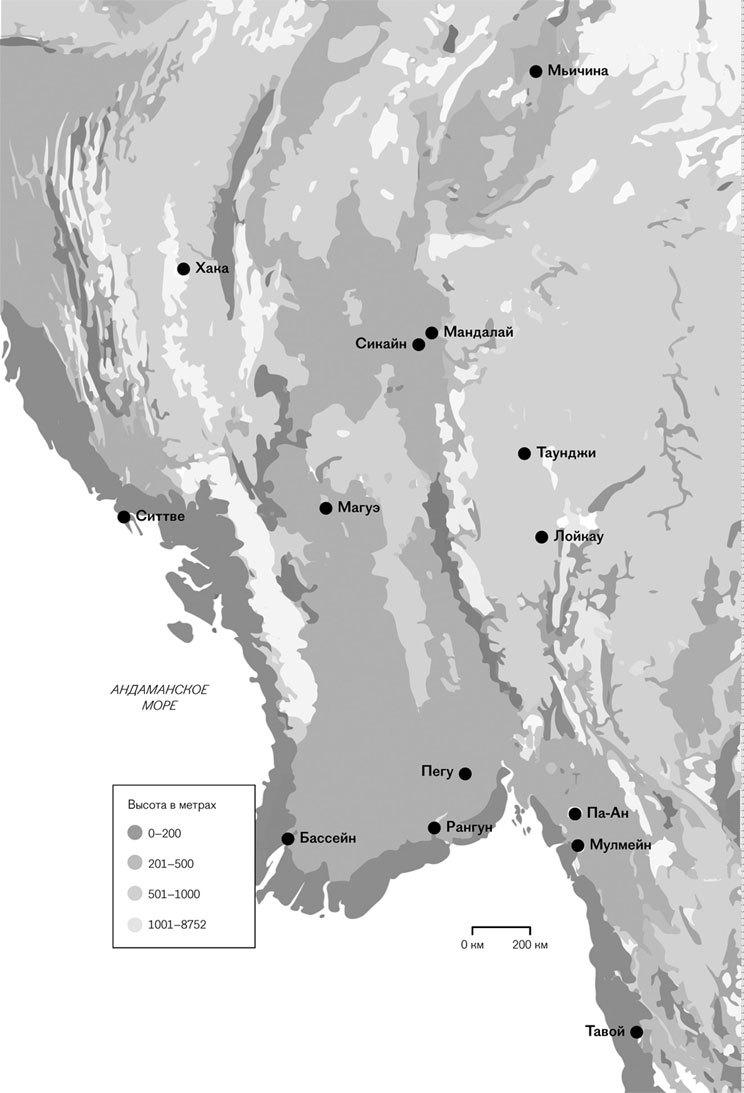
Представьте себе карту, созданную по этим параметрам, чтобы показать соотношение возможностей суверенитета и культурного влияния. Один способ визуализировать сопротивление ландшафта — представить, что вы держите сделанную из твердого материала карту, на которой высоты над уровнем моря изображены посредством реального рельефа самой карты. Допустим, что расположение каждого центра рисоводства обозначено емкостью с красной краской, наполненной до краев, причем размер этой емкости пропорционален размерам центра рисоводства, а следовательно, и количеству населения, которое он может аккумулировать. А теперь представим, что вы поочередно наклоняете карту то в одну сторону, то в другую. Краска перельется через края емкостей и растечется сначала по поверхности земли и водных потоков в низинах. Если вы увеличите угол наклона карты, то краска медленно или быстро, в зависимости от крутизны рельефа, растечется и по более высоким точкам.
Угол наклона карты, необходимый, чтобы краска достигла определенных зон, позволит примерно оценить, насколько сложно государству было установить здесь контроль. Если мы также примем во внимание утрату красной краской своего интенсивного цвета пропорционально пройденному расстоянию и достигнутой высоты над уровнем моря, мы получим, опять же очень приблизительную, оценку скорости утраты влияния и контроля или же, наоборот, относительных затрат на установление прямого политического контроля. На больших высотах красный цвет превратится почти в белый; если рельеф здесь отличается также и крутизной, то эта трансформация окажется почти внезапной. Сверху, в зависимости от количества горных районов вблизи центра государства, изображение его суверенитета будет выглядеть как разброс неровных белых пятен по темно- или бледно-красному фону. Население белых клякс, даже платя дань королевскому двору, редко, если вообще когда-либо, подчинялось ему напрямую. Если политический контроль резко слабел в устрашающих горах, то и культурное влияние центра ослабевало. Язык, характерные черты поселений, этническая самоидентификация и хозяйственные практики в горах отчетливо отличались от таковых в долинах. По большей части жители гор не исповедовали религию равнин. Если бирманцы и тайцы в долинах были буддистами традиции Тхеравады, то горные народности, за рядом примечательных исключений, были анимистами, а в XX веке — христианами.
Карта 6. Две основные зоны ирригации — Минбу Харуин и Кьяуксе — были рисовой корзиной доколониальных государств Верхней Бирмы. Ирригационные работы в Минбу Харуине в значительной степени предопределили расцвет королевства Паган в IX веке н. э. Эти два рисовых центра сформировали ресурс рабочей силы и запасы зерна, необходимые для становления государства и его неизбежного спутника — войны. Слово к’а уш’п (эо[с), часто транслитерируемое как khruin, означает «район» и имеет дополнительное значение огороженного стеной города, как в случае с известным выражением «девять к’а уш’п», составляющих классический город Кьяуксе; в значительной степени это слово эквивалентно понятию из шанского языка main (ее:), или же тайскому тиапд. За пределами этих зон, на равнине, располагались богарные пахотные земли, однако урожаи здесь не были столь же предсказуемы и щедры, как на орошаемых землях. На северном выступе Пегу-Йома, горе Попа и расходящихся от нее высоких холмах население и земледелие еще более рассеяны, а потому и население, и продукцию было сложно захватить.
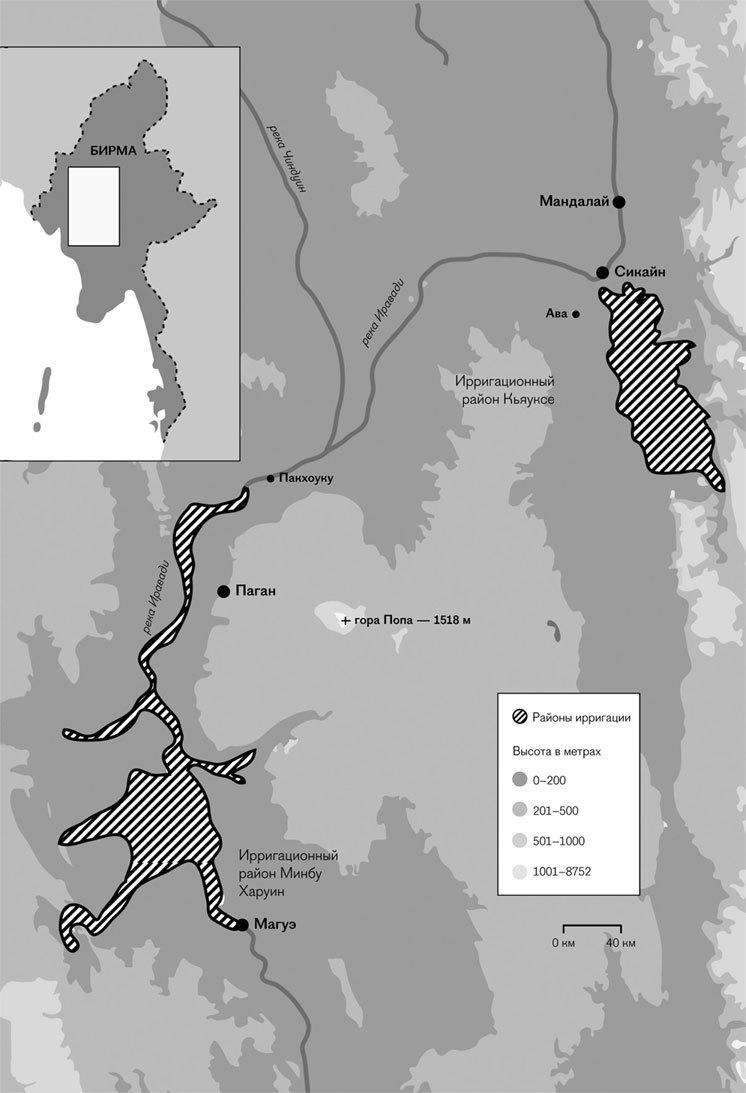
Цветная карта, построенная по критерию сопротивления ландшафта, также позволит приблизительно оценить параметры культурной и торговой, но не политической интеграции. Там, где растекание красной краски встречает наименьшие препятствия, вдоль берегов рек и по равнинам, больше вероятность встретить схожие религиозные практики, диалекты и социальную организацию. Резкие культурные и религиозные различия скорее всего проявятся там, где наблюдается внезапный рост сопротивления ландшафта, как в случае с горным хребтом. Если бы карта могла показать, как замедленная киносъемка, масштабы перемещения людей и товаров в пространстве и относительную легкость передвижений, мы могли бы уверенно оценить вероятность социальной и культурной интеграции[119].
Наша метафорическая карта, как и любая другая, выдвигает на первый план приоритетные для нас взаимосвязи, но оставляет без внимания все остальные. В этом смысле она, например, не позволяет оценить сопротивление ландшафта, за которое отвечают болота, топи, малярийные районы, мангровые побережья и густые заросли. Другая опасность связана с «горшком краски» в центре государства. Он абсолютно гипотетичен и олицетворяет возможный диапазон влияния сильного и амбициозного государственного центра в самых благоприятных условиях. Очень немногим государствам удалось хотя бы частично реализовать подобную степень контроля над своими перифериями.
Ни один из государственных центров, независимо от своего размера, не смог полностью подчинить себе территорию. Каждый из них существовал лишь как один из целой плеяды то набирающих силу, то ослабевающих соперников. До начала колониальной эпохи и юридического закрепления современного территориального устройства государства, существенно упростивших восприятие пространства, было почти невозможно оценить даже количество государственных центров, бывших по большей части карликовыми. Лич нисколько не драматизировал ситуацию, когда отметил, что «практически каждый значительный по размерам город в „Бирме“ претендует на то, что когда-то в историческом прошлом он был столицей „королевства“, заявляемые границы которого и слишком претенциозны, и неправдоподобны»[120].
Как же нам, вновь схематично, отобразить эту множественность государственных центров? Один из возможных вариантов — призвать на помощь санскритский термин «мандала» (mandala — «круг царей»), широко встречающийся в Юго-Восточной Азии, где власть правителя, нередко претендующего на божественное происхождение, распространялась из царского двора на рисовой равнине на все окружающие ее территории. Теоретически ему подчинялись все мелкие царьки и вожди, признавшие его притязания на духовную и светскую власть. Анахроничный образ лампы с разным уровнем яркости свечения как метафорическая оценка харизматичности и власти правителя, впервые предложенный Венедиктом Андерсоном, улавливает две принципиальные характеристики политических центров, устроенных по образцу мандал[121]. Их свет меркнет, отражая постепенное ослабление духовной и светской власти по мере удаления от центра, и это рассеянное свечение не допускает применения по отношению к подобным политическим образованиям современных трактовок государства как «прочных» границ, внутри которых можно говорить о стопроцентном доминировании верховной власти, полностью утрачивающей свою силу за их пределами.
На рисунке 1 я попытался обозначить некоторые поразительные сложности, с которыми сталкивается верховная власть в плюральной системе мандал. Для этого я изобразил несколько мандал (negara, muang, main, k’a yain) в виде неподвижных колец, в центре которых сконцентрирована власть, постепенно сходящая на нет по мере продвижения к внешней периферии. Подобная схема требует от нас пересмотра идеи глобального влияния ландшафта. Фактически мы представляем себе равнину плоской, как блин. Бирманские власти в XVII веке тоже исходили из подобного упрощения, моделируя административную организацию территории: провинция виделась им как окружность с радиусом контроля в сотню тьянгов (один тьянг равен 3,25 километра), большой город — с радиусом в десять тьянгов, средний город — в пять тьянгов, деревня — в два с половиной тьянга[122]. Читатель может себе представить, как географические особенности, например болото или гористая местность, нарушали правильность этих окружностей или как судоходная река могла расширить их радиус у водного пути. Еще более важно, что неподвижное изображение пространства совершенно не учитывает радикальную нестабильность системы во времени, тот факт, что «центры духовной власти и политического господства бесконечно сменялись»[123]. Поэтому читателю следует представлять их, скорее, как источники света, который сначала ярок, потом ослабевает и со временем затухает, в то время как новые источники света, центры силы, внезапно возникают и светят куда ярче.
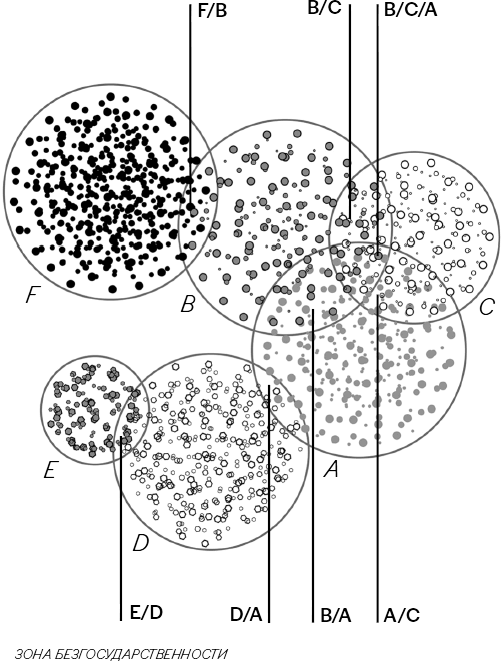
Каждый круг на рисунке обозначает королевство; некоторые из них небольшие, другие крупнее, но власть каждого идет на убыль по мере продвижения к периферии, что отражает снижение концентрации значков внутри каждой мандалы. Цель этого весьма схематичного изображения — проиллюстрировать некоторые проблемы власти, территориального устройства и суверенитета в материковой части Юго-Восточной Азии в доколониальный период, которые куда более детально охарактеризованы Тонгчаем Виничакулом[124]. Теоретически все земли, подконтрольные мандалам, платили им ежегодную дань (причем могли получать в ответ подарок равной или даже большей стоимости) и были обязаны в случае необходимости предоставлять войска, повозки, тягловых животных, продовольствие и другие ресурсы. Однако, как показано на рисунке, многие районы попадали в сферу влияния более чем одного правителя. Если территория двойного подчинения, как, например, в зоне D/A, оказывалась на периферии обоих королевств, их влияние могло фактически сойти на нет, если они были слабы, и тогда местные вожди и их сторонники обретали в этой буферной зоне значительную автономию. Если зона пересечения интересов двух королевств затрагивала большую их часть, как в случае с В/А или А/0, то она становилась причиной борьбы соперников и/или ареной карательных кампаний центра против не подчиняющихся ему, нелояльных деревень. Многие горные народы и мелкие шайки стратегически грамотно использовали подобную двойную юрисдикцию в своих интересах, по-тихому выплачивая дань сразу двум верховным властителям и изображая из себя независимых князьков перед теми, с кого сами собирали дань[125]. Расчет размера дани никогда не сводился к выбору между «все или ничего» — государственное строительство в этих мелких вотчинах сводилось к бесконечному поиску стратегически важных ответов на вопросы, что посылать в качестве дани, когда именно, когда возможны задержки, когда можно отказать в предоставлении рабочей силы и других ресурсов.
За пределами центральных зон государств ситуации двойного и множественного подчинения территорий или даже, особенно на больших высотах, отсутствия верховной власти были скорее нормой, чем исключением. Так, Чиангхаенг, небольшой город вблизи нынешних границ Лаоса, Бирмы и Китая, платил дань Чиангмаю и Нану (в свою очередь, данникам Сиама) и Чёнгтуну/Кенгтунгу (даннику Бирмы). Достаточно распространенной была практика, когда небольшие княжества назывались «слугами двух господ» или «трех правителей» на тайском языке и его лаосском диалекте: поскольку Камбоджа в XIX веке платила дань одновременно Сиаму и Дайнаму (Вьетнаму)[126], то ее называли «двухголовой птицей».
Однозначная единая верховная власть, ставшая нормой национального государства в XX веке, была редкостью за пределами горстки крупных рисоводческих центров, чьи государственные структуры также были склонны к разрушению. Вне этих центров власть имела неопределенный, плюральный, изменчивый характер, а нередко вообще отсутствовала. Культурные, лингвистические и этнические узы были столь же размытыми, множественными и подвижными. Если мы добавим к этому свои выводы о сопротивлении ландшафта, в частности высотности, установлению политического господства, то начнем понимать, в какой степени большей части населения, особенно в горах, удавалось избегать властных притязаний государственных центров. Впрочем, даже самые крепкие государства сжимались практически до диаметра крепостных стен вокруг дворцов своих правителей, как только начинались проливные муссонные дожди. Юго-восточно-азиатское государство в своей доколониальной форме мандалы, в колониальном облике и вплоть до недавнего времени, когда оно обрело формат национального государства, было по сути своей сезонным феноменом. На материковой части примерно с мая по октябрь дожди превращали дороги в непроходимые топи. Традиционный период военных кампаний в Бирме продолжался с ноября по февраль, в марте и апреле сражаться было слишком жарко, а с мая по октябрь — слишком дождливо[127]. Не только армиям и сборщикам налогов было не под силу продвинуться на сколь-нибудь значительные расстояния, но и путешествия и торговля сокращались до минимальной доли своих же объемов в сухой период. Чтобы наглядно показать, что имеется в виду, представим себе, что наша карта мандал составлена для сухого периода. О началом сезона дождей нужно каждое королевство уменьшить до четверти или даже восьмой части его первоначальных размеров в зависимости от особенностей местности[128]. Если же некий полугодовой ливень практически оставлял государство в безвыходном положении, а потом ослаблял свою водную хватку с окончанием сезона дождей, то, по сути, следует признать, что государственное и безгосударственное пространства менялись местами с метеорологической регулярностью. Хвалебный гимн яванскому правителю XIV века отмечает эту периодичность: «Каждый раз в конце сезона холодов [когда довольно сухо] он начинает странствия по всей стране… Он показывает свой флаг везде, но особенно в отдаленных районах… Он демонстрирует великолепие своего двора. Ото всех он получает дань и другие дары, собирает налоги, навещает старейшин деревень, проверяет земельные книги и инспектирует общественную собственность — паромные переправы, мосты и дороги»[129]. Подданные знали примерные сроки визитов своего правителя. Они также понимали, когда следует ждать армий, отрядов вербовщиков, военных реквизиций и разрушительных последствий войн. Войны, как и пожары, случались в сухие сезоны. Военные кампании, как, например, несколько вторжений бирманцев в Сиам, всегда начинались после сезона дождей, когда дороги опять становились проходимыми и созревал урожай[130]. Любой тщательный анализ традиционных форматов государственного строительства должен фокусироваться на погодных условиях в неменьшей степени, чем на чистой географии.
Колониальные режимы, хотя им удалось мощно проявить себя в строительстве всепогодных дорог и мостов, натолкнулись на те же препятствия, что и вытесненные ими местные формы политической власти. В затяжной кампании по оккупации Верхней Бирмы достигнутые колониальными войсками (в основном из Индии) в сухой сезон успехи нередко сводились на нет дождями, а также, видимо, свойственными сезону дождей заболеваниями. Попытка 1885 года очистить Минбу, район в Верхней Бирме, от мятежников и бандитов закончилась тем, что дожди вынудили британские войска отступить: «И к концу августа вся западная часть района оказалась в руках повстанцев, у нас же не осталось ничего, кроме узкой полосы вдоль берега реки. Дожди и последовавший за ними смертельный сезон в заболоченной области у подножия Йомы [горного хребта Пегу-Йома]… сделали невозможными широкомасштабные операции до конца года [нового сухого сезона]»[131]. На скалистых высокогорьях вдоль тайской границы, где бирманская армия ведет войну против своих этнических противников, сезон дождей остается основным препятствием на пути регулярной армии. Традиционное для наступлений бирманских сил календарное «окно» точно совпадает с тем, что использовали правители Пагана и Авы — с ноября по февраль. Вертолеты, передовые базы, новые средства связи позволили бирманской армии предпринять наступление в сезон дождей. Тем не менее захват последней крупной базы каренов на бирманской территории произошел лишь 10 января 1995 года, что по времени соответствует сезону ведения войны в прежние эпохи.
Для тех, кто хочет держать государство от себя на почтительном расстоянии, недоступные горные вершины — стратегический ресурс. Полное решимости государство, конечно, может предпринять карательную экспедицию, сжигая дома и растущие над землей сельхозкультуры, но длительная оккупация ему не под силу. Даже если в горах у государства были союзники, враждебно настроенному местному населению нужно было только дождаться сезона дождей — поставки продовольствия прерывались (или их было проще остановить), и гарнизоны начинали голодать или отступали[132]. Таким образом, физическое вынужденное присутствие государства в самых отдаленных горных районах носило эпизодический характер, часто балансируя на грани полного исчезновения. Подобные территории представляли собой надежные убежища от государства для тех, кто жил здесь всегда или перебирался сюда по тем или иным причинам.
Глава 3. Концентрация человеческих ресурсов и зерна. Рабство и поливное рисоводство
Это правда, я призкаю, что оно [королевство Сиам] больше моего, но и вы должны согласиться с тем, что король Голконды [Индия] правит людьми, тогда как король Сиама — лишь лесами и комарами.
— Из обращения короля, Голконды к посетителю из Сиама, примерно 1680 год
Государство как центростремительная демографическая машина
Основа политической власти в досовременной Юго-Восточной Азии — концентрация рабочей силы. Она была основным принципом государственного строительства и лейтмотивом истории практически всех доколониальных царств региона. Государственное пространство формировалось максимально легко в тех случаях, когда в наличии были значительные по площади плодородные равнины, орошаемые постоянными водными потоками, а еще лучше — расположенные вблизи судоходных водных путей. Прослеживая вглубь истории логику формирования государственных пространств, можно определить, чем политические системы, богатые территориями, но испытывающие недостаток человеческих ресурсов, отличаются от систем, имеющих мало земель и много рабочей силы.
Грубо говоря, общая формула звучит примерно так: политическое и военное господство нуждается в постоянном и легком доступе к скоплению человеческих ресурсов. Концентрация рабочей силы, в свою очередь, возможна только в условиях компактного оседлого земледелия, а выполнить его агроэкологические требования в Юго-Восточной Азии до XX века могло только поливное рисоводство. Отмеченные взаимосвязи отнюдь не однозначно детерминированы, хотя рисовые поля проще создавать и сохранять в речных долинах и на хорошо орошаемых плоскогорьях. Но они, возможно, потому и создавались на крутых горных склонах благодаря потрясающим по затраченным усилиям подвигам террасирования — там, где меньше всего можно было ожидать их появления, например у народа хани в верховьях Красной реки во Вьетнаме, у ифугао в Северном Лусоне и на Вали. Существуют и экологические ниши, пригодные для рисоводства, где, однако, оно не возникло. Также, как уже было показано, нельзя считать неизменной взаимосвязь рисоводства и государства: последнее легче создать вокруг центра поливного рисоводства, но существуют и подобные центры без государств, а иногда и государства без них. Таким образом, политическое значение поливного рисоводства состоит в том, что это наиболее удобный и типичный способ концентрации населения и продовольствия. Вез крупного центра производства риса обеспечивать эту концентрацию приходилось другими средствами, например рабовладением, сбором пошлин на торговых путях или грабежом.
Необходимость и в то же время сложность концентрации населения были демографически обусловлены: плотность населения в материковой части Юго-Восточной Азии составляла лишь седьмую часть таковой в Китае в 1600 году. Как следствие, в Юго-Восточной Азии контроль над населением сводился к контролю над территориями, тогда как в Китае, наоборот, контролировать территории означало контролировать население. Обилие пахотных земель в Юго-Восточной Азии стимулировало подсечно-огневое земледелие, тот тип сельского хозяйства, который давал высокие урожаи при меньших затратах труда и гарантировал семьям значительные излишки. Но то, что было выгодно земледельцам, категорически не вписывалось в амбиции стремящихся к государственной власти. Подсечно-огневое земледелие требует куда больше земель, чем поливное рисоводство, а потому способствует рассеянию населения; там, где оно доминирует, «оно устанавливает верхний предел плотности населения примерно в 20–30 человек на квадратный километр»[133].
И вновь мы возвращаемся к тому, что концентрация — ключ ко всему. Богатство государства имеет мало значения, если его потенциальные излишки рабочей силы и зерна рассеяны, и собрать их сложно и дорого. Как заметил Ричард О’Коннор, «политическая власть нередко определяется эффективностью, а не размерами территорий или богатством… Поливное рисоводство создавало сильные государственные центры… Оно способствовало не только большей плотности населения, но и более легкой мобилизации живущих в этих центрах сельских жителей»[134]. Само название северного тайского королевства — Ланна, «миллион рисовых полей» — прекрасно отражает эту одержимость сбором налогов и концентрацией рабочей силы.
Условия жизни в процветающих центрах поливного рисоводства, соответственно, благоприятствовали формированию того, что можно назвать идеальным населением досовременного государства. Главная характеристика этого идеального мира — высокая плотность оседлых земледельцев, которые ежегодно производят значительные излишки зерна. На протяжении многих поколений тяжело трудясь на своих рисовых полях, они вряд ли были склонны легко сняться с места. Но важнее то, что они и их рисовые поля были зафиксированы в пространстве, учтены, обложены налогами, подлежали военному учету и были всегда под рукой. Для двора и государственных чиновников это очевидные преимущества[135]. Признавая данный процесс «собирания», Жорж Кондоминас ввел термин emboitement («контейнеризация» или «связывание в узел» — наверное, лучшие варианты перевода) для описания эволюции тайских муангов[136]. Для «идеального подданного», в отличие от подсечно-огневого земледельца, проживание на «государственном пространстве» в состоянии «закрепленности» означало дополнительные и зачастую непредсказуемые покушения на его труд, зерно, а в случае войны — и саму его жизнь.
Успешные государства в досовременной Юго-Восточной Азии постоянно стремились собрать необходимое им население и удержать его на месте. Демография им в этом не способствовала. Стихийные бедствия, эпидемии, неурожаи, войны, не говоря уже о вечно манящих границах, постоянно угрожали шатким государствам. Китайское руководство по управлению, написанное более чем тысячелетие назад, когда китайская демография также не благоприятствовала государственному строительству, четко обозначило эту угрозу: «Если народ рассеян и не может быть удержан, город-государство превращается в груду руин»[137]. Археологи, работающие в Юго-Восточной Азии, не испытывают недостатка в подобных грудах.
Точно оценить соотношение социальных и экономических сил, удерживающих воедино эти агломераты власти или, наоборот, разрывающих их на части, чрезвычайно сложно по двум причинам. Во-первых, оно было исключительно нестабильно во времени и пространстве, меняясь из года в год и от региона к региону. Война, эпидемия, череда хороших урожаев, голод, крах торгового пути, сумасшедший монарх, гражданская война между претендентами на трон могли склонить чашу весов в ту или иную сторону. Во-вторых, мы должны быть предельно осторожны, интерпретируя хроники королевских дворов и даже местные летописи, которые сильны в идеализации династий и слабы в предоставлении точной информации[138]. Если принять их за чистую монету, то придется признать, что «даруемый королем мир», процветание, религиозное покровительство и божий промысел притягивали и привязывали критическую массу людей к государственному центру. Даже если воспринимать этот образ с огромной долей недоверия, следует все же признать, что он не абсолютно ложен. Обнаружено множество свидетельств того, что короли и государственные чиновники убеждали поселенцев возделывать рисовые поля, предоставляя им оборотный капитал в виде зерна и рабочего скота и на время освобождая их от налогов. Так, например, бирманский чиновник недалеко от Пегу хвастался в 1802 году в своем отчете о доходах, что он «кормил и поддерживал тех, кто был рад переехать из отдаленных городов и деревень в безлюдные районы в высоких джунглях и густых зарослях»[139]. Мирное и процветающее государство действительно привлекало переселенцев из неспокойных мест отовсюду — они надеялись спокойно заниматься земледелием, работать и торговать вблизи столицы. Именно это изображение в основном мирной и постепенной концентрации прежде безгосударственного населения, которое привлекал яркий и процветающий королевский двор, нарративно конструируется династическими хрониками и современными школьными учебниками, идеализирующими доколониальные государства. По сути, это глубоко искаженный нарратив. Он ошибочно принимает исключения за правило; он не способен объяснить частые крушения доколониальных царств; и, в первую очередь, он игнорирует принципиальную роль, которую войны, рабство и насилие играли в создании и поддержании подобных царств. Если я пренебрежительно отзываюсь о случаях, когда общепринятая трактовка процветающих династий имеет смысл, то только потому, что подобные моменты в истории обросли легендами, сравнительно редки и искажают базовые черты государственного строительства в материковой части Юго-Восточной Азии.
Хотя демография и открытые границы снижали эффективность прямого насилия, тем не менее очевидно, что использование силы было инструментом создания и сохранения «густозаселенных скоплений», от которых зависело существование государства[140]. Концентрация населения посредством войн и набегов работорговцев часто рассматривается как фундамент социальной иерархии и централизации, характерных для первых государств[141]. Самые мощные царства постоянно стремились пополнять и увеличивать свой запас человеческих ресурсов, насильно переселяя военнопленных, десятками тысяч покупая и/или похищая рабов. Человеческие ресурсы, которые могло мобилизовать государство, были основным показателем его мощи и точно так же определяли статусные позиции чиновников, аристократии и религиозных орденов, соперничавших, чтобы заполучить больше подчиненных, крепостных и рабов. Контекст многих королевских указов, если читать эти тексты между строк, выдает усилия заставить население центра государства не сниматься с места и одновременно намекает на их тщетность. Раз большинство указов XVIII века касается беглых крепостных, то можно уверенно предположить, что бегство крепостных было широко распространенной проблемой. Аналогичным образом количество указов, запрещающих подданным покидать или изменять место жительства, прекращать занятия сельским хозяйством, — хороший индикатор того, что правители были озабочены проблемой беглецов. На большей части материка на тела подданных наносились татуировки, а иногда и клейма, указывающие их статус и принадлежность конкретному хозяину. Сложно сказать, насколько подобные меры были эффективны, но они отражают попытку насильственно удержать население центра государства на месте.
Всепоглощающее желание собрать и удержать население в сердце государства прослеживается во всех аспектах государственного строительства в доколониальную эпоху. То, что Гирц пишет о балийских политических конфликтах — они были «скорее борьбой за людей, чем за территории», — вполне характеризует ситуацию во всей материковой Юго-Восточной Азии[142]. Этот принцип составлял суть стратегии ведения военных действий, которые были призваны обеспечить не столько захват отдаленных территорий, сколько пленение как можно большего числа людей, которых можно переселить в центральные районы. По этой причине войны не были особо кровопролитными. Зачем бы кому-то понадобилось уничтожать главный приз победителя? Подобная логика ведения войн была особенно характерна для аграрных государств внутри материка, которые в большей степени зависели от сельскохозяйственного производства в центре страны, чем от выгод торговли с отдаленными регионами. Но даже рабовладельческие и торговые государства на полуостровной части Юго-Восточной Азии были преимущественно заняты захватом и удержанием человеческих ресурсов. Первые европейские чиновники нередко изумлялись предельно размытым границам территорий и провинций в своих новых колониях и не понимали логики управления населением, мало или вообще не связанной с территориальной юрисдикцией. Как британский инспектор Джеймс Маккарти «изумленно отметил: „это был характерный обычай [Сиама] — разделение власти над людьми и над территорией“». Тонгчай Виничакул в своей проницательной работе показал, что правители Сиама уделяли больше внимания людям, которых они могли призвать на службу, чем суверенитету территорий, не имевших никакой ценности без рабочей силы[143].
Приоритетность контроля над населением, а не над территориями прослеживается в управленческой терминологии. Тайские чиновники носили титулы, прямо указывающие на количество людей, которое они теоретически могли мобилизовать: Кун Пан — «правитель тысячи подданных», Кун Саен — «правитель сотни тысяч подданных», а не «князь такого-то и такого-то места», что было характерно для Европы[144]. Обозначения местностей на подчиненной Бангкоку территории в конце XVIII века, по сути, соответствовали их потенциалу в эффективной мобилизации рабочей силы. Таким образом, был сформирован своеобразный рейтинг провинций по критерию снижения политического влияния Бангкока: провинции четвертого класса прямо подчинялись Бангкоку, его контроль в провинциях первого класса был крайне слабым (например, в тот период сюда входила Камбоджа). Размер провинций соответствовал некоей стандартизированной общей оценке того количества рабочей силы, которое она с большой вероятностью могла предоставить в случае необходимости. Отдаленные провинции, где власть Бангкока была незначительной, отличались одновременно большим размером и низкой заселенностью; идея была в том, чтобы каждая провинция предоставляла примерно одинаковое число подданных для работы и войны[145].
В конечном счете первостепенное значение человеческих ресурсов определялось военными соображениями. Захват плодородной рисовой долины, известного храмового комплекса, пропускного пункта на жизненно важном торговом пути не имел особого значения, если их невозможно было удержать. Этот простой факт составляет суть анализа власти в досовременных политических системах. В отличие от модели Локка, где богатство порождает власть, а потому первейшая обязанность государства — защитить жизнь и собственность граждан, в досовременных системах только власть может гарантировать обретение собственности и богатства. А власть, до технологической революции в сфере вооружений, в значительной степени зависела от того, сколько человек правитель мог отправить в поход; иными словами, власть сводилась к подконтрольным человеческим ресурсам.
Описанная детерминация власти срабатывала на всех уровнях доколониальных политических систем в Юго-Восточной Азии. Князья, аристократия, купцы, чиновники, старосты деревень, все вплоть до глав домохозяйств занимали свои социальные позиции благодаря союзникам, на труд и поддержку которых они могли рассчитывать в случае необходимости. Суть этой модели хорошо выразил Энтони Рид: «Политический контекст той жизни был таков, что маленькому человеку было чрезвычайно опасно демонстрировать свое богатство, если он не обладал достаточным числом зависимых от него людей, которые бы его богатство защищали и легитимировали… Соответственно, капитал сначала следовало вложить в людей — покупая рабов, давая в долг нуждающимся, вступая в брачные и военные союзы и организуя пиршества»[146]. Любой стремящийся обрести власть в подобных условиях волей-неволей демонстрировал поведение, которое Локк назвал бы аномальным или распутным. Макиавелли предложил бы здесь стратегию окружения себя максимально возможным количеством обязанных тебе союзников, что потребовало бы разумной щедрости в подарках, ссудах и пирах. Некоторых союзников можно было просто купить. Как отмечал путешественник XVI века, народ Малакки верил, что «лучше иметь рабов [хотя лучше перевести данное слово как „крепостных“], чем землю, потому что рабы — защита своих господ»[147].
Я утверждаю скорее не то, что рабочая сила была богатством, а то, что она была единственным надежным способом его сохранить. Можно возразить — и это убедительно делает Рид, — что морская и сухопутная торговля были куда более прибыльными, чем выжимание излишков из оседлых крестьян, даже в XVI и XVII веках. В основном аграрное государство в Верхней Бирме тоже сильно зависело от налогов и сборов, которыми обложило ценные товары, направлявшиеся на рынки Китая, Индии и других стран, благодаря своему стратегическому положению на реке Иравади[148]. Подобные товары легко хранились, высокая стоимость единицы веса и объема (как, например, опия сегодня) более чем компенсировала затраты на их транспортировку. Однако чтобы пожинать плоды столь прибыльной торговли, государство должно было отстоять свою монопольную позицию на реке или на горном перевале или в случае необходимости доказать свое право на сбор дани — в любом случае основным средством борьбы опять была рабочая сила.
Именно решающее преимущество в человеческих ресурсах, как утверждает Виктор Либерман, в течение длительного времени определяло доминирование «аграрных» царств Юго-Восточной Азии над ее морскими державами. «В эпоху ограниченной военной специализации, когда количество призванных на службу земледельцев составляло лучший и единственный индикатор военного успеха, север [Бирмы] стал естественным центром политической власти», — пишет Либерман. «В центре материка и на острове Ява мы можем найти пригодные для земледелия сухие, но орошаемые земли, которые очень рано стали демографически доминировать над более влажными морскими районами»[149]. Говоря схематично, со временем кучка крупных морских держав (Шривиджайя, Пегу, Малакка) поглотила своих более мелких морских соперников, а их самих, в свою очередь, поглотили небольшие аграрные конкуренты (Вьентьян, Ланна, Чиангмай). Все, что мы знаем об искусстве государственного строительства в Аве и Аюттхае, говорит о постоянных, но далеко не всегда успешных усилиях сохранить высокую плотность населения в центре страны и по возможности увеличить ее[150].
Охарактеризованные выше процессы прекрасно согласуются с большей частью написанного о государственном строительстве и политической консолидации в Европе. Здесь тоже столь метко названные Чарльзом Тилли «богатые насилием, но бедные капиталом» «прибрежные» аграрные государства и империи (например, Россия, Бранденбург-Пруссия, Венгрия, Польша и Франция) использовали свое демографическое преимущество, обычно имевшее решающее значение, для победы над морскими соперниками (Венецией, Нидерландами, Генуей, Флоренцией). Менее зависимые от нестабильной торговли, более иерархически организованные, более изолированные от кризисов продовольственных поставок и способные прокормить довольно внушительные армии, эти аграрные государства могли проиграть битву и даже войну, но сохраняли свое доминирующее политическое положение на протяжении длительного времени[151].
Роль населения как принципиально важного элемента государственного строительства находит множество подтверждений в поговорках и предостережениях, которыми наполнена придворная литература Юго-Восточной Азии. Нигде более приоритетность человеческих ресурсов по сравнению с территорией столь ярко не выражена, как в эпиграмме, датируемой раннебангкокским периодом в истории Сиама: «Иметь очень много людей [как подданных правителя] лучше, чем иметь очень много травы [невозделываемой земли]»[152]. Эта эпиграмма почти дословно воспроизводится в бирманской Хронике Стеклянного Дворца, составленной примерно в это же время: «Да, почва, но без людей. Почва без людей — лишь пустошь»[153].
Другие сиамские поговорки подчеркивают, что мудрое правление состоит в том, чтобы одновременно предотвращать бегство людей из центра страны и привлекать новых поселенцев для обработки земли:
В большом доже со множеством слуг дверь можно без опасений оставлять открытой; в маленьком доме с несколькими слугами двери следует закрывать.
Дравителъ должен давать своим преданным чиновникам назначения выезжать за пределы дворца и должен убеждать их селиться в обжитых районах, чтобы эти земли богатели[154].
Распад государства, в свою очередь, расценивался как неспособность монарха мудро управлять населением. Наставление королевы Coy бирманскому королю Нарахихапату прекрасно это иллюстрирует: «Оцени положение королевства. Нет у тебя ни подданных, ни людей… Твои соотечественники и соотечественницы медлят и не войдут в твое царство. Вот почему я, твоя верная слуга, говорю тебе о прошлом, хотя ты и не хочешь внимать мне… Говорила тебе не утомлять живот страны твоей, не унижать чело ее». Роль войны как формы соперничества за контроль скорее над земледельцами, чем над пахотными землями, очевидна и в восхвалении сиамского военачальника, который не только подавил восстание, но и доставил ко двору пленников: «И с того дня всегда посылал их Анантатурию, когда бы ни обнаруживались где-либо воры, головорезы, бунтовщики или восстания на границах страны или в королевских лесных угодьях. И куда бы тот ни направлялся, захватывал он множество своих врагов живыми и приводил их к королю»[155]. Но даже в случае отсутствия подобных явных свидетельств ключевое значение для верховной власти человеческих ресурсов прослеживается повсеместно в постоянном акцентировании роли так называемого политического антуража. Общепринято, когда бы чиновник ни упоминался в официальной придворной хронике, перечислять достижения и знаки отличий его последователей[156]. Когда бы ни фиксировалась в хрониках победная военная кампания, акцент делался на округленном числе выживших пленников, дошедших до столицы. И хотя здесь я в большей степени сфокусировался на свидетельствах из материковой части Юго-Восточной Азии, та же озабоченность заполучением человеческих ресурсов, чем чего бы то ни было еще, ярко представлена и на полуостровной части региона, особенно в малайском мире[157].
О императивом концентрации населения и зернового производства на самом деле сталкиваются все потенциальные создатели государств, вынужденные действовать в ситуации изобилия свободных территорий и простейших военных технологий. Им нужно было изобрести какие-то приемы противодействия склонности простого люда рассеиваться по территории, чтобы использовать предоставляемые ею возможности охоты, собирательства и менее трудозатратных видов сельскохозяйственного труда. В наличии у правителей был целый набор действенных стимулов — от коммерчески выгодных обменов и надежных способов ирригации до участия в военных грабежах и обладания священным знанием. Однако обещанные выгоды государственной жизни должны были перевесить ее же тяготы — налоговые сборы, воинские повинности и эпидемии, которые всегда сопровождали жизнь государства, если увеличение населения достигалось мирными средствами. Впрочем, такой перевес случался редко, а потому повсеместным было использование силы, призванной дополнить, а зачастую и полностью заменить преимущества государственной жизни.
Здесь следует вспомнить, что политические системы классической Античности на западе, очевидно, были аналогичными системами принуждения. Как говорит нам Фукидид, Афины и Опарта боролись не за идеологию или этнос, а за дань, которая измерялась в количестве зерна и людей. Население капитулировавшего города редко вырезалось — чаще его граждане и рабы попадали в плен к победителю и конкретным солдатам, захватившим их. Если их дома и поля сжигались, то, скорее, чтобы предотвратить их возвращение[158]. Основным рыночным товаром в эгейском мире — более ценным, чем зерно, оливковое масло и вино, — были рабы. Афины и Опарта были рабовладельческими обществами, причем в Опарте, аграрном государстве, илоты составляли более 80 % населения. И в имперском Риме тоже главным товаром, который перевозили по прославленным римским дорогам, были рабы; государство обладало монополией на их покупку и продажу.
Китай и Индия, задолго до того как стали настолько заселены, что контроль за пахотными землями сам по себе гарантировал господство над страдающими от недостатка земли подданными, сталкивались с теми же проблемами государственного строительства. Примерно в то же время, когда шла Пелопонесская война, первые китайские государства делали все возможное, чтобы предотвратить рассеяние населения. Руководства по управлению государством предписывали королю запрещать все виды деятельности в горах и заболоченных землях, «чтобы повысить вовлеченность населения в производство зерна»[159]. Подтекст этой и иных рекомендаций правителю состоял в том, что при наличии выбора подданные забрасывали оседлое земледелие и боролись за удобный им образ жизни. Подобное сопротивление считалось аморальным. Раз государство обладает «верховной властью над горами и топями, то те простолюдины, что ненавидят сельское хозяйство, ленивы и жаждут двойной прибыли, нигде не смогут найти себе пропитания. Если им негде будет найти себе пропитание, они будут вынуждены заняться обработкой полей»[160]. Вполне очевидно, что цель подобной политики — под угрозой голодной смерти принудить население выращивать зерно и принять подданство, предотвратив его бегство на свободные территории. Но, судя по резкому тону рекомендаций, такая политика не всегда была успешной.
Дилемма государственного строительства в условиях низкой плотности населения находит свои более современные и поучительные воплощения на юге африканской Сахары. В 1900 году плотность населения здесь незначительно превышала таковую в Юго-Восточной Азии в 1800 году, вследствие чего концентрация населения в центре государств стала главной задачей доколониальной политики[161]. Эта тема пронизывает всю литературу, посвященную политической истории коренных народов: «Стремление обрести родственников, сторонников, подчиненных, вассалов и подданных и удержать их при себе как особый тип социального и политического „капитала“ нередко отмечалось в качестве специфической черты политических процессов на африканском континенте»[162]. Сходства здесь столь разительны, что многие пословицы о властных отношениях можно легко перенести на юго-восточно-азиатскую почву без особых смысловых потерь. Так, пословица народа шербро гласит: «Человек не может быть вождем, сидя в одиночестве». Взаимосвязь между расчищенными многолетними полями и формированием царств прослеживается в данном древнему малайскому царю совете: «Срезай деревья, превращай леса в поля, ибо только тогда станешь ты истинным государем»[163]. Как и в Юго-Восточной Азии, здесь были важны не столько четкие территориальные границы, сколько права господства над людьми, а не над территориями, за исключением ряда ритуальных мест. Соперничество за последователей, родичей и подчиненных также работало на всех уровнях социальной иерархии. Поскольку демография явно благоволила потенциальным подданным, их чаще соблазняли, чем заставляли селиться во владениях конкретного правителя. Относительная автономия подданных получила выражение в бесконечном приумножении титулов, в пиршествах, в быстрой ассимиляции и мобильности пленников и рабов, в специальной атрибутике и медицинских препаратах, использовавшихся для удержания слуг, и прежде всего в бегстве недовольных своей жизнью. Баланс сил, по мнению Игоря Копытоффа, давал подданным четкое понимание того, что именно им правитель обязан своим господством, а не наоборот[164].
Формирование государственных ландшафтов и подданных
Долины съедены налогами, а горы — почестями.
— Афганская пословица
В досовременную эпоху правителя в материковой части Юго-Восточной Азии в меньшей степени волновало то, что мы сегодня назвали бы валовым внутренним продуктом (ВВП) его царства, и в большей — то, что можно обозначить как «доступный государству продукт» (ДГП). До изобретения денег товары, которые доставлялись издалека, должны были быть достаточно ценными в расчете на единицу веса и объема, чтобы оправдать расходы на транспортировку. И такие товары имелись — например, ароматическая древесина, смола, серебро и золото, церемониальные барабаны, редкие лекарства. Чем большее расстояние они преодолевали, тем больше была вероятность, что они станут подарком или предметом добровольного обмена, поскольку способность двора присвоить их уменьшалась практически в геометрической прогрессии с ростом преодоленной ими дистанции. Самое существенное значение имели продовольствие, скот и рабочая сила, в том числе квалифицированная, которые можно было захватить и использовать. Доступный государству продукт должен был легко поддаваться определению, контролю и подсчету (короче говоря, налогообложению), а также находиться достаточно близко географически.
Доступный государству продукт и валовой внутренний продукт — не просто разные, а во многих отношениях противоречащие друг другу вещи. Успешное государственное строительство всегда нацелено на максимизацию доступного продукта. ДГП не гарантирует правителю вообще никакой выгоды, если его номинальные подданные процветают за счет собирательства, охоты или подсечно-огневого земледелия на слишком отдаленных от дворца территориях. Он обеспечивает правителю незначительную прибыль, если его подданные выращивают широкий набор сельскохозяйственных культур с разными сроками вызревания или же культуры, которые быстро портятся, а потому их урожай сложно оценить, собрать и сохранить. Если у правителя есть выбор между хозяйственными практиками, которые достаточно неблагоприятны для земледельцев, но гарантируют государству высокие показатели зернового производства и рабочей силы, и практиками, которые выгодны земледельцам, но обделяют государство, то он всегда предпочтет первые. Тогда правитель максимизирует доступный государству продукт, причем, если это необходимо, за счет общего благосостояния царства и его подданных. Иными словами, досовременное государство стремилось организовать жизнь подданных и природный ландшафт таким образом, чтобы превратить свою территорию в предсказуемый источник ресурсов. Если ему это удавалось, то результатом в материковой части Юго-Восточной Азии был единообразный в социальном и агроэкологическом отношении ландшафт, основанный на поливном рисоводстве: Ричард О’Коннор назвал этот тип государства «рисовым»[165].
Основное преимущество поливного рисоводства заключается в том, что оно обеспечивает высокую плотность одновременно населения и зернового производства. Здесь следует подробнее остановиться на том, как именно поливное рисоводство закрепляет людей в пространстве. Ни одна другая культура не смогла бы обеспечить размещение такого количества людей на расстоянии трех-четырех дней пешего пути от царского двора. Высочайшая урожайность поливного рисоводства в расчете на единицу площади гарантирует беспрецедентные показатели плотности населения, а относительная стабильность и надежность, если ирригационная система функционирует без сбоев, — уверенность правителя, что население не сдвинется с обжитых мест. Нелегко забросить рисовое поле, учитывая, сколько лет труда в нем «утоплено» — на укрепление берегов рек, выравнивание, террасирование, строительство плотин и каналов. «Одна из основных проблем» королей Конбауна, как пишет Тант Мьинт У, — «получение центральной властью точной информации о количестве домохозяйств в конкретном населенном пункте»[166]. Ее можно назвать проблемой «учета» как непременного условия доступности ресурсов[167]. По сравнению с жизненными практиками, которые способствуют рассеянию населения и автономии, социальная экология поливного рисоводства значительно упрощает решение этой проблемы, размещая достаточно стабильное и компактно проживавшее население прямо у порога сборщиков налогов и вербовщиков в армию.
Фиксированное расположение производства в условиях оседлого земледелия в рисовом государстве означало, что правитель и его свита из ремесленников и чиновников также могли где-то постоянно пребывать. Вез надежных и постоянных поставок продовольствия, фуража и дров королевскому двору пришлось бы постоянно менять свое местоположение, чем и занимались дворы Англии и Франции в XIII веке, как только истощались запасы продовольствия (и терпения!) в каком-то районе. Численность ничего не производящей элиты, конечно, ограничивалась объемом излишков зерна: чем больше был центр государства, тем более многочисленной и хорошо обеспеченной была королевская свита. Только рисовое производство в значительных масштабах давало аграрному государству слабую надежду на выживание.
Выращивание только одной сельскохозяйственной культуры — само по себе важный шаг к учету и, соответственно, к присвоению. Монокультурное сельское хозяйство порождает единообразие на разных уровнях. В случае поливного рисоводства земледельцы были связаны примерно одинаковым ритмом производства. Они зависели от одних и тех же или же сопоставимых источников воды; они высаживали и пересаживали, пропалывали, собирали и обрабатывали свой урожай приблизительно в одно и то же время и одинаковым способом. Для составителя кадастра или налогового реестра ситуация была почти идеальной. Можно было оценить стоимость большей части земли в единой метрической системе; весь урожай собирался почти одновременно за небольшой промежуток времени и создавал лишь один товар; картографировать открытые поля, разделенные насыпями, получалось достаточно просто, хотя нелегко было соотнести земельные владения с соответствующим налогоплательщиком. Единообразие на полях, в свою очередь, порождало социальное и культурное единство, которое выражалось в структуре семьи, ценности детского труда и рождаемости, режиме питания, строительных стилях, сельскохозяйственных ритуалах и рыночных обменах. Общество, облик которого в значительной степени определяло монокультурное производство, было легче контролировать, оценивать и облагать налогами, чем любое другое с дифференцированными практиками хозяйствования. Представьте опять, будучи азиатским аналогом Кольбера, что вам нужно разработать систему налогообложения для многообразного поликультурного сельского хозяйства, производящего несколько видов зерновых, фруктов, орехов, корнеплодов, включающего в себя занятия скотоводством, рыбной ловлей, охотой и собирательством. Подобное разнообразие как минимум предопределит различия в стоимости земельных участков, разные типы домохозяйств, рабочих циклов, режимов питания, жилой архитектуры, одежды, инструментов и рынков. Наличие столь пестрого спектра продуктов и «урожаев» существенно затрудняет создание какой-либо налоговой системы, не говоря уже о справедливой. Конечно, в целях аналитической ясности я слишком резко обозначил различия двух хозяйственных систем: ни одно из материковых аграрных государств не было монокультурным в полном смысле слова. Но чем ближе государство оказывалось к подобному состоянию, тем радикально проще ему было консолидировать управляемое государственное пространство.
Именно в заданном контексте следует трактовать напряженные усилия успешных бирманских династий по сохранению и расширению в засушливые зоны областей поливного рисоводства. За пределами рисовых центров находился менее продуктивный и более дифференцированный в сельскохозяйственном отношении ландшафт, который усложнял работу сборщиков налогов. Отчеты районов о доходах (sit-tans) сначала неизменно предоставляли информацию о рисовых землях, совершенно четко давая понять, что доходы от нерисовых территорий, где выращивали просо, кунжут, кокосовые пальмы, разводили крупный рогатый скот, занимались рыболовством и ремеслами, было труднее получить и по сравнению с рисоводством они были незначительными[168]. Обор подоходных налогов с более рассеянного и в целом более бедного населения, чьи жизненные практики были более вариативными, оказывался особенно неблагодарной работой. И местным вождям было намного легче утаить от придворных чиновников и присвоить эти налоги. Колониальный режим в Бирме в неменьшей степени зависел от поливного рисоводства, даже когда налоги с этих районов стали собираться в денежной форме. Джон Фернивалл считает налоги с рисовых районов «основным ингредиентом» колониальной налоговой «диеты»: «Тем, чем рис является для кроткого индуса и любого тихого бирманца, макароны — для итальянца, говядина и пиво — для англичанина, всем этим и даже больше является земельный налог для Левиафана Индийского, того его вида, что населяет Индию; именно это — его пища, его хлеб насущный. Подоходный налог, таможенные пошлины, акцизные сборы и так далее… в крайнем случае он мог бы обойтись и без них, но без земельного налога он умер бы с голоду»[169].
Здесь опять мы сталкиваемся с различиями валового внутреннего и доступного государству продуктов. Как правило, сельское хозяйство, организованное государством или предприятиями с целью присвоения продукции, прежде всего демонстрирует признаки склонности к легкому учету и монокультурному земледелию. Монокультурные плантации, сегодня уже не существующие коллективные хозяйства социалистического блока, хлопковая издольщина после Гражданской войны на юге Соединенных Штатов, не говоря уже о созданных принудительно агрокультурных ландшафтах в ходе противоповстанческих кампаний во Вьетнаме и Малайе — яркие тому примеры. За ними редко скрываются модели эффективного или устойчивого сельского хозяйства, поскольку они задумываются как оптимальные форматы учета и присвоения агропродукции[170].
Политика стимулирования или навязывания четких аграрных пейзажей для присвоения получаемой продукции тесно связана с государственным строительством. Только подобные ландшафты приносили прямую выгоду и были легко доступны. Неудивительно поэтому, что усилия склонить народы к оседлому образу жизни посредством навязывания соответствующих видов сельского хозяйства (обычно рисоводства) демонстрируют поразительную преемственность — от доколониальных государств до их современных преемников. Вьетнамский император Минь Манг (1820–1841) «использовал все доступные методы, чтобы стимулировать обработку новых рисовых полей. Эти методы включали в себя разрешение тому, кто расчистил поле, использовать его как частное владение, стимулирование богачей выступать с инициативой и искать арендаторов для создания новых сельских поселений. Принципиальной задачей государства было сохранение контроля над населением. Бродяжничество всячески порицалось, лица без определенного места жительства закреплялись на конкретных земельных участках, где становились надежным источником налоговых поступлений, барщинного труда и живой силы для военной службы»[171].
Со своей стороны французские колониальные власти были заинтересованы в превращении свободных земель в места для посадки дающих доход и легких в учете сельскохозяйственных культур, в частности в плантации каучука. Французы стремились трансформировать финансово совершенно бесперспективные горы в пространство, которое будет прибыльным и полезным. Социалистический Вьетнам вплоть до сегодняшнего дня сохраняет приверженность «оседлому сельскому хозяйству и образу жизни» (dinh canh dinh cu), вновь акцентируя внимание на поливном рисоводстве даже там, где это экологически бессмысленно. Прежний образ рисового государства оказался обручен с утопической идеей покорения природы посредством героического социалистического труда. В итоге возник лирический взгляд в будущее, «в завтрашний день, [в котором] заросшие лесами горы Тай Бак и травяные просторы будут выровнены и на них возникнут огромные поля риса и кукурузы». Как гласит другой смелый лозунг, «сила людей даже камни превратит в рис»[172]. Одним из мотивов этой широкомасштабной политики расселения было понятное желание проживающего в низменностях народа кинь воспроизвести знакомые ему сельскохозяйственные ландшафты и формы поселений. Как это часто бывает, попытка мигрантов использовать агротехнические приемы, непригодные для нового места проживания, привела к экологическим проблемам и человеческим страданиям. Другим аспектом этого утопического идеала было стремление вьетнамского государства воссоздать те ландшафты, которые делали возможными учет и присвоение продукции и которые поддерживали власть его доколониальных предков, по крайней мере начиная с династии Ли.
Искоренение вариативного сельского хозяйства
Враждебная, природа, строптивая, и по сути своей мятежная, представлена, в колониях густыми зарослями кустарников, комарами, туземцами и лихорадкой, и колонизация успешна в том случае, если вся эта непокорная природа в конце концов была приручена.
— Франц Фанон. Проклятые земли
Единственный пункт моего несогласия с язвительным замечанием Франца Фанона в адрес колониального проекта состоит в том, что оно, по крайней мере в отношении «густых зарослей кустарников» и «туземцев», легко применимо к доколониальной и постколониальной эпохам.
Расширение и заселение принадлежащего государству пространства было действительно трудной задачей, учитывая наличие открытых границ. Если изредка государство с ней справлялось, то только благодаря отсутствию иных альтернатив и привлекательности государственного пространства. Основной альтернативой поливному рисоводству в материковой части Юго-Восточной Азии исторически и даже сегодня является кочевничество (также известное как подсечно-огневое земледелие). В той степени, в какой оно способствует рассеянию населения, выращиванию разнообразных культур (включая корнеплоды и клубнеплоды) и периодической расчистке новых полей, подсечно-огневое земледелие было проклятьем для всех государственных деятелей — прежних и современных.
Уже самое раннее государство региона, китайская империя по крайней мере начиная с династии Тан, стигматизировало подсечно-огневое земледелие и искореняло его при первой возможности. Хотя такой вид сельского хозяйства дает более высокий урожай в расчете на труд земледельца, полученный доход неподотчетен государству. Именно потому что подсечно-огневое земледелие было столь выгодно, оно постоянно искушало крестьянство, выращивающее рис и со всех сторон обложенное налогами, возможностью выбора альтернативных жизненных практик. Вдоль всей юго-западной границы Китая подсечно-огневых земледельцев стимулировали, а иногда и заставляли отказываться от этого вида сельского хозяйства в пользу оседлого выращивания зерна. Китайский эвфемизм XVII века, обозначающий инкорпорирование в государственное пространство, звучит как «попасть на карту». Он говорил о том, что человек стал подданным императора, поклялся ему в преданности и отправился в культурное путешествие, которое, по мнению ханьцев, в конце концов приведет к его ассимиляции. Однако в первую очередь переход от кочевого земледелия к оседлому предполагал, что домохозяйство было зарегистрировано и теперь фигурировало в официальных налоговых свитках[173].
Государственные фискальные императивы, которые лежат в основе стремления вьетнамского императора Минь Манга и китайских чиновников искоренить подсечно-огневое земледелие, в современную эпоху были подкреплены двумя соображениями: политической безопасности и контроля за ресурсами. Поскольку подсечно-огневые земледельцы не были встроены в систему государственного управления, хаотично перемещались через границы и всегда рассматривались как этнически обособленные, они воспринимались как источник потенциальной угрозы. Во Вьетнаме это привело к широкомасштабным кампаниям принудительного расселения и навязывания оседлого образа жизни. Другая современная причина запрета кочевого земледелия состоит в том, что оно вредит окружающей среде, уничтожает плодородный слой почвы, способствует эрозийным процессам и расходует ценные лесные ресурсы. Это в значительной степени разумное обоснование прямо заимствовано из политики доколониального периода. Но сегодня мы понимаем, что его посылки неверны, за исключением особых случаев. Ключевой мотив, составлявший суть данной политики, как выясняется, заключался в том, что государству было необходимо использовать земли для постоянных поселений, направлять доходы от добычи полезных ископаемых на собственные нужды и заставлять безгосударственных людей повиноваться. Как один государственный этнограф сообщил своему иностранному коллеге, целью его исследования горной экономики «было увидеть, как „кочевое“ подсечно-огневое земледелие может быть искоренено среди меньшинств»[174]. «Кампания по переводу кочевников на оседлый образ жизни» началась в 1954 году и в том или ином виде сохранялась в рамках доминирующей политики.
Та же политическая преемственность, даже если она и не реализовывалась последовательно, характерна для тайского государства на протяжении почти всей его истории. Николас Тапп, этнограф, изучавший хмонгов, утверждает, что меры по их переводу на оседлый образ жизни и оседлое сельское хозяйство, а именно политический контроль и «таизация», «представляют собой крайне консервативные стратегии, которые вот уже несколько столетий характеризуют взаимоотношения государственного населения и горных меньшинств региона»[175]. Попытки остановить подсечно-огневое земледелие стали более жестокими в разгар холодной войны в 1960-е годы, когда восстание хмонгов было разгромлено генералом Прапасом с использованием артиллерии, вооруженных нападений и напалма. Несмотря на то что Вьетнам и Таиланд опасались подрывных действий диаметрально противоположных по своим идеологическим воззрениям сил, проводимая ими политика была на удивление схожей. Хмонгам предписывалось прекратить кочевое земледелие, и, как утверждает политический документ, чиновники должны были «убедить горные племена, жившие рассеянно [так сказано в оригинале], переселиться в районы, обозначенные в проекте, и начать там оседлый образ жизни»[176]. В подобных обстоятельствах государственное пространство обретало дополнительный смысл, который, впрочем, лишь усилил мотивацию уничтожить кочевые хозяйственные практики[177].
Наверное, самая продолжительная и жестокая кампания против подсечно-огневого земледелия, призванная заставить людей, его практикующих, переселиться в концентрационные лагеря вокруг военных баз или же, в случае неудачи, уехать за пределы страны в Таиланд, — это кампания бирманского военного режима против каренов. Вооруженным колоннам был дан приказ сжечь весь урожай на полях подсечно-огневых земледельцев или перебить все колосья и заложить противопехотные мины. Понимая, насколько успешное «выжигание» важно для урожая в таком типе земледелия, армия посылала подразделения, чтобы выжечь вырубку преждевременно и свести на нет все надежды на хороший урожай. Последовательно уничтожая кочевое земледелие как вид, а не отдельных его приверженцев, власти минимизировали шансы беглецов выжить за пределами государства[178].
Подобные совпадения политических решений на протяжении столетий, включая современную эпоху, а также в разных типах государственных систем — подлинное свидетельство того, что здесь задействован некий принципиально важный механизм государственного строительства.
Е pluribus ипит (из многих — единое): креольский центр
Какой бы концентрации населения вокруг царского двора ни удавалось достичь рисовому государству, это всегда была сложнейшая победа в борьбе с серьезными демографическими препятствиями. Государство, полностью сфокусированное на решении задач получения рабочей силы, вряд ли могло тщательно отслеживать, кого именно инкорпорирует. В этом смысле «государство рабочей силы» — в принципе враг жестких и однозначных культурных различий и исключительности. Если выразиться более точно, то подобные государства обладали внятными стимулами инкорпорировать всех, кого могли, и придумывать культурные, этнические и религиозные доктрины, которые помогали бы им осуществить задуманное. Этот факт справедлив для всех рисовых государств материковой и морской Юго-Восточной Азии и имел множество последствий для каждой из равнинных цивилизаций. Акцент на процессах включения и поглощения столь важен, что приводит к ошибочному восприятию классических бирманских и тайских государств как эндогенных, моноэтнических выражений культурного развития. Гораздо правильнее рассматривать каждый государственный центр как социальное и политическое изобретение, как сплав, амальгаму, несущую в себе память о множестве элементов из разнообразных источников. Культура центра была незавершенным проектом соединения различных элементов, некоей условной векторной суммой разных народов и культур, которые решили идентифицироваться с ней или были вовлечены в нее силой. Можно сказать, что многие модели инкорпорирования были «взяты взаймы» у индийского субконтинента — шиваитские культы, браминские ритуалы, индусские судебные практики и буддизм, сначала Махаяны, а потом Тхеравады. Ценность обеих буддийских традиций, как считают Оливер Уолтере и другие авторы, заключается в том, что они подкрепляли претензии местных царьков на обладание сверхъестественной властью и легитимность и предоставляли универсализирующую модель для формирования новой гражданской идентичности из множества этнических и лингвистических фрагментов[179].
Если предложенная мной политическая перспектива и имеет смысл, то потому что радикально децентрирует любые сущностные трактовки «бирманства», «сиамства» и, коли на то пошло, «ханьства»[180]. Идентичность в центре государства была политическим проектом, разработанным, чтобы сплавить в единое целое собранные здесь разнообразные народы. Крепостные местных феодалов, рабы, захваченные в ходе военных действий или набегов работорговцев, земледельцы и купцы, прельщенные сельскохозяйственными и коммерческими возможностями, — все они формировали говорящее на множестве языков население. Наградой за инкорпорирование было то, что ассимиляция, браки между представителями разных групп и народностей и мобильность вследствие легко проницаемых социальных барьеров были относительно просты. Идентичность в подобных условиях оказывалась в большей степени результатом исполнения некоей роли, чем генеалогии[181]. Всякое рисовое государство, которое возникло и кануло в небытие в классический период, представляло собой результат действия принципа «карьера — для талантов». Культура каждого рисового государства со временем институционализировалась, и различия внутри нее были обусловлены тем заимствованным культурным и человеческим материалом, с которым ей пришлось работать. Если доколониальные царские дворы и были притягательны в культурном отношении, то именно благодаря своей способности поглощать мигрантов и пленников и через два или три поколения вплавлять их практики во всеохватывающую бирманскую или тайскую культурную амальгаму. Беглый взгляд на процесс культурного амальгамирования в тайском рисовом государстве, малайском регионе и классической Бирме заставит нас еще выше оценить способность государства рабочей силы к гибридизации[182].
Население центральной равнины, которая позже станет Сиамом, в XIII веке представляло собой сложнейшее смешение монов, кхмеров и тайцев, которые, в свою очередь, представляли собой «этничность-в-процессе-превращения» в подданных Сиама[183]. Виктор Либерман утверждает, что к середине XV века, в период Аюттхаи, в рамках управленческой элиты (munnai) возникла самобытная «сиамская» культура, но, похоже, только здесь. Хотя придворная культура базировалась на кхмерских и палийских текстах, простой народ, как его описал португалец Томе Пиреш в 1545 году, говорил на монских, а не тайских диалектах, и обрезал волосы, как моны в Пегу. Практики формирования государства рабочей силы отчетливо просматривались и в конце XVII столетия, когда, как утверждается, более трети жителей центрального Сиама были «потомками иностранцев, в основном пленников лао и монов»[184]. В начале XIX века королевский двор удвоил свои усилия, чтобы восстановить массовые потери населения в ходе бирманских войн. В результате «в общей сложности численность лао, монов, кхмеров, бирманцев и малайцев почти сравнялась с количеством тех, кто идентифицировал себя с подданными Сиама в центральной части страны. Крестьянские подразделения из жителей Пхуана и представителей народов лао, чам и кхмеров сформировали костяк регулярной армии и флота вокруг Бангкока. На плато Корат после мятежа короля Анувонга в 1827 году было расселено так много депортированных лао, что их количество вполне могло сравниться с общим числом говорящих на сиамском языке в королевстве»[185].
То, что характеризует бассейн реки Чао Прая, верно и для целого архипелага мелких тайских/шанских рисовых государств, разбросанных тут и там все дальше на север в горы. Общее мнение состоит в том, что мелкие тайские/шанские государства были политико-военным изобретением — в терминологии Кондоминаса systeme a emboitement, — в котором тайцев было достаточно мало. Эта точка зрения согласуется со свидетельствами, что и бирманцев было не так много — они сформировали первую, военную, элиту, обладавшую опытом и навыками государственного строительства. То, что завоевателей было немного, но они в конечном счете стали правителями, не должно удивлять тех, кто знаком с британской историей, поскольку подчинившая себе после 1066 года Британию норманнская элита состояла не более чем из двух тысяч семей[186]. Число тайских/шанских завоевателей росло благодаря таланту заключать союзы, поглощать, адаптировать и сочетать самые противоположные воззрения вошедших в создававшееся государство народов, что предполагало инкорпорирование остатков прежде существовавших политических систем (монов, лава, кхмеров), но прежде всего — поглощение огромного числа жителей высокогорий. Кондоминас считает, что захваченные в плен горные жители сначала становились крепостными, но затем, с течением времени, превращались в тайских простолюдинов, получавших право владеть рисовым полем. Те, кто был достаточно удачлив или искусен, чтобы захватить муанг, скорее всего, принимали тайское благородное имя, таким образом ретроспективно приводя свою генеалогию в соответствие с личными достижениями[187]. Большая часть населения в подобных государствах состояла из нетайских народов, а многие из тех, кто стал тайцем и буддистом, продолжали говорить на своем языке и сохранять свои обычаи[188]. Хотя сегодня принято считать, что качины стали шанами, качинский аспирант, попытавшийся доказать, что большинство шанов когда-то были качинцами, был недалек от истины[189]. Эдмунд Лич убежден, что шанское общество было не столько «„готовой“ культурой, распространившейся с юго-запада Китая, сколько сложившейся в местных условиях в результате экономического взаимодействия небольших военных колоний с коренными жителями гор в течение длительного времени». Он добавляет: «Существует множество доказательств, подтверждающих, что огромные группы людей, которых мы сегодня знаем как шанов, являются потомками горных племен, не так давно очень сложными путями ассимилированных буддийско-шанской культурой»[190]. Будучи сконструированы по тем же принципам, но в меньших масштабах, рисовые государства отличались разнообразием в этническом отношении, были экономически открыты и способны к культурной ассимиляции. В любом случае шанская идентичность связана с рисоводством и предполагает принятие подданства шанского государства[191]. Посредством поливного рисоводства «шанскость» и государственность тесно взаимосвязаны. Именно поливное рисоводство гарантирует территориальное закрепление оседлого населения, что является основой военного превосходства, получения доступа к излишкам продовольствия и политической иерархии[192]. Кочевое земледелие, наоборот, предполагает нешанскую идентичность и фактически по определению проживание вдали от государства[193].
Бирманские государства, возникавшие с начала XI века на высокогорьях Бирмы, предопределили контуры классического аграрного государства рабочей силы. Их агроэкологическое размещение (как и в случае Красной реки во Вьетнаме), вероятно, было наиболее благоприятным для концентрации человеческих ресурсов и зернового производства. Центр государственного строительства, который должна была контролировать каждая правящая династия, состоял из шести районов, по четырем из которых (Кьяуксе, Минбу, Шуэбо и Мандалай) проходили постоянные водные потоки, обеспечивавшие экстенсивное круглогодичное орошение. Кьяуксе, само название которого содержит отсылку к поливному рисоводству, был самым богатым из районов. Уже в XII веке здесь были территории, на которых ежегодно выращивали по три урожая[194]. По оценкам Либермана, к XI веку в радиусе от восьмидесяти до ста миль от царского двора проживало несколько сотен тысяч человек[195].
Как и тайские королевства, Паган был политическим инструментом концентрации рабочей силы и зернового производства. В этом качестве он радушно принимал или захватывал поселенцев везде, где мог их найти, и привязывал их к царскому двору в качестве подданных. Как позволяют предположить хроники, в середине XIII века Паган был этнически мозаичен и, помимо монов, включал в себя бирманцев, кадусов, сгавов, канианов, палаунгов, вас и шанов[196]. Некоторые из них были привлечены возможностями, которые предлагала растущая империя, для других переселение означало «добровольную ассимиляцию билингвалов, жаждущих обладать общей идентичностью с имперской элитой»[197]. Впрочем, есть небольшие сомнения, что внушительная часть населения, в частности моны, были «призом» грабительских набегов, военных кампаний и насильственных переселений.
Удержание воедино государственного центра подобных масштабов, учитывая демографию того периода, было сложным предприятием. Открытые границы в сочетании с тяготами жизни внутри государства (налоги, воинские повинности, рабство) обусловливали необходимость постоянного восполнения неизбежной утечки населения посредством военных кампаний, чтобы заполучить пленников, и принудительной миграции. Если центру государства, будучи единожды созданным, удавалось сохраниться демографически до середины XIII века, то массовый исход населения после — возможно, потому что рисовая долина предлагала огромную концентрацию добычи монгольским завоевателям — оказывался столь катастрофическим, что империя распадалась.
Последняя до британского правления династия (Конбаун), как и все предыдущие, создала государство, одержимо стремившееся к заполучению рабочей силы. Правители воспринимали его как многоязычное царство, в котором клятва в верности и уплата дани считались признаком инкорпорирования. Моны, сиамцы, шаны, лаосцы, палаунги и паосы, как и бирманцы, исповедовали буддизм Тхеравады. Но, в отличие от исламских и христианских общин с собственными кварталами, мечетями и церквями, религиозный конформизм здесь не был условием политического единства. Оценки той доли, какую в населении ранней империи Конбаун (в конце XVIII века) составляли пленники и их потомки, неизменно базируются на догадках. Тем не менее, скорее всего, эта доля составляла от 15 до 25 % от общей численности подданных государства примерно в два миллиона человек[198]. Крепостные, что вполне ожидаемо, в основном концентрировались вокруг царского двора и были заняты в царских службах, отвечавших за строительство лодок и ткачество, формировавших пехотные, оружейные, кавалерийские и артиллерийские подразделения армии. В качестве ahmudan (буквально — «выполняющих поручения») они отличались от athi, простого люда, с одной стороны, и от личных крепостных частных владельцев — с другой. В ближайших окрестностях царского двора его работники (большинство из них были манипури) составляли по крайней мере четверть населения.
Универсальный термин «рабочая сила» не позволяет оценить крайнюю избирательность отбора пленников и «гостей» по критерию полезности. Приведем самый известный пример: царь Оинбьюшин после разграбления Аюттхаи в 1767 году привел с собой почти тридцать тысяч пленников, в число которых вошли чиновники, драматурги, ремесленники, танцоры и актеры, большая часть королевской семьи и множество придворных литераторов. Результатом стал не только ренессанс бирманского искусства и литературы, но и формирование принципиально новой придворной культуры. Царская свита представляла собой многонациональную группу ценных специалистов: землемеров, создателей оружия, архитекторов, торговцев, кораблестроителей и счетоводов, а также инструкторов по строевой подготовке из Европы, Китая, Индии, арабского мира и регионов Юго-Восточной Азии. Потребность в квалифицированной рабочей силе или пехотинцах и земледельцах обычно перевешивала соображения жесткой культурной изоляции.
Сочетание сложной статусной иерархии с высокой мобильностью и ассимиляцией было в равной степени характеристикой Бирмы в период правления династии Конбаун и Бангкока в первые годы его существования в качестве столицы Сиама. Большинство бирманцев в некоей точке своей родословной могли обозначать себя как представителей бирманцев-шанов/монов/тайцев/манипури/араканцев/каренов и других горных народов. Если мы углубимся в историческое прошлое, то найдем убедительные аргументы в пользу того, что многие, если не большинство, бирманцы — результат культурного слияния цивилизаций Пиу и Бирмы. Рабы, попавшие в крепостную зависимость, должники и пленники, как и повсеместно в Юго-Восточной Азии, со временем становились простолюдинами. Отец Санджермано, который прожил более двадцати пяти лет в Аве и Рангуне в начале XIX века, отмечал тщательнейшую проработку в бирманских сводах законов особенностей разных типов личной зависимости. И он же утверждал, что «подобное рабство никогда не было пожизненным»[199].
Вечная озабоченность заполучением рабочей силы обусловливает легкость ассимиляции и высокую мобильность, а также очень подвижные и проницаемые этнические границы. Либерман высказывает крайне убедительное предположение, что часто воспринимаемое как война бирманцев с монами противостояние Авы и Пегу отнюдь таковой не являлось. В билингвальных районах Нижней Бирмы этническая идентичность была скорее вопросом политического выбора, чем генеалогической данности. Смена одежды, прически и, возможно, места жительства — и вот, пожалуйста, вы уже сменили свою этническую идентичность. По иронии судьбы в войсках, которые бирманский двор Авы послал на покорение Пегу, монов было больше, чем бирманцев, а направленные позже (в 1752 году) из Пегу против Алаунпайи силы состояли в основном из бирманцев. Вот почему следует трактовать противостояние Авы и Пегу как региональный конфликт, в котором преданность конкретному королевству подавляла все иные соображения, а идентичность в любом случае была вещью достаточно конвенциональной[200].
В каждом из трех государств, которые мы рассмотрели, критерии религиозной, лингвистической и этнической принадлежности играли роль в стратификации в рамках политической системы. Однако для нас принципиально важно то, что ни один из них не был препятствием для вхождения в политическую элиту. Более того, каждый критерий мог достаточно быстро и неизбежно трансформироваться всего за два поколения. Повсеместно императив обретения рабочей силы оказывался врагом дискриминации и изоляции[201].
В некотором смысле рассматриваемое нами доколониальное государство является особым и исключительным примером государственного строительства в сложных демографических и технологических условиях. Если государству в принципе удавалось возникнуть, его правители были вынуждены сосредоточить свои усилия на концентрации подданных в относительно узкой географической зоне. Такие принципы конструирования государственного пространства, как доступность учету и присвоению, учитывались практически во всех политических проектах, независимо от того, осуществляли их государственные или негосударственные институты. Плантационное сельское хозяйство с его монокультурами и рабочими бараками, миссионерский пункт с колокольней и селящимися вокруг него прихожанами — разные типы контроля, но каждый нуждается в учете и мониторинге. Редкий проект становления государственности не изменяет ландшафт и принципы расселения и производства, чтобы достичь более высокой степени подотчетности и контроля. Первые колониальные режимы в своих кампаниях по усмирению коренного населения использовали принудительное переселение, искоренение подсечно-огневого земледелия и концентрацию подданных. Лишь постепенно всепогодные шоссе, железные дороги, телеграфные линии и надежные валюты обусловили возможность большего рассредоточения населения и производства при незначительных потерях в уровне контроля. В кампаниях по подавлению восстаний мы видим, в миниатюре, попытку максимально сконцентрировать внушавшее опасение население на подконтрольной территории, что нередко порождало фактически настоящие концентрационные лагеря.
Методы контроля населения
Рабство
Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства, и науки; без рабства не было бы и Рижской империи…
Нам никогда, не следует забывать, что наше экономическое, политическое и интеллектуальное развитие имеет своей предпосылкой такой строй, в котором рабство было столь же необходимо, сколь и общепризнано. В этом смысле мы вправе сказать: без античного рабства не было бы и современного социализма.
— Карл Маркс[202]
Откуда появились люди, жившие на «государственном пространстве» в доколониальную эпоху? Первые теории, всё в большей степени утрачивающие к себе доверие, утверждали, что огромное число тайцев и бирманцев пришли с севера и вытеснили коренные народы. Однако, оказывается, очень незначительное количество тайцев и бирманцев установили политическое господство в тех зонах поливного рисоводства, которые сочли для себя подходящими[203]. Эти рисовые государства, несомненно, поглотили жившие здесь прежде народы, ровно так же как государственные образования Пиу и Мон в период мирной экспансии привлекали мигрантов, ищущих здесь социального положения, работы или торговых перспектив. Что самое удивительное, ни одно из рисовых государств не достигло расцвета, за исключением тех, что занимались широкомасштабными набегами с целью захвата рабов. В соответствии с историческим стереотипом и перефразируя высказывание Карла Маркса о рабстве и цивилизации, можно сказать, что ни одно государство не могло существовать без концентрации рабочей силы, что оно было невозможно без рабства; соответственно, все первые государства, включая морские державы, были рабовладельческими.
Справедливо поэтому назвать рабов самой важной «торговой культурой» в доколониальной Юго-Восточной Азии — самым востребованным товаром в коммерции региона. Практически каждый крупный торговец был в то же время охотником за рабами или их покупателем. Каждая военная операция, каждая карательная экспедиция были одновременно и кампаниями по захвату пленников, которых могли покупать, продавать или оставлять себе. Этот поведенческий паттерн был настолько устойчивым, что, когда Магеллан был убит во время своего кругосветного путешествия, ответственные за это преступление филиппинцы отловили часть его команды и продали в рабство на острова. Когда бирманцы захватили портовый город Оириам у португальских поселенцев в начале XVII века, они собрали выживших европейцев и насильно переселили их в деревни недалеко от столицы Авы. Юго-восточно-азиатские государства демонстрировали исключительную широту взглядов, когда речь заходила об обретении рабочей силы.
Только оттягивая население с периферии, разрастающиеся рисовые государства могли добиться такой его концентрации в центре, какая была необходима для его доминирования и защиты. Данный процесс имел панъюго-восточно-азиатский характер и обладал системными чертами. Энтони Рид, автор принципиально важного исследования рабства, объясняет происходившее следующим образом: «До возникновения в XIX веке контрактной формы трудовых отношений перемещение пленников и рабов было важнейшим ресурсом трудовой мобильности в Юго-Восточной Азии. Обычно оно имело форму переселения людей из слабых, политически фрагментированных социальных систем в более сильные и богатые. Древнейшим и демографически наиболее значимым видом территориальной мобильности были приграничные набеги более сильных, занимавшихся поливным рисоводством земледельцев из речных долин на исповедовавших анимизм подсечно-огневых земледельцев и охотников-собирателей»[204]. Другое описание происходившего: систематическое перемещение пленников из безгосударственных пространств, особенно горных районов, чтобы расселить их на государственных территориях или рядом с ними. Этот паттерн вполне различим в Камбодже уже в 1300-х годах и прослеживается в некоторых регионах (например в Малайзии) вплоть до XX века. Гибсон утверждает, что примерно до 1920-х годов большую часть городского населения Юго-Восточной Азии составляли рабы или их потомки (зачастую во втором или третьем поколении)[205].
Доказательства повсеместны. В качестве иллюстрации приведем тайский мир, где три четверти населения в королевстве Чиангмай в конце XIX века составляли военнопленные. В Чиангсаене (Каинг Хсене) примерно 60 % жителей были рабами; в Лампхуне — семнадцать тысяч из общего количества подданных в тридцать тысяч. Сельские элиты тоже держали рабов в качестве рабочей силы и в свите. Рабов они либо сами захватывали в ходе войн, либо покупали у занимавшихся набегами работорговцев, которые прочесывали горные районы, похищая всех, кого могли[206]. Чтение дворцовых историй и хроник тайских и бирманских королевств обычно представляет собой знакомство с длинными перечнями набегов, успешность которых измерялась количеством и искусностью пленников. Бунты и отказы предоставить требуемую дань часто наказывались разграблением и сожжением мятежного района и депортацией его подданных в государственный центр победителя. Когда правитель Оонгкхлы после первоначального отказа в конце концов все же явился в Аюттхаю с данью, король приказал захватить всех жителей Оонгкхлы и в качестве рабов расселить вблизи столицы. Масштабы рабства куда более понятны историкам, чем другие реалии, потому что захват рабов был прямой задачей государственного строительства.
Конечно, в описанных политических системах были и иные, чем плен, пути превращения в раба. Широко практиковалось долговое рабство, когда должник и/или члены его семьи становились «рабами» кредитора до тех пор, пока долг не был погашен. Дети продавались в рабство родителями, а осужденные преступники приговаривались к рабству в качестве наказания. Однако если бы подобные варианты обращения в рабство охватывали большинство его возможных социальных источников, скорее всего, почти все рабы принадлежали бы той же культуре, что и их хозяева, и отличались бы от них лишь своим социальным статусом. Но это было не так, что показала Кэтрин Воуи для северного Таиланда: большинство рабов здесь и, как выясняется, повсеместно были выходцами из культурно совершенно особых горных районов и попадали в рабство в ходе набегов как военные трофеи[207].
Сложно сегодня вообразить масштабы рабства и его последствия[208]. Экспедиции за рабами были привычным коммерческим предприятием каждого сухого сезона на большей части материка. В результате пиратских вылазок, отдельных похищений и широкомасштабных депортаций (например, шесть тысяч семей были принудительно переселены в Таиланд после захвата Сиамом Вьентьяна в 1826 году) целые регионы фактически обезлюдели. Воуи цитирует исследователя конца XIX века А. Р. Колкухоуна, который сделал ряд замечаний относительно масштабов рабства и его последствий для общества:
Практически нет сомнений в том, что рассеяние горных племен в горных районах вблизи Зимме (Чиангмай) в значительной степени обусловлено тем, что в прежние времена на, них систематически охотились, как на диких зверей, и поставляли на рабовладельческий рынок…
Захваченные в плен становятся рабами в полном смысле этого слова; их закабаляют без какой-либо надежды на, освобождение, кроме как в случае смерти или побега. На них устраивают засады, потом плененных угоняют прочь, как охотники — лань, вырывают из лесов, заковывают в кандалы и ведут в главные города страны Шан [Чиангмай], Сиама и Камбоджи на продажу[209].
Различаясь своими агроэкологическими характеристиками, горы и долины по определению были торговыми партнерами. Но, увы, самым важным товаром гор для разрастающихся равнинных государств стали люди[210]. Этот способ (охота) обретения рабочей силы был настолько прибыльным, что горные народы и немало горных сообществ целиком оказались вовлечены в работорговлю. Население долин прирастало не только за счет военнопленных и карательных переселений, но и по сути благодаря коммерческим экспедициям за рабами. Горные сообщества нередко распадались на два типа: одни были настолько слабы и фрагментированы, что служили прекрасным источником рабов в ходе набегов на них, то есть были добычей; другие высокогорные группы, наоборот, организовывали набеги и часто были работорговцами, то есть хищниками. Народности акха, палаунг и лису, например, скорее входят в первый тип горных сообществ, тогда как, временами, карены и качины — во второй. Захват и продажа рабов составляли настолько принципиально важный фундамент экономики качинов, что один из первых колониальных чиновников был убежден, что «рабство — национальный обычай качинов»[211]. Карены, наоборот, выступали то в качестве добычи, то как хищники[212].
Как это часто случается с основным товаром, рабы фактически превратились в мерило оценки стоимости прочих товаров. Стоимость раба в Чинских горах в конце XIX века составляла четыре головы крупного рогатого скота, одно хорошее оружие или двенадцать свиней. «В горах рабы были денежной единицей и переходили из рук в руки столь же легко, как банкноты в более цивилизованных регионах»[213]. Тесная взаимосвязь гор и социального происхождения рабов отчетливо прослеживается благодаря тому факту, что обозначения рабов и горных народов нередко взаимозаменяемы. Как отмечает Кондоминас, в основе названия тайского королевства лежит Sa или ха из вьетнамского языка, а также его эквивалент Mia из сиамского и лаосского языков. Этот термин «можно перевести как „раб“ или „горное племя“, в зависимости от контекста»[214]. Аналогичным образом обозначение дикаря или варвара во вьетнамском языке, тог, имеет неизбежные коннотации, связанные с рабством, и в доколониальную эпоху Центральное нагорье Вьетнама называлось rung тог, или «леса дикарей». Кхмерское обозначение варвара, phnong, имеет те же коннотации[215].
Память о набегах за рабами хранят многие современные горные сообщества. Она закреплена в легендах и мифах, рассказах о похищениях, которые нынешние поколения слышали от своих отцов и дедов, а иногда и в личных воспоминаниях стариков. Так, группа каренов пво рассказывает о постоянных похищениях из районов вокруг Моламьяйна и насильственном перемещении в качестве рабов в тайские княжества. Когда карены хотят заставить своих детей вести себя хорошо, они пугают их, говоря, что придет таец и утащит их[216]. У народа ламет, проживающего сегодня в Лаосе, сохранилась коллективная память о набегах бирманцев, которые окрашивали свои волосы известью, чтобы легко опознавать друг друга. В ответ ламеты отступали в окруженные рвами деревни на горных хребтах, чтобы не быть захваченными в рабство[217]. Очевидно, что культура некоторых групп испытала существенное влияние боязни попасть в рабство и соответствующих контрмер. Лео Альтинг фон Гойзау убедительно показал это на примере народа акха на тайско-юньнаньской границе, чьи обряды врачевания воспроизводят захват жителями равнин и в конечном итоге освобождение. Как и ламеты, акха считали себя слабой группой, которая должна все время изворачиваться и держаться подальше от равнинных центров власти[218].
В данном контексте отличие набегов с целью захвата рабов от войн становится почти теологическим вопросом. Широкомасштабные военные действия велись против других царств, и тогда существование государства и правящей династии оказывалось под угрозой. В мелких войнах не так много было поставлено на карту, но в любом случае проигравшая сторона понимала, что большая часть населения будет сметена с ее территории и угнана на территорию победителя. В случае экспедиций в горы за рабами военное искусство уступало свои позиции и превращалось в обычные облавы, нацеленные на слабо организованные группы, которым оставалось только по-партизански защищать себя или же скрываться бегством. Наградой победителю во всех трех случаях была рабочая сила: война была опасной оптовой азартной игрой; рабовладельческие рейды были менее опасной, но тоже вооруженной розничной торговлей. Вот почему можно уверенно и вполне корректно называть бирманские и тайские государства как «военными», так и «рабовладельческими».
Захват рабов был не только важнейшей стратегической задачей войны, но и личной целью офицеров и солдат. Существовали армии, полностью ориентировавшиеся на захват добычи. Из военных трофеев только слоны, лошади, оружие и амуниция предназначались бирманской короне. Все прочее — дети, женщины, мужчины, крупный рогатый скот, золото, серебро, одежда и продовольствие — переходило в собственность захвативших их солдат, которые имели право распоряжаться награбленным по своему усмотрению. Хроники Стеклянного Дворца королей Бирмы сообщают, что в ходе нападения в конце XVIII века на Линзин (Вьентьян) пехотинец, захвативший в качестве личной добычи сорок пленников, продал одного из них королю, который счел, что из пехотинца выйдет хороший солдат[219]. Не стоит воспринимать подобные армии как унифицированные бюрократические организации, коллективно подчинявшиеся воле командующего, — скорее, это были совместные, пусть и опасные, торговые предприятия, от которых их многочисленные инвесторы и участники ожидали получить прибыль. Эта модель соответствует описанию Максом Вебером ряда досовременных войн как «грабительского капитализма»: спекулятивные войны ради получения прибыли, в которых у инвесторов есть четкое понимание, как будут распределены доходы, если предприятие окажется успешным. Если принять во внимание, что армии должны были обеспечивать себя всем необходимым на пути к своей военной цели, можно представить, насколько разрушительными и устрашающими они были. Армии, некоторые чрезвычайно крупные, на всем протяжении своего пути нуждались в повозках, быках, буйволах, носильщиках, рисе, мясе и новобранцах (чтобы заменять дезертиров!). Следует добавить к этому списку требований армии к «окружающим землям, за счет которых следовало жить», грабеж и уничтожение посевов и жилищ пленников, чтобы последним некуда было возвращаться, и станет понятно, что подобные войны были крайне разорительными, хотя и необязательно кровопролитными[220].
Определенная доля пленников, насильно угнанных на территорию победителя, становилась частной, а не королевской собственностью. Ваполучение человеческих ресурсов было не только задачей государственного строительства, но и важным индикатором социального статуса, который выражался в размере личной свиты. Элиты прилагали все силы, чтобы аккумулировать критическую массу крепостных посредством долгового рабства и покупки рабов, для упрочения своего статуса и богатства. Корона, богатые семьи и религиозные общины (например буддийские монастыри) соперничали друг с другом за доступные источники рабочей силы. На более высоком уровне целые рисовые государства боролись за население, которое было единственной гарантией их власти. Так, после падения Пегу Сиам и Бирма постоянно конфликтовали по поводу того, кто из них имеет монопольные права на монов и каренов, проживавших на территории между ними. Ава и Чиангмай в схожей ситуации соперничали за каренов и лава. Подобные конфликты не всегда выливались в военное противостояние. Время от времени, почти как агенты по продаже недвижимости в ситуации выгодной покупателю рыночной конъюнктуры (большого количества предложений), государства сулили выгодные условия тем, кто соглашался оказаться под их крылом. Так, власти Северного Таиланда обещали каренам и лава освобождение от барщины и налогов на все то время, пока те будут жить на выделенной им территории, платя ежегодную дань ценными горными продуктами. Однако алчность хищных районных чиновников, военачальников и промышляющих набегами работорговцев приводила к тому, что даже правителю с самыми добрыми намерениями редко удавалось сдержать подобное обещание. В этом смысле проклятие правителя Чиангмая «да будет уничтожен тот, кто притесняет народ лава» следует воспринимать наоборот — как признание собственной неспособности заставить выполнять свои требования[221].
Пока машина по производству рабочей силы работала нормально и правящая династия привлекала или, что более вероятно, захватывала население темпами, которые намного превышали показатели демографических потерь, государство волей-неволей становилось космополитическим. Чем более разнообразные группы оно поглощало, тем в большей степени его столица демонстрировала культурные и лингвистические признаки смешения народов. По сути, подобная культурная гибридизация была условием политического успеха. Так же как малайское прибрежное государство, с его малайским языком и исламским мировоззрением, было исключительно своеобразным благодаря вобранным культурным потокам, тайские и бирманские рисовые государства отражали культуры тех народов, которых они инкорпорировали или захватили, культурно связав их воедино буддизмом Тхеравады и единым языком.
Усилия рисовых государств по концентрации населения были опасны и рискованны по целому ряду причин. Во-первых, безусловно, демография работала против них. Население всегда по причинам, которые будут детально рассмотрены ниже, стремилось от них ускользнуть. Большая часть истории любого рисового государства представляет собой маятниковое колебание — от притока населения к его исходу. Если корона вдруг оказывалась неспособна пополнить число подданных, комбинируя захваты военнопленных с экспедициями за рабами и соблазнением имеющимися в центре государства коммерческими и культурными возможностями, это грозило ей фатальным снижением демографического и военного потенциала. Упадок возрожденного королевства Таунгу после 1626 года и королевства Конбаун после 1760 года, по сути, обусловлен все тем же дисбалансом. После череды завоеваний первых правителей возрожденного королевства Таунгу установившийся длительный период мира означал, что государство не получало новых пленников для восполнения потерь подданных, которые сбегали от «сверхэксплуатации» из «центра страны». Распад в 1780-е годы королевства Конбаун при короле Водопайе был обусловлен не столько пассивностью, сколько неудачными вторжениями на сопредельные территории и беспрецедентными масштабами трудовых наборов на общественные работы, которые превратили нормальный отток подданных из центра государства в сокрушительный для власти массовый исход[222].
Во-вторых, сумасшедшая гонка за рабочей силой, если взглянуть на нее внимательнее, была, по сути, игрой с нулевым исходом, что особенно ярко проявлялось в войнах рисовых государств, когда выигрыш победителя обычно точно равнялся потерям проигравшего. И в случае рабовладельческих экспедиций в горы небольшое число крошечных царств соперничали за один и тот же ограниченный резерв пленников. И наконец, правители рисовых государств систематически теряли значительную долю доступного им зерна и населения, поскольку были не способны преодолеть сопротивление и уклонение от уплаты налогов собственных элит и простого народа. Обратимся теперь к этой политической дилемме и парадоксу, который состоял в том, что, если подобное сопротивление жестко подавлялось, это приводило к массовому оттоку населения, а его последствия для государства были еще более катастрофичными.
Налоговая подотчетность
Эффективная налоговая система предполагает в первую очередь, что объекты налогообложения (люди, земля, торговля) учтены. Переписи населения и кадастровые карты плодородных земель — ключевой административный инструмент учета объектов налогообложения. Как и в указанном выше различии валового внутреннего и доступного государству продукта, аналогичным образом важно понимать разницу между всем населением и тем, что Джеймс Ли называет «налогооблагаемым», то есть административно учтенным[223]. Также следует проводить черту между реально обрабатываемой землей и торговлей, с одной стороны, и «налогооблагаемым землевладением» и «налогооблагаемой торговлей» — с другой. Безусловно, только административно учтенная («налогооблагаемая») земля и население могут быть оценены и потому доступны государству. Величина зазора между налогооблагаемыми и неподотчетными ресурсами позволяет примерно оценить эффективность налоговой системы. В досовременных политических системах этот зазор был значительным.
Попытка детализированного налогового учета была предпринята по указу бирманского короля Талуна в начале XVII века, «чтобы записать все земли, которые обрабатываются, а потому налогооблагаемы; имена, возраст, пол, дни рождений и количество детей у людей; штат и земли разнообразных королевских служб; местных чиновников и находящиеся в их управлении земли, а также границы их юрисдикции»[224]. Фактически король хотел провести полную инвентаризацию своих налогооблагаемых ресурсов. Как и все подобные описи, как бы аккуратно они ни составлялись, данная инвентаризация дала лишь мгновенный снимок, который очень скоро перестал отражать реалии, изменившиеся вследствие передачи земель, перемещений населения, наследственных отношений и т. д. Ряд королевских указов был призван обеспечить достоверность описей, запрещая те виды социальных обменов, которые могли существенно исказить имевшиеся сведения. Подданным запрещалось переезжать без разрешения, менять свой гражданский статус с простолюдина или царского слуги на крепостного. Относительная устойчивость поливного рисоводства и характерного для него «налогооблагаемого» домохозяйства, возглавляемого старшим мужчиной в семье, также способствовала строгому учету налогооблагаемых ресурсов в центре страны[225].
Помимо и сверх неизбежных сложностей досовременного налогового учета, монарх сталкивался и с более систематическими и неразрешимыми структурными проблемами. Правитель находился в отношениях прямой конкуренции со своими чиновниками, знатью и священнослужителями за трудовые ресурсы и зерно. Хотя королевские слуги (ahmudan) были самой легкодоступной для правителя рабочей силой, их ряды постоянно редели. Каждый слуга был заинтересован в изменении своего статуса на менее обременительный и подконтрольный. Для этого было несколько возможностей: стать простолюдином (athi) или личным слугой сильного покровителя, попасть в долговое рабство или влиться в ряды огромного числа неучтенного, «блуждающего» населения. Королевские чиновники и влиятельная знать содействовали всеми доступными способами подобному изменению налогооблагаемого статуса королевских слуг, потому что это позволяло им изымать высвобождаемые ресурсы в пользу собственных свит и налоговой базы[226]. Многие своды законов королевства Конбаун препятствовали подобному движению в сторону налоговой невидимости и, соответственно, в интересах других элит. Читая столь же длинный, сколь скучный, перечень запретов в отношении зерна, понимаешь, что королевское правление вряд ли было очень успешным.
Правители тайских княжеств боролись с тем же стремлением своих чиновников, знати и религиозных властей присвоить налоговые ресурсы короны. Так, основатель королевства Ланна в Северном Таиланде, король Манграй, объявил, что «беглецам из королевских придворных служб, которые пытаются уйти от исполнения своих обязанностей, не позволено становиться рабами [кого-либо еще, кроме короля]»[227].
Тайские и бирманские правители в эпоху до изобретения внутренних паспортов и удостоверений личности предпочитали татуировать большинство мужского населения, чтобы неуничтожимым способом фиксировать статус человека. Солдаты, добровольно или принудительно завербованные в армию Конбауна, получали татуировки, свидетельствовавшие об их статусе военнообязанных[228]. Тайны также использовали татуировки: тайским рабам и крепостным на запястье делалась татуировка, символически обозначавшая, чья они собственность — короля или знатного сановника. Если раб принадлежал сановнику, то имя последнего указывалось на татуировке, ровно так же как клейма крупного рогатого скота содержат указание на его владельца[229]. Захваченным в ходе военных действий каренам наносились татуировки, говорившие об их статусе военнопленных. Система татуировок привела к появлению охотников за головами — они прочесывали леса, чтобы найти беглецов и вернуть их «законным» владельцам. Перечисленные меры свидетельствуют не только о том, что контроль рабочей силы был по многим причинам более важной задачей, чем учет земель, но и о том, что решить первую задачу было куда сложнее.
У королевских чиновников и местных старост были и более банальные причины для использования хитроумных способов отъема ресурсов у короны, их «приватизации» и грабежа. Например, численность населения в официальных отчетах, что показали первые колониальные переписи, была значительно занижена. За определенную плату чиновники изымали упоминания о земле из земельных реестров, присваивали неаккуратно учтенные земли короны, умалчивали о налоговых поступлениях и не включали домохозяйства в налоговые перечни. Вильям Кёниг полагает, что корона таким образом теряла от 10 до 40 % своих доходов. Он ссылается на случай, когда после пожара в Рангуне в 1810 году чиновникам было дано указание составить список новых построек, но они не включили в реестр тысячу из двух с половиной тысяч домов[230]. Результатом подобных действий стало не что иное, как снижение налоговой нагрузки на простой народ. Пожалуй, это было изменение в модели распределения доходов государства, которое в перспективе имело разрушительные последствия и для короны, и для простолюдинов.
Сталкиваясь с постоянным сокращением своей налоговой базы в результате открытого бегства населения и описанной выше налоговой «невидимости», правителю рисового государства было крайне сложно удержать его от распада. Одним из доступных способов справиться с этой задачей была военная кампания, призванная добыть пленников и восполнить постоянно утекающее население. Плюсом новых военнопленных было то, что многие из них пополняли ряды придворных слуг и потому, по крайней мере первоначально, служили непосредственно короне. Гипотетически это объясняет стремление рисовых государств превращаться в военные: только с помощью войны правитель обретал шанс одним махом возместить отток рабочей силы. Менее масштабные рабовладельческие рейды в горы и набеги на периферийные деревни представляли меньшую опасность, но, соответственно, сокращался и размер добычи. Широкомасштабные войны могли обеспечить государству много тысяч пленников. Но, хотя военные кампании могли быть вполне рациональной стратегией конкретной правящей династии, на систематической основе она превращалась в иррациональную: война двух рисовых государств всегда заканчивалась тем, что проигравший нес катастрофические потери населения.
Государственное пространство как самоликвидирующееся
Самые внимательные историки, изучающие досовременные государства Юго-Восточной Азии, были поражены их хрупкостью, скоротечностью процессов их роста и распада. Виктор Либерман описывает их как «конвульсивные образования», а Оливер Уолтере применяет термин concertina — «гармошка»[231]. В заключительном параграфе этой главы я хочу подтвердить и расширить аргументацию Либермана, утверждающего, что хрупкость и неустойчивость этих государств были обусловлены систематическими структурными причинами.
В иллюстративных целях рассмотрим прямую логику «самоликвидации» на примере противоповстанческой политики современной военной диктатуры в Бирме. Военные подразделения пытаются контролировать большую часть мятежного приграничного региона, причем их испытывающие финансовые затруднения военачальники приказывают им самостоятельно добывать себе все необходимое в местах дислокации. Таким образом, и это немного походит на досовременные государства, военные подразделения должны сами находить себе рабочую силу, финансы, строительные материалы и продовольствие, чтобы выжить в суровых и враждебных природных условиях. Обычно они решают эту задачу, захватывая и расселяя вокруг своего лагеря значительное число гражданских лиц, которые формируют доступный для армии резерв рабочей силы, зерна и доходов. Гражданские лица пытаются бежать — в первую очередь самые бедные из них, кто не может откупиться от принудительного труда, выплатить вымогаемые поборы или отдать требуемое зерно. Вот как школьный учитель из каренов описал ситуацию исследователю в области прав человека: «Вдоль дороги… вглубь равнин существовало множество деревень, но большие села превратили в маленькие деревушки, а небольшие — в леса. Многие жители переехали в [другие] города или сюда [в горы], потому что ГОМР (Государственный совет мира и развития) [военное правительство] требует от них очень много налогов и принуждает к всевозможным видам работ»[232]. Последствия для оставшихся предсказуемы: «Поскольку жестокость нарастает, но уже по отношению к меньшему числу людей, менее уязвимые становятся все более уязвимыми и со временем вынуждены и сами бежать»[233].
Различные вариации представленной аргументации относительно досовременных тайских и бирманских государств приведены в работах Рабибхадана, Либермана и Кёнига[234]. Сердце центрального региона рисового государства формирует наиболее учтенная и доступная концентрация зерна и рабочей силы. Поскольку по прочим показателям этот район не отличается от остальных, самое важное здесь — именно население, из которого проще и эффективнее всего выжимать ресурсы, необходимые государству и его элите. Власть всегда сталкивалась с искушением возложить наиболее тяжелое налоговое бремя на население центра страны, а потому это была самая охраняемая ее территория. Так, в период правления королей Конбауна жители Мандалая и Авы были самыми «обираемыми» (в плане барщины и зерна), тогда как население отдаленных территорий отделывалось небольшой данью. Если вспомнить, что внушительная часть населения центра страны всячески обиралась еще чиновниками и знатью, то становится понятно, что налоговое бремя распределялось по подданным непропорционально, ложась тяжелым грузом на плечи прежде всего королевских слуг, многие из которых были потомками пленников и простолюдинов, вписанных в налоговые реестры. Это население выполняло для государства в целом функцию гомеостатического клапана: если давление на него возрастало, то повышалась и вероятность того, что оно просто-напросто сбежит за пределы досягаемости государства или же, что случалось намного реже, поднимет восстание.
Либерман приводит множество примеров срабатывания этого механизма, свидетельствующих, что рисовые государства убивали курицу, несущую им золотые яйца. В конце XVI века король Пегу (сын известного Вайиннауна), брошенный многими из своих давно завоеванных, далеко расположенных данников, в отчаянии был вынужден увеличить поборы с жителей центра страны, заставляя монахов служить в армии и казня дезертиров. Но чем более жесткие меры он применял, тем больше населения терял. Земледельцы массово исчезали, становясь личными слугами знати, попадая в долговое рабство или сбегая в горы и другие королевства. Оставшись без производителей зерна и солдат, Пегу в конце столетия был разграблен врагами[235]. Вероятно, самый заметный недавний распад государства пришелся на начало XIX века. Хотя королевство было богато пленниками в результате завоеваний Алаунпайи и лишения им своих соперников собственности, налоговое бремя на население, усугубленное засухой и неудачным вторжением в Сиам, привело к массовому исходу жителей[236]. Падение династии Чинь в начале XVIII века также укладывается в эту модель. Нарастающая автономия местной знати позволяла ей избегать уплаты налогов и присваивать труд и собственность, которые предназначались государству. В результате «налоговое ярмо тянуло все меньше людей, которые в то же время были наименее платежеспособными»[237]. Широкомасштабный отток населения и мятежи не заставили себя ждать.
Королевские советники, безусловно, так или иначе понимали суть структурных проблем, с которыми сталкивались. Об этом свидетельствуют поговорки о рабочей силе, их усилия по предотвращению оттока человеческих ресурсов и зерна к государственным чиновникам, их попытки более тщательного учета имеющихся в распоряжении государства ресурсов и поиска иных источников доходов. Зная все это, можно было бы предположить, что искусство государственного строительства заключается в умении как можно точнее улавливать направление ветра, то есть изымать ресурсы чуть меньше того объема, который спровоцирует бегство населения или бунты. В ситуации отсутствия череды успешных с точки зрения захвата пленников войн и набегов это была наиболее разумная стратегия[238].
Однако досовременное государство не могло подобным образом смирять свои аппетиты по крайней мере по трем причинам. Относительную важность каждой из них сложно оценить, и в любом случае она может существенно меняться в зависимости от ситуации. Первая причина проста: государства не обладали тем типом структурированной информации, которая позволила бы им принимать тщательно выверенные решения, особенно потому что многие чиновники имели свои причины обманывать корону. Урожаи в принципе можно было бы просчитать относительно точно, но не действия чиновников. Во-вторых, налоговый потенциал населения значительно менялся, как и в любой аграрной экономике, от сезона к сезону, завися от колебаний урожайности вследствие погодных условий, сельскохозяйственных вредителей и болезней растений. Воровство и бандитизм также играли здесь значимую роль: густые насаждения зерновых были столь же большим искушением для банд воров, бунтовщиков и соседних держав-соперников, как и для государства. Используя каждый год новый принцип вариативной оценки налоговой платежеспособности земледельцев, корона была бы вынуждена жертвовать собственными налоговыми интересами ради благосостояния крестьян. Имеющиеся доказательства говорят об обратном: доколониальные и колониальные государства стремились гарантировать себе стабильный уровень доходов за счет собственных подданных[239].
Существуют свидетельства, которые будут детально рассмотрены позже, подтверждающие, что демография и агроэкология государственного пространства определяют его уязвимость перед лицом нестабильных поставок продовольствия и эпидемий. Если вкратце, то сконцентрированное в одном месте монокультурное сельское хозяйство менее экологически устойчиво, чем рассеянные по территории смешанные посадки. Первые более подвержены болезням, у них меньше природных возможностей противостоять неурожаю, они способствуют размножению вредителей-спутников. Примерно то же самое можно сказать о скученности населения и проживании вместе с домашним скотом и птицей. Мы знаем, что большинство эпидемических болезней — зоонотические, то есть передаются от домашних животных человеку и наоборот; что темпы воспроизводства городского населения на Западе были недостаточными вплоть до середины XIX века; что злаковый рацион первых аграрных обществ в питательном отношении уступал смешанной диете, которую он вытеснил; и наконец, у нас достаточно свидетельств неурожаев, вспышек голода и эпидемий холеры в доколониальной Юго-Восточной Азии. Хотя несколько умозрительно, но можно предположить, что сама по себе концентрация риса и населения в границах государственных пространств несла в себе серьезные риски.
Третья причина, хотя она и кажется очевидной, — чрезмерная капризность политической системы, в которой король, по крайней мере теоретически, был всемогущ. Нет никаких рациональных причин для разорительного вторжения Водопайи в Сиам сразу после эпидемии голода, для широкомасштабного использования барщины в 1800-х годах, чтобы построить сотни пагод, включая пагоду в Мингуне, которая должна была стать самой большой в мире[240]. Помимо уже перечисленных структурных и экологических причин неустойчивости доколониальных династий, следует назвать также дополнительный фактор — своевольное тираническое правление, которое не было институционально закреплено.
Неудивительно, что рисовые государства были хрупки и недолговечны. Учитывая те демографические, структурные и личные препятствия, с которыми они сталкивались в длительной исторической перспективе, удивительно другое — изредка им все же удавалось просуществовать настолько долго, чтобы сформировать выдающуюся культурную традицию.
Глава 4. Цивилизация и бунтари
— Чем объяснить внезапное смятение и лиц растерянность? И то, что улицы и площади внезапно обезлюдели, что населенье по домам попряталось?
— Тем, что смеркается уже, а варвары не прибыли. И что с границы вестники сообщают: больше нет на свете варваров.
— Но как нам быть, как жить теперь без варваров?
Они казались нам подобьем выхода.
— Еавафис Е. В ожидании варваров, 1914
На самом деле главное — собрать этих людей, которые одновременно и везде, и нигде, в группы; главное — превратить их во что-то, чем можно управлять. Как только мы сможем их контролировать, станут возможны многие вещи, совершенно недоступные нам сегодня, и, может быть, захватив контроля над их телами, мы сможем управлять и их разумом.
— Высказывание французского офицера, Алжир, 1845
Эти люди никогда, не обращали внимания на сельскохозяйственные занятия, и вряд ли можно ожидать от них чего-то подобного до тех пор, пока, они не помещены в резервации… Дока им не предоставлен такого рода кров, их судьба — оставаться недосягаемыми для всех тех влияний, что призваны цивилизовыватъ их, обращать в христианство… [и] делать [из них] полезных членов общества. Дикие индейцы, как дикие лошади, должны быть согнаны в резервации.
Там их можно заставить работать.
— Сотрудник Агентства по делам индейцев — о шошонах, 1865
Создание постоянных поселений, наряду со сбором налогов, — видимо, древнейший вид деятельности государства. Ему всегда сопутствовал цивилизационный дискурс, утверждавший, что ведущие оседлый образ жизни повышают свой культурный и моральный уровень. Риторика эпохи расцвета империализма некритично приписывала таковому способность «цивилизовывать» и «обращать в христианство» кочевых язычников, хотя подобные выражения воспринимаются сегодня либо как устаревшие и провинциальные, либо как эвфемизмы всяческих зверств. Впрочем, если заменить их словами «развитие», «прогресс» и «модернизация», то станет понятно, что проект «цивилизовывания», правда под новой вывеской, вполне себе жив и здоров.
Что удивительно в этом цивилизационном дискурсе, так это то, что он все еще остается в силе. Его устойчивость тем более поразительна в свете доказательств, которые, казалось бы, должны были потрясти самые его основания. Он сохраняется, несмотря на наше нынешнее понимание, что в течение тысячелетий люди постоянно курсировали сквозь полупроницаемую мембрану между «цивилизованностью» и «нецивилизованностью» или «пока-еще-нецивилизованностью». Он выживает, невзирая на то, что в истории всегда были и продолжают существовать общества, в социальном и культурном отношении занимающие промежуточное положение между двумя обозначенными полюсами. Он устоял под давлением массы доказательств осуществления постоянных культурных заимствований и обменов в обоих направлениях. Он сохраняется вопреки факту экономической интеграции, обусловленной той взаимодополняемостью этих двух «состояний», которая формирует из них единое экономическое пространство.
Большая часть реального содержания того, что обозначается словосочетаниями «цивилизованный», «быть ханьцем», «быть настоящим тайцем/бирманцем», исчерпывается превращением в полностью социально интегрированного, подотчетного, платящего налоги подданного государства. Выть «нецивилизованным», соответственно, означает обратное — жить за пределами государства. В основном эта глава посвящена анализу того, как государственные образования создают в ходе своего формирования варварское приграничье «племенных народов», рассматривая его как свою полную противоположность и в то же время позиционируя себя как противоядие от него.
Равнинные государства и высокогорные народы: враждебные близнецы
Легитимация классических государств Юго-Восточной Азии требовала, выражаясь современным языком, «агрессивного маркетинга». Сама идея классического государства, не укладывающаяся в рамки естественного развития первоначальной концепции правления, была, как и идея современного национального государства, в значительной степени культурным и политическим заимствованием. Соединенная с индуизмом концепция вселенской монархии сформировала идеологическую доктрину, призванную подкрепить политические претензии правителя его якобы божественным происхождением, поскольку иначе речь шла о борьбе по сути равных друг другу претендентов на власть. О помощью придворных брахманов амбициозные правители с X по XIV век активно формулировали грандиозные космологические притязания и поглощали местные культы своих отдаленных провинций, инкорпорируя их в лоно имперской религии[241]. Результат несколько походил на то, как в XVIII веке российский царский двор в Санкт-Петербурге подражал манерам, языку, этикету и церемониям французского двора в Версале. Чтобы реализовать подобные претензии, требовалось не только убедительное театрализованное действо, что показал Гирц, но и достаточно населения в центре государства, которое могло бы подкрепить амбиции царского двора рабочей силой и зерном. А это, в свою очередь, требовало создания системы принуждения, состоящей из экспедиций за рабами и несвободного труда. Одним словом, классические государства были не чем иным, как самолегитимирующими политическими структурами. Вероятно, именно по этой причине космологическое бахвальство подобных государств было призвано компенсировать их относительную политическую и военную слабость[242].
Учитывая то обстоятельство, что классические государства создавались посредством собирания множества народов, живших прежде без каких-либо признаков государственности, неудивительно, что большинство признаков «цивилизованности» совпали с особенностями жизни в рисовом государстве: оседлость (в деревнях на равнинах), обработка постоянных полей, предпочтение поливного рисоводства, признание социальной иерархии, на вершине которой находятся короли и священнослужители, исповедание одной из основных религий спасения — буддизма, ислама или, в случае Филиппин, христианства[243]. Также неудивительно, что все эти характеристики в зеркальном отражении, как полная своя противоположность, являются основополагающими чертами горных народов, окружающих рисовое государство, но остающихся недоступными для него.
О точки зрения царского двора, расположенного в центре рисового государства, чем более разреженным воздухом вы дышите, тем менее вы цивилизованы. Не будет преувеличением сказать, что равнины считали уровень цивилизованности функцией высоты над уровнем моря. Соответственно, живущие на вершинах гор считались самыми отсталыми и нецивилизованными; те, чьи поселения располагались на середине склонов, — более культурно развитыми; жители высоких плоскогорий, занимающиеся поливным рисоводством, — опять же более продвинутыми, хотя однозначно уступающими в развитии населению центра равнинного государства; на вершине этой иерархии находятся король и двор, олицетворяющие высший уровень совершенства и цивилизованности.
Сама по себе «горность» — констатация цивилизационной «негодности». Например, многие палаунги в Бирме исповедуют буддизм Тхеравады, одеваются как бирманцы, бегло говорят по-бирмански, но, пока они живут в горах, они не считаются цивилизованными. Современную интерпретацию данной взаимосвязи предложил вьетнамский этнограф Мак Дуронг, автор новаторских и полных сочувствия исследований меньшинств, многие из которых, как он считает, были очень давно вытеснены в горы только потому, что вышли на историческую сцену после захвата вьетнамцами долины. Лежащая в основе его понимания причин, почему эти группы называются Man (спустя столетия данное понятие стало обозначать «дикость»), логика вполне очевидна, что отметила и Патришия Пелли: «Действительно были веские поводы считать жителей горных районов дикарями, и логическое обоснование тому пусть и не высказывалось явно, но лежало на поверхности: цивилизованность можно было оценить географически, прежде всего посредством высотности проживания. Население равнин [этнические вьетнамцы] было абсолютно цивилизованным; проживавшие на средних высотах — частично цивилизованными; жители высокогорий — всё еще дикарями, причем с подъемом в горы степень дикости возрастала»[244]. Чтобы добиться статуса цивилизованного человека, недостаточно было проводить террасирование и создавать поля для поливного рисоводства. Хани в верховьях Красной реки на севере Вьетнама только этим и занимаются, но все равно считаются «дикими» — Man.
Подобное обратное соотношение высотности проживания над уровнем моря и цивилизационного статуса срабатывает и в Таиланде. На протяжении всей своей жизни изучавший народ акха (лингвистически относящийся к хани), уже пожилой Лео Альтинг фон Гойзау отмечал, что акха, как проживающие на «средних высотах», стигматизируются как нецивилизованные, хотя в меньшей степени, чем группы, чьи селения расположены на самых больших высотах: «Эта ситуация структурируется… противоположным иерархии сакдины (sakdina) [системы ранжирования у живущих на равнинах тайцев] способом, поскольку здесь низшие классы проживают выше всех [народы из группы монов-кхеров, например ва, буланги, кхму, хтины и дулонги], а самые высокие социальные позиции географически размещены ниже всех остальных — на равнинах и в долинах»[245].
Лингвистические конструкции в бирманском и китайском языках отражают эту символическую «высотность» равнинных центров цивилизации. Так, чтобы сказать, что человек идет в столичный город или в школу, обычно используют глаголы, дословно обозначающие «подниматься», «взбираться на высоту» или «восходить» (teq). Даже если человек жил на вершине горы, то он все равно «поднимался» в Мандалай. Точно так же тот, кто направлялся в сельские поселения или в горы, «шел вниз» или «спускался» (s’in), даже если речь шла о месте, расположенном на тысячу футов выше столицы. Иными словами, как и в западных контекстах, здесь подъем и спуск никак не коррелировали с высотностью, а определялись исключительно культурными статусными «перепадами»[246].
Не только проживание на больших высотах маркировалось рисовыми государствами как «варварство», но также физическая мобильность и рассеяние. Здесь опять прослеживаются явные параллели с историей средиземноморского мира. Христианские и мусульманские империи считали жителей гор и кочевые народы — именно те группы, которым удавалось ускользать из лап государства, — язычниками и варварами. Сам Мохаммед ясно сказал, что кочевники, принимающие ислам, в качестве обязательного условия их признания мусульманами должны перейти к оседлому образу жизни или поклясться сделать это[247]. Ислам был религией оседлой элиты, поэтому считалось, что кочевник не может быть достойным мусульманином. Бедуины провозглашались «дикарями» и противопоставлялись мекканам как идеальным горожанам. В рамках цивилизационного дискурса арабского мира кочевой статус играл ту же социально-дифференцирующую роль, что и высота над уровнем моря в рисовых государствах.
В Юго-Восточной Азии идея цивилизации в значительной степени также была агроэкологически обоснованной системой кодов. Люди без определенного места жительства, которые постоянно и непредсказуемым образом перемещались в пространстве, выпадали за рамки цивилизованного мира. Цивилизованность сводилась к постоянной «учтенности» государством и производству излишков, которые оно легко присваивало. На Западе, как и в Юго-Восточной Азии, субъекты, по этническим и религиозным характеристикам принадлежавшие доминирующему большинству, но не имевшие постоянного места жительства, социально маркировались: существует множество обозначений бродяг, бездомных, бомжей, босяков. Знаменитое высказывание Аристотеля гласит, что человек по природе своей гражданин государства (polls); те же, кто сознательно отказался быть членом данного сообщества (apolis), по определению не обладают человеческим достоинством[248]. Когда целые группы, например скотоводы, цыгане, подсечно-огневые земледельцы, по собственному выбору вели кочевой или полукочевой образ жизни, они рассматривались как коллективная угроза и массово стигматизировались.
Вьетнамцы, несмотря на разнообразие используемых практик поиска работы и организации поселений, убеждены, что их объединяет некая прародина, куда они обязательно или возможно вернутся[249]. Те, кто подобным исконным местом происхождения похвастаться не может, стигматизируются как «люди четырех сторон света»[250]. Горные народы расширительно трактуются как сообщества бродяг — одновременно жалких, опасных и нецивилизованных. Финансируемые государством кампании «по переводу кочевников на оседлый образ жизни» или «за оседлое земледелие и постоянное место жительства», призванные сократить масштабы кочевого земледелия, переселить жителей горных районов подальше от границ и «научить» их поливному рисоводству, нашли широкий отклик среди вьетнамского населения. Большинству вьетнамцев и чиновников казалось, что они осуществляют благородную попытку ввести отсталых и неотесанных людей в лоно цивилизации.
Бирманцы, куда менее вьетнамцев озабоченные родовыми усыпальницами как таковыми, с тем же страхом и презрением относились к бродягам без определенного места жительства. Их называли lu le lu Iwin, что буквально переводится как «человек, гонимый ветрами» и имеет вариативные трактовки бродяги, босяка или странника, которые объединяет коннотация «человек, тратящий свою жизнь впустую»[251]. Многие горные народы в таком контексте считаются отсталыми, неблагонадежными, бескультурными. Бирманцы, как и китайцы, считали ведущие кочевой образ жизни народы подозрительными с цивилизационной точки зрения. Эти стереотипы сохраняются, и сегодня усложняя жизнь горных народов Бирмы. Так, католический студент из семьи падаунгов-каренов (оба его родителя — выходцы из горных народов) сомневался, следует ли ему бежать от военных репрессий демократического движения 1988 года, понимая, насколько стигматизирован статус скрывающегося бегством в лесах:
Я боялся, что просто-напросто буду заклеймен своими земляками как беглец в джунгли. Олово «джунгли» [taw] все еще несет в себе уничижительный подтекст в речи бирманцев-горожан. Тот, кто укрывался у этнических повстанцев, назывался «ребенком джунглей» [flaw Tea le], что обозначало примитивность, анархию, насилие и болезни, а также отталкивающую близость с дикими животными, к которой бирманцы испытывали отвращение. Я всегда был до крайности болезненно чувствителен к возможности восприятия меня как части примитивного племени, и большинство моих желаний и амбиций в Таунгу и Мандалае были связаны со стремлением сбежать в цивилизацию)[252].
Генерал династии Цин Ортай, который считал горные народы провинции Юньнань «варварскими кочевниками, полной противоположностью идеалам цивилизации», не только был категоричен, но и, по сути, сформулировал идею, под которой могли бы подписаться правители всех рисовых государств[253].
Для китайских, бирманских и сиамских государств ряд жизненных практик и необходимых им агроэкологических ниш был безнадежно и неотвратимо варварским. Охота и собирательство, как и подсечно-огневое земледелие, с неизбежностью предполагали жизнь в лесах[254], что само по себе было за гранью морально допустимого поведения. Китайский текст XVII века описывает народ лаху, проживавший в провинции Юньнань, как «людей гор, лесов и водных потоков»[255]. Утверждалось, что они едят только сырую пищу и не хоронят мертвых, а потому приравнивались к обезьянам. Совершенно исключая возможность того, что, как считает Энтони Уолкер, лаху стали горными подсечно-огневыми земледельцами, сбежав из долин, их считали исконными, коренными жителями гор. В качестве доказательства их примитивного, ур-состояния приводился список обычаев и жизненных практик — типы поселений, одежды (или ее отсутствия), обуви (или ее отсутствия), рацион, погребальные ритуалы и манера поведения, — которые противоречили всем идеалам конфуцианской цивилизации.
У читателя ряда отчетов ханьских чиновников о многочисленных и непонятных горных народах на юго-западной границе империи, вероятно, возникнет два впечатления. Первое: перед ним своеобразный этнографический аналог «путеводителя по птицам» (лаху носят такие-то и такие цвета, проживают в таких-то и таких местах, выживают за счет того-то и того-то), позволяющий должностным лицам опознавать, так сказать, пролетающих мимо птиц. Второе впечатление заключается в том, что все горные народы расставлены в той эволюционной и цивилизационной последовательности, мерилом которой выступают идеалы ханьской цивилизации. Горные сообщества проранжированы от самых «незрелых» (примитивных) до самых цивилизованных, и мы видим следующую последовательность: «почти ханьцы», «на-пути-трансформации-в-ханьцев», «могут-со-временем-стать-ханьцами-если-захотят (и если-мы-пожелаем-этого!)» и наконец категория (например, для самых «диких лаху»)
«нецивилизованных», которая, конечно, обозначала эквивалент состояния «по-сути-не-человек».
Редкое название проживавших на периферии государственного контроля групп — подсечно-огневых земледельцев, горных народов, жителей лесных районов и даже крестьян в сельской глубинке — не содержало в себе стигматизирующих коннотаций. В бирманском языке сельские жители отдаленных от культурных центров районов называются taw (ha (eoco осо:), что дословно переводится как «лесной обитатель» и содержит коннотации неотесанного, дикого и грубого человека[256].
Неизбежная взаимосвязь равнинных государств с оседлым зерновым земледелием и, следовательно, с квазипостоянным социальным порядком, включающим в себя аристократов и простолюдинов и репрезентирующим «цивилизацию», имела довольно иронические последствия. Те, кто принимал решение оставить это царство неравенства и налогов и поселиться в горах, по определению покидали сферу морали и цивилизованности, а потому высотность проживания стала выступать кодом, индикатором «примитивности»[257]. Кроме того, поскольку поливное рисоводство серьезно изменяет ландшафт, тогда как земледелие в горах визуально меньше бросается в глаза, горные народы стали ассоциироваться с природой как противостоящей культуре. Это обстоятельство породило следующее ложное, но общепринятое противопоставление: цивилизация меняет окружающий мир, а варвары живут в нем, не предпринимая никаких попыток его изменить.
Для тайских и бирманских государств исповедание буддизма Тхеравады было необходимым, но недостаточным условием допуска в волшебное лоно цивилизации. Принципиальное значение основополагающей религии спасения, как и в случае с исламом в малайском мире, по-видимому, кардинально отличает данные общества от ханьской цивилизации, где религиозное исповедание не играло столь важной роли[258]. В качестве маркеров уровня цивилизационного развития даже партийными этнографами, классифицирующими «племена» в провинциях Гуйчжоу и Юньнань в 1950-х годах, использовались прежде всего ханьские технологии и обычаи. Они засаживали орошаемые поля? Они вспахивали землю и использовали сельскохозяйственные орудия? Они вели оседлый образ жизни в постоянных поселениях?
Они могли говорить и писать по-китайски? До 1948 года использовался также дополнительный маркер — строительство храмов ханьским божествам, особенно богу земледелия[259]. Даже сегодня широко распространенные ханьские характеристики «меньшинств» идентичны базовым маркерам «цивилизации»[260].
Несмотря на множество внешних различий, религиозный критерий цивилизованности в тайской и бирманской культуре был тесно связан с технологиями и обычаями поливного рисоводства. Если жестко придерживаться религиозной терминологии, то исповедание буддизма Тхеравады не требовало (хотя и могло обусловить) значительных изменений в ритуалах; добуддийские анимистические практики (поклонение и приношение жертв духам-натам — not — в Бирме и духам фи/пхи — phi — в Сиаме) легко адаптировались, даже доктринально, к синкретическому буддизму. Однако последний предполагал смену религиозной и этнической идентичности. Как отмечает Ричард О’Коннор в отношении Таиланда, «жители материка связывали религию с земледелием, земледелие — с ритуалами, ритуалы — с этнической идентичностью. Когда горные крестьяне, например карены, лава или качины, заимствовали у жителей равнин технологию поливного рисоводства, они сталкивались с тем, что для ее надлежащего использования необходимы тайские ритуалы. Фактически выбор какого-то типа сельскохозяйственных практик всегда тянул за собой некую сложную этническую целостность, и множество подобных агрокультурных комплексов конкурировали друг с другом. Прагматический переход от одного из них к другому, таким образом, начинался с перестройки ритуалов, которая в конце концов могла привести к смене этнической идентичности»[261]. О’Коннор пишет о «смене этнической идентичности», хотя с тем же успехом мог упомянуть о «смене религиозной идентичности», поскольку в данном случае они неразрывно связаны. Иными словами, здесь, как и в Китае, мы сталкиваемся с неким цивилизационным парадоксом. Само по себе принятие буддизма, если оно сочеталось с атрибутами «горности», например с кочевым земледелием и постоянной территориальной мобильностью, не было убедительным свидетельством цивилизованности, что мы увидели на примере палаунгов, хотя считалось шагом в правильном направлении. Этот шаг не только делал высоко вероятным окончательное религиозное обращение, но и исторически ассоциировался с превращением в тайца или бирманца, то есть в подданного рисового государства. Для жителей равнин, чтобы стать полностью цивилизованным, человек должен был превратиться в ханьца, тайца или бирманца, что, в свою очередь, по определению предполагало принятие подданства соответствующего государства[262]. Жизнь за пределами государства, как будет показано далее, кодифицировалась как «нецивилизованное состояние».
Экономическая потребность в варварах
Равнинные государства, большие и малые, хотя и смотрели презрительно сверху вниз на своих высокогорных соседей, были связаны с ними прочнейшими узами экономической зависимости. Их неразрывная взаимосвязь была обусловлена комплементарностью занимаемых агроэкологических ниш. Экономические партнеры и нередко политические союзники, жители равнин и гор, государственные центры и их периферия предоставляли друг другу крайне важные и необходимые товары и услуги, формируя тем самым мощную и взаимовыгодную систему обменов. Причем равнинные государства в большей степени зависели от продуктов и особенно рабочей силы горных народов, чем наоборот. Однако каждый участник этой системы, безусловно, экономически пострадал бы в случае утраты своего торгового партнера.
Особенности данной экономической взаимозависимости наиболее тщательно изучены в малайском мире, где она обычно принимала форму торговых обменов между жителями верховьев (huhi) и низовьев (hilir) рек. Подобные системы обменов, причем многие их них очень древние, сформировались благодаря тому, что агроэкономическое расположение каждой зоны в бассейне реки позволяет производить продукты, необходимые другой. В малайском мире в низовьях реки, в долине, как уже было показано, государственный центр обычно размещался в устье или у слияния двух рек. Такое расположение, подобно поселению, контролирующему важный горный перевал на торговом пути, обеспечивает что-то типа естественной монополии, позволяя диктовать условия торговли на всем протяжении реки, начиная с данной стратегически важной точки. Центр равнинного государства выступает в роли перевалочного пункта, обменивая свои и зарубежные товары на доставленные вниз по течению товары и лесные продукты, произведенные в верховьях реки[263].
Несмотря на свое позиционное преимущество, равнинные государства отнюдь не обладали властью диктовать свои условия экономических обменов. Высоко мобильные сообщества, особенно в верховьях рек, обычно размещались достаточно близко к альтернативным водным путям, поэтому, если считали это необходимым, могли переместить свою торговлю в иной перевалочный пункт в близлежащей речной системе. Но, даже не обладая подобной возможностью, живущие в верховьях рек группы крайне редко столь сильно зависели от товаров равнинных государств, что не могли полностью отказаться от торговли в низовьях рек, если считали ее условия невыгодными для себя с политической или экономической точек зрения. И правители расположенных на речных перевалочных пунктах государств не могли посредством вооруженного насилия навязать свои условия непокорным жителям периферийных районов. Пространственное рассеяние и территориальная мобильность населения верховий рек делали его практически недосягаемым для карательных экспедиций, не говоря уже о систематическом принуждении. В результате крупные портовые города соперничали друг с другом в стремлении обрести союзников на периферии и тем самым получить гарантируемую торговлей с ними прибыль. Не располагая инструментами давления, равнинные государства были вынуждены добиваться лояльности, перераспределяя выгоды от торговли в форме престижных товаров, драгоценностей и щедрых подарков, которые получившие их лидеры сообществ в верховьях рек, в свою очередь, могли перераспределять среди своих сторонников, чтобы обеспечивать их преданность и укреплять торговлю.
В материковой части Юго-Восточной Азии, особенно среди небольших государств, расположенных непосредственно в горных районах или поблизости, преобладал схожий симбиоз горных и равнинных сообществ, хотя его вряд ли можно было бы четко локализовать в пределах одного-единственного водного пути. Не будет преувеличением сказать, что процветание подобных мелких царств в значительной степени зависело от их способности привлекать на свои рынки товары горных народов, которые численно нередко превосходили население государственных центров. Любой отражающий реалии перечень товаров, поставляемых с гор (для торговли, обмена, выплат долгов и дани), потребовал бы множества страниц. Пожалуй, я ограничусь лишь упоминанием их чрезвычайного разнообразия и подчеркну тот факт, что перечень товаров менялся со временем, иногда очень значительно, отражая трансформации сухопутных (в Китае) и морских торговых путей и потребностей в конкретных товарах.
Горные народы, по крайней мере с IX века, стали прочесывать горные районы в поисках продуктов, которые можно было выгодно продать на рынках равнинных и прибрежных городов. Многие из этих товаров стали частью широкомасштабной международной торговли предметами роскоши. Среди тех природных продуктов, что можно было собрать в горах, следует назвать редкие и/или ароматические сорта древесины (например, орлиное/алойное дерево, сандал, цезальпиния-саппан, камфорное дерево), лекарственные препараты (рог носорога, безоаровые камни, высушенные органы лесных животных, алоэ), различные смолы (тунговое масло), латексы, или млечный сок каучуконосных лесных деревьев (гуттаперча), а также перья редкой птицы-носорога, съедобные птичьи гнезда, мед, пчелиный воск, чай, табак, опий и перец. Стоимость единицы веса и объема всех этих товаров была очень высока, а потому они оправдывали все усилия по доставке, даже если их приходилось нести на рынок пешком по горным тропам. В течение чрезмерно длительного периода высочайшего спроса на перец с 1450 по 1650 год, когда стоимость этой специи превышала цену всех других товаров на международном рынке, за исключением золота и серебра, молодой человек, принесший на прибрежный рынок на голове груз горошин перца, мог мгновенно заработать целое состояние. Ценные металлы и драгоценные камни (а в XX веке еще и опий) — еще более показательный пример идеального сочетания высокой стоимости и легкости доставки. Благодаря исключительной физической мобильности жителей гор подобные товары легко перемещались на другой рынок или в другое государство, если их потенциальных продавцов что-то не устраивало.
Другие товары горных районов были более громоздкими и менее ценными, их невозможно было доставлять на большие расстояния, если не было легкодоступного водного пути: это ротанг, бамбук, брус и бревна (их можно было переправлять вплавь), крупный рогатый скот, шкуры, хлопок, горные фрукты, а также такие важнейшие продукты, как горный (суходольный) рис, гречиха, кукуруза, картофель и сладкий картофель (последние три были завезены из Нового Света). Многие из перечисленных товаров можно оставить на поле или хранить длительное время, а потому продавцы нередко придерживали их, ожидая более выгодных условий продажи.
Как ни удивительно, но благосостояние даже самых крупных королевств доколониальной Юго-Восточной Азии в значительной степени зависело от завозимых из горных районов товаров. Первая тайская торговая делегация Рамы I в Пекин в 1784 году, призванная ослепить китайцев своим великолепием, привезла предметы роскоши, почти все из которых были предоставлены проживавшими в горах каренами: слонов и их бивни, орлиное/алойное дерево, эбеновое дерево, рога носорога, дикий кардамон, длинный перец, янтарь, древесину сандала, перья птицы-носорога и зимородка, рубины, сапфиры, акацию катеху, гуммигут (смолистая камедь), древесину цезальпинии-саппана, даммаровую смолу, семена дерева крабао и множество специй[264]. Доколониальный экспорт Камбоджи также был заложником горного народа зярай. Большую часть товаров, которые равнинные государства продавали за рубеж, «составляли лесные продукты с высокогорий, о чем можно узнать из вьетнамских и камбоджийских летописей и документов, а также путевых заметок китайских и европейских авторов»[265]. Небольшие шанские государства зависели от горных народов, окружавших их, поскольку постоянные поставки горных продуктов были необходимы и для благополучной жизни в долинах, и как важный источник экспорта. Взирая сегодня на изобилие товаров на работающих пять дней в неделю рынках шанских государств, невозможно не осознать, насколько эти государства с точки зрения своего рациона, строительных материалов, поголовья сельскохозяйственных животных и торговли с внешним миром, то есть процветания в целом, зависели от объемов торговли со своей периферией. Описывая горные народы кая и шан, Ф. К. Лиман утверждает, что основными задачами любого шанского правителя были контроль за торговлей и получение прибыли[266]. И шан, и кая извлекали массу сравнительных преимуществ из доставшихся им экологических ниш, однако очевидно, что шанские государства столь же зависели от продуктов гор, как жившие здесь народы — от продуктов долин.
Рынки равнинных государств обеспечивали жителей горных районов необходимыми им продуктами, недоступными в горах. Прежде всего речь идет о соли, сушеной рыбе и скобяных изделиях, однако керамика, гончарные и фарфоровые изделия, ткани, нитки и иглы, проволока, стальной инвентарь и оружие, одеяла, спички и керосин тоже были крайне важными товарами, за которыми настойчиво охотились горные торговцы[267]. Если жители гор считали выгодными условия обменов, то оживленная торговля связывала воедино горную и равнинную экономику, чему способствовало множество посредников — торговцы, коробейники, комиссионеры, кредиторы, спекулянты, не говоря уже о различных формах подношений. Если же жителей гор не устраивали торговые отношения с равнинными государствами, то у последних не было никакой возможности заставить их поставлять свои продукты на городские рынки. Равнинные государства, особенно самые мелкие из них, будучи ограничены географически и потому серьезно завися от торговли с горными районами, больше всего опасались предательства торговых партнеров с высокогорий.
Представленные выше перечни товаров не содержат в себе принципиально важного горного «продукта», определявшего жизнеспособность государственных центров на равнинах, — населения. Ядро поливного рисоводства и концентрации рабочей силы в тайских и бирманских центрах государственной власти в длительной исторической перспективе ковалось посредством поглощения и ассимиляции горных народов, причем соотношение принуждения и свободного выбора здесь могло значимо варьировать. Самым ценным для равнинных государств горным «продуктом» были люди. Если политические центры не могли привлечь их преимуществами торговли и культурными возможностями, то пытались захватить, как уже было показано, в ходе экспедиций за рабами и войн. Иными словами, из всех тех товаров, в коих горные сообщества могли отказать равнинам, козырем была рабочая сила. Именно бегство подданных из политических центров от тягот государственной жизни и миграция горных народов туда, где был невозможен их легкий захват, оставались ахиллесовой пятой равнинных государств.
В благоприятной ситуации симбиоз горных и равнинных сообществ мог быть настолько устойчивым и взаимовыгодным, что казалось, будто два «народа» слились в неразрывное целое. Экономическая взаимозависимость нередко обретала форму политических союзов, что было характерной чертой малайского мира, где большинство торговых портов, как больших, так и малых, были связаны с безгосударственными народами — «горными» группами или сообществами мореплавателей, поставлявшими большую часть товаров, от торговли которыми зависело благополучие малайского государства. Хотя эти сообщества обычно не считались собственно «малайскими», поскольку не исповедовали ислам и не были прямыми подданными малайского раджи, несомненно, основная часть малайцев произошла именно от них. К тому же предлагавшиеся городскими торговыми центрами коммерческие выгоды от продажи продуктов собирательства способствовали притоку на периферию и в морские районы населения. Большая часть жителей периферии перебралась сюда или осталась здесь по собственному желанию, руководствуясь экономическими мотивами получения прибыли от сбора продуктов на продажу, будучи привлечена возможностями политической независимости или же тем и другим одновременно. Множество свидетельств говорит о том, что население постоянно перемещалось в обе стороны между государственными центрами и периферией, а потому следует считать коммерчески выгодное собирательство «вторичной адаптацией» (а не неким примитивным состоянием). О концептуальной точки зрения корректно рассматривать население верховий рек как аналог горной периферии в сложной социально-экономической системе[268]. Но равнинные государства все равно считали их совершенно иными, менее цивилизованными и живущими вне лона религии.
Подобные союзнические пары были и остаются широко распространенными в материковой части Юго-Восточной Азии. Так, пво-карены в Нижней Бирме поддерживали тесные связи с монскими рисовыми государствами. Живя среди монов, но в основном будучи сосредоточены в лесных районах в верховьях рек, пво-карены вместе с монами сформировали успешную модель экономического обмена. Судя по хроникам, моны воспринимали себя в большей степени не как четко маркированную этническую группу, а скорее как сообщество, для обычаев и жизненных практик которого характерен постепенный переход от занятий исключительно поливным рисоводством на одном полюсе условной шкалы до обеспечения себя только подсечно-огневым земледелием и собирательством — на другом[269]. Практически все тайские/шанские королевства породили симбиоз рисового государственного центра с примыкающими горными районами, с которыми он торговал, откуда черпал свое население и где нередко находил союзников. Подобные альянсы, если таковые торжественно фиксировались на бумаге (неизменные документальные свидетельства жизни равнинных государств), всегда выглядели как отношения данника и вассала, где горный союзник был младшим партнером. На деле же горные народы нередко одерживали верх, по сути, вынуждая равнинные государственные центры выплачивать им дань или «охранные платежи». Если же царский двор определял правила игры, как в случае с вьетнамцами и зярай, горная периферия все равно играла принципиально важную роль в процветании равнинного государства, которое признавало значение ее ритуалов в умилостивлении духов природы[270].
Зависимость мелких равнинных государств от горной торговли и лесного собирательства была настолько велика, что порой оказывалась сдерживающим фактором по отношению к попыткам заставить горные народы воспринять иную культуру. Государства опасались, что если горы примут религию долин, позаимствуют тамошнюю манеру одеваться и оседлый образ жизни и начнут выращивать поливной рис, то поневоле перестанут играть важнейшую, пусть и стигматизированную, роль поставщика горных продуктов. В этом смысле культурные различия, наряду с экономической специализацией, которой они способствовали, были основой сравнительных статусных преимуществ. Хотя равнинные государства промышляли рабовладельческими набегами на горы, они обладали и ярко выраженной мотивацией следить за тем, чтобы горная торговая ниша, от которой они так сильно зависели, никогда не пустовала[271].
Изобретение варварства
Если семиотика чему-то нас и научила, то тому, что все лингвистические обозначения относительны. Их следует «обдумывать» и уж тем более понимать только с учетом всевозможных имплицитных исключений и противоположностей[272]. Именно так обстоит дело с понятиями «цивилизованный» и «варварский». Как показал Оуэн Латтимор, социальное производство «варваров» в классическом Китае обусловливалось развитием специализированных центров поливного рисоводства в долинах и становлением связанных с ними государственных структур. Ирригация была особенно «продуктивна» на лёссовых грунтах государственных центров древнего Китая, и этот агрополитический комплекс с высокой концентрацией производства и населения, а потому и военной мощи, расширялся все дальше и дальше, как только обнаруживал подходящие для себя территории. В процессе экспансии он поглощал одни соседние сообщества и отвергал другие — последние перемещались на высокогорья, в леса, на болота, в джунгли и сохраняли свои недифференцированные, экстенсивные и рассеянные форматы жизненных практик. Одним словом, расцвет основанных на поливном рисоводстве государственных центров автоматически создавал новые демографические, экологические и политические границы. Поскольку рисовое государство все чаще кодифицировало себя как «ханьско-китайскую» уникальную культуру и цивилизацию, всех тех, кто не стал его частью или сознательно отказался идентифицировать себя с ним, оно классифицировало как «варваров». Тех из них, что остались жить на территориях, которые китайское государство считало своими, оно называло «внутренними» варварами; те, кто «предпочел отделиться от древней социальной матрицы, чтобы пополнить ряды скотоводческих кочевых сообществ степей», стали «внешними» варварами. Примерно к VI веку «китайцы заполонили равнины и крупные долины, а варварам остались горные районы и небольшие долины». На юго-западе Китая, в той его части, что мы называем Вомией, происходили процессы, аналогичные обозначенным Латтимором: «Влияние древних высокоразвитых цивилизаций Китая и Индии широко распространилось на равнинах, где было сосредоточено сельское хозяйство и сложились крупные города, но не могло преодолеть большие высоты над уровнем моря»[273].
То, что Латтимор называет китайской моделью концентрации сельскохозяйственного производства и государственного строительства, в качестве необходимого условия требовало создания экологических и демографических границ. Со временем рубежи трансформировались в жесткие цивилизационные и этнические маркеры там, где прежде не наблюдалось четких демаркационных линий. У раннекитайского государства было достаточно стратегических причин маркировать новые водоразделы предельно жестким цивилизационным дискурсом, а иногда и посредством физических преград, как, например, в случае с Великой Китайской стеной и стенами, преграждающими путь к мяо, на юго-западе страны. Очень легко забыть о том, что примерно до 1700-х годов, а в приграничных районах — и позже, китайское государство сталкивалось с классической проблемой любого государственного строительства в Юго-Восточной Азии: сохранения населения. Стены и риторика были призваны в той же мере остановить «бегство к варварам» уклоняющегося от уплаты налогов китайского крестьянства, в какой запугать варваров и удержать их на расстоянии[274].
Процесс, посредством которого государственное строительство в долинах порождало цивилизационные границы, впоследствии этнически кодировавшиеся, не был прерогативой Ханьской империи. Сиамские, яванские, вьетнамские, бирманские и малайские равнинные государства демонстрировали те же формы становления государственности, хотя их культурное содержание было иным. В работе о народе мьен (яо), живущем в северном Таиланде, Йонссон утверждает, что социальное конструирование категории «горные народы» базируется на контроле, установленном государством над сельским хозяйством и населением долин. Рассматривая принятые в Сиаме индийские формы правления, особенно в Харипунджайе (северный Таиланд, с YII по X век), Йонссон отмечает, что их космологические вселенские притязания породили варварскую периферию: «Создание государственных структур предполагает захват земель в долинах для ведения интенсивного сельского хозяйства, которое, будучи встроено в иерархическую структуру во главе с царским двором, региональными городами и крестьянскими деревнями, формирует некую универсальную цивилизационную модель. Частично она конструируется на основе того, что в нее не входит: это лесная глушь, вернее, люди, которые живут в данной области мирозданья и воспринимаются теми, кто живет в лоне цивилизации, почти как животные»[275]. Так, расчищенная под рисовые поля земля становилась фундаментом развития яванских государств и их культуры, тогда как нерасчищенные лесные территории и их население ассоциировались с нецивилизованным варварским приграничьем[276]. Оранг-асли (обычно переводится как «коренные жители») Малайи были «созданы» исключительно в противовес «малайцам». Как полагают Джеффри Веньямин и Синтия Чу, новым элементом стал ислам, который, собственно, и создал «племена»: «Прежде не было никаких законных оснований определять „малайцев“ как мусульман, и многие немусульмане считались такими же „малайцами“, как и мусульмане… Однако трактовки малайскости с 1874 года фактически превратили все немусульманские народы, буквально за ночь, в „аборигенов“, коими они считаются и поныне»[277].
Все классические государства Юго-Восточной Азии придумывали себе варварскую периферию вне зоны своей досягаемости — в горах, лесах и болотах. Обратимся теперь к противоречию между потребностью — одновременно семиотической и экономической — в варварском приграничье и постоянным стремлением вселенских космологии поглотить и трансформировать его.
Адаптация чужой атрибутики: все этапы пути
Первые королевские дворы в Камбодже и Яве, а позже — в Бирме и Сиаме с ритуальной и космологической точки зрения были, по сути, импортом модели роскоши с Индийского субконтинента. Используя обряды, представленные индийскими купцами и пришедшими вслед за ними придворными брахманами, небольшие царские дворы равнинных государств стали активно использовать ритуалы в целях воздействия на потенциальных соперников. В ходе названной Оливером Уолтерсом «самоиндуинизации» местные правители вводили брахманический этикет и традиции. Санскритские имена и обозначения мест были заменены на местные аналоги. Власть монархов была освящена в ходе магических брахманических ритуалов, правители получили мифические генеалогии, в которых их родословная прослеживалась вплоть до божественного происхождения. Начали использоваться индийская иконография и эпос, были введены сложные церемониалы придворной жизни Южной Индии[278]. Впрочем, санскритизация не затронула культурные основания равнинных государств и не вышла за пределы окрестностей царского двора. По мнению Жоржа Оедэса, это была «придающая внешний лоск» «аристократическая религия, не предназначенная для масс»[279]. В том же ключе Уолтере обозначает санскритскую пышность и цветистые выражения в первых королевских текстах, как и китайские — во вьетнамских, как «декоративные элементы», призванные придать дух торжественности и учености практикам, которые без них выглядят повседневными[280]. Иная интерпретация представлена М. К. Риклефсом: он полагает, что идеи о неделимости царства конституировали дополнительный идеологический противовес, который я ранее назвал космологическим бахвальством, той реальности, где власть неизбежно была фрагментирована[281].
Хотя подобная мимикрия вряд ли существенно улучшила повседневный властный контроль царских дворов равнинных государств, но она оказала важное влияние на характер отношений гор и долин. Прежде всего, она обозначила связь равнинных государств и их монархических правителей с универсализирующим, экуменическим и харизматическим центром. Ровно так же как римляне использовали греческий язык, первый французский королевский двор — латынь, русская аристократия и царский двор — французский, а вьетнамский королевский двор — китайскую систему письменности и конфуцианство, введение санскритских форм свидетельствовало о претензии на вхождение в лоно транеэтничной, трансрегиональной и поистине трансисторичной цивилизации[282]. Даже когда в конце I тысячелетия н. э. появились первые местные системы письменности, они сохранили санскритские декоративные элементы, и космополитическая классика санскритского и палийского миров была переведена прежде буддийского канона. В отличие от форм придворной культуры (как и в южной Индии), которые в значительной степени были результатом развития и усовершенствования ритуалов и верований, прежде существовавших в рамках местной народной традиции, «индийские» королевские дворы Юго-Восточной Азии были целенаправленно смоделированы по образцу внешних универсальных центров.
Элита равнинных государств, резко возвысившись с помощью своеобразного ритуального гелия, заимствованного у южной Индии, оставила далеко внизу своих простолюдинов с их земными устремлениями и периферию. Как удачно обозначил ситуацию Уолтере, «низкий статус периферии в миропорядке определялся теми, кто поставил себя в центр цивилизованного „индуистского“ общества»[283].
Таким образом, санскритизация обусловила изобретение варварства теми, кто еще совсем недавно сам был… «варваром». Кхмерская культура, исконно связанная с лесными нагорьями, сразу после формирования индийских государственных центров стала настойчиво утверждать идею «полной противоположности дикости и культуры, темных, пугающих зарослей и заселенного открытого пространства, которая формирует лейтмотив кхмерского культурного самосознания»[284]. Культурный разрыв между изысканным царским двором, расположенным в центре государства, с одной стороны, и грубой, некультурной зоной лесов и гор за его пределами — с другой, стал настолько большим, что цивилизация, по сути, превратилась, как метко выразился Дэвид Чандлер, в «искусство оставаться вне леса»[285].
Схожий процесс формирования символики и легализации иерархии по примеру внешних объектов можно наблюдать в небольших государственных образованиях и даже в горах. Уже к 1300 году на каждой прибрежной равнине сформировалось свое миниатюрное королевство, основанное на индийских моделях верховной власти, причем той же формуле скрупулезно следовали и мелкие вожди, у которых были куда меньшие властные притязания[286]. Можно даже сказать, что величавая ритуальная атрибутика была более необходима в горах, чем в долинах. Будучи заселены в основном рассеянными, мобильными группами подсечно-огневых земледельцев, которые благодаря общей собственности почти не следовали принципу наследования статусных различий, горные районы практически не сформировали местные традиции, которые легитимировали бы властные притязания выше уровня конкретной деревни. Безусловно, деревни создавали союзы в торговых и военных целях, но это были очень ограниченные по своим размерам и возможностям объединения равных партнеров, а не результат чьих-то постоянных претензий на власть. Если модели верховной власти сразу над несколькими деревнями когда-либо и применялись, то всегда заимствовались у равнинных царских дворов, копирующих индийские образцы, или же воспроизводили имперский порядок хань-китайского государства, расположенного к северу. Горным сообществам были свойственны формы власти, основанные на харизматическом, личном господстве, а не универсализирующие, копирующие индийские модели верховной власти проекты государственного строительства, отражающие попытку создать постоянные властные институции и превратить лидера с его последователями соответственно в правителя и подданных.
Модели индийских и китайских государств долго были в ходу в горах. Они проникали сюда из равнинных государств в странном фрагментированном виде и всплывали в горных сообществах в форме определенных регалий, мифических привилегий, царственных одежд, титулов, церемониалов, генеалогических притязаний и культовой архитектуры. Привлекательность заимствованной у индийских и китайских государств идеи верховной власти, видимо, обусловлена двумя причинами. Первая и наиболее очевидная состоит в том, что практически только эта идея способна обосновать, причем в культурологическом ключе, претензии успешного и амбициозного вождя горного сообщества и позволить ему трансформировать свою власть первого среди равных в небольшое государство с монархией, аристократией и простым народом. Подобные попытки, как убедительно показал Э. Р. Лич, обычно наталкивались на бегство или восстания тех, кто страшился постоянного подчинения. Однако иногда вождь с возвышенности, даже весьма номинальный, играл полезную роль посредника в переговорах с равнинными державами, согласовывая условия выплаты дани и торговли или же защищая горные районы от набегов работорговцев из долин. Успешные дипломатические усилия подобного рода могли иметь решающее значение в конкурентной борьбе горных народов[287].
Для равнинных государств — в доколониальную, колониальную и постколониальную эпоху — стабильные структуры политической власти в горах были исключительно желательны и выгодны. Они создавали необходимую долинам точку опоры для непрямого управления, обозначали партнеров для переговоров и тех, на кого в случае необходимости можно было возложить ответственность (или взять в заложники). По этой причине правители государств в долинах, включая колонизаторов, придумали «фетиш горного вождя»: находили вождей даже там, где их никогда не было, преувеличивали масштабы их власти, если вожди все же обнаруживались, и прилагали максимум усилий, чтобы «создавать» вождей и племена в удобном для себя формате единиц территориального управления. Потребность государств в вождях в горных районах и властные амбиции местных лидеров часто совпадали, что позволяло запускать здесь подобие процессов государственного строительства, хотя их результаты обычно были недолговечны. У местных вождей находилась масса причин жаждать символов, регалий и титулов мощных держав, благодаря которым они могли внушать благоговейный ужас своим соперникам и получать монопольные права на выгодную торговлю и сбор дани. Впрочем, признание имперской харизмы равнинной державы прекрасно сочеталось с невхождением в зону ее административного контроля и с презрением к подданным подобных политических структур.
Преклонение перед государственной атрибутикой в горах было просто поразительным. В ходе военной кампании в шанских государствах в 1890-х годах Дж. Джордж Скотт столкнулся с несколькими «вождями» ва, которые пришли с данью. Они стали уговаривать Скотта, предположительно своего союзника, присоединиться к ним в разграблении нескольких близлежащих шанских деревень. Получив отказ, они «начали шумно требовать предоставить им явные опознавательные знаки того, что они являлись британскими подданными… Я дал каждому из них полоску бумаги, на которой было написано название района и стояла моя подпись на печати с профилем королевы Анны… Они были весьма впечатлены и отправились срезать бамбук, чтобы сохранить эти полоски… Они рассказали мне, что в течение последних десяти-двенадцати лет Монглем постепенно захватывал их территории»[288]. В мятежных горах Скотт искал подчинения и дани, а «вожди» ва — союзника, который служил бы их политическим целям. Схожие театрализованные обмены данью и союзнической поддержкой наблюдал и Лич на Шанском нагорье, когда эта территория в 1836 году все еще номинально находилась под бирманским правлением. Бирманский чиновник был принят с почестями, была приготовлена ритуальная пища, разыграно театрализованное действо, подтверждающее единство десяти присутствовавших качинских и шанских вождей, признана верховная власть королевства Ава. Однако Лич отмечает, что несколько вождей, прибывших на встречу, находились в состоянии войны друг с другом, а потому призывает воспринимать все происходящее как церемониал, фиксирующий «эффект государства»:
Мой пример на самом деле показывает, что бирмакцы, шакы и качины, живущие в долине Хукаун… владеют языком, ритуальной символики; все они знают, как заставить понимать себя, правильно с помощью общего «языка». Это не означает, что сказанное на этом языке истинно с политической точки зрения. Высказывания посредством этой ритуальной символики подразумевают, что возможно некое идеальное, стабильное шанское государство, во главе которого стоит saohpa /правитель] Могаунга, и все качинские и шанские вожди долины Хукауна — его верные вассалы. У нас нет реальных доказательств того, что некий конкретный saohpa Могаунга когда-либо обладал подобной властью; нам доподлинно известно, что, когда происходил этот конкретный ритуал, вот уже примерно восемьдесят лет в Могаунге не было подлинного правителя. В основе ритуала лежала не политическая структура реального государства, а некоторая условная, «как будто бы» его идеальная модель[289].
«Как будто бы» идеальная структура была встроена в архитектуру реального и «предполагаемого» государства в горах. Шанские мелкие государства, со своим немногочисленным населением в центре поливного рисоводства, исповедующим тот же буддизм Тхеравады, что и соседние сиамские и бирманские королевства, копировали и их политическую модель. Посетив шанский дворец [на шанском языке haw] в Пиндайе, Морис Коллис отметил, что это была точная миниатюрная копия бирманской королевской столицы: «Деревянное двухэтажное здание, с колонным залом на первом этаже, над которым возвышалась башенка, или ppa-that, пять небольших сводов, соединенных вместе поверх друг друга и увенчанных позолоченным шпилем». Коллис утверждал, что «это был в миниатюре стиль дворца в Мандалае»[290]. Та же мимикрия характеризовала монастырскую архитектуру, погребальные процессии и регалии. Чем незначительнее было королевство, тем грубее и миниатюрнее имитация, вплоть до того, что самые мелкие качинские вожди (duwa), чьи дворцы были столь же крошечными, как и их реальная карликовая власть, стремились править в шанском стиле. В этой связи Лич полагает, что качины считали шанов не столько иной этнической группой, сколько носителями иерархической государственной традиции — теми, кто в подходящих условиях сможет ее сымитировать[291]. Именно у шанов качины заимствовали государственные «эффекты».
Кая, народ группы каренов на Шанском нагорье, в ходе отстаивания независимости скопировали свою политическую систему с моделей, которые считали шанскими и бирманскими. Поскольку кая в общем и целом не были буддистами, они не подражали элементам Тхеравады. Лиман отмечает, что все лидеры кая, будь то узурпаторы, мятежники, простые крестьяне или милленаристские пророки, придерживались государственной атрибутики, заимствованной у шанских королевских дворов в долинах: титулов, убранства, выдуманных царских генеалогий и архитектуры[292]. Так или иначе, но все подобные лидеры обосновывали свои претензии на власть ее якобы происхождением от того самого, «как будто бы» идеального единого бирманского государства. Эта «субординация», которая в реальности могла сочетаться с активным сопротивлением, фиксировала идиоматический характер данного символизма, единый язык государственности — любых претензий на власть выше уровня конкретной деревни. Очень часто, учитывая крайне ограниченную власть вождей кая, этот язык радикально расходился с их реальными властными возможностями.
Следует отметить, что горные народы располагали двумя различными моделями государственной власти — индийских царских дворов на юге и хань-китайских дворов на севере. Вот почему довольно много качинских вождей стремились воссоздать в своих «дворцах», церемониалах, одеяниях и космологии шанские образцы, которые шаны, в свою очередь, заимствовали у китайцев. Традиции качинских правителей, с точки зрения как символической организации пространства, так и ритуалов, посвященных «небесным и земным духам», удивительно похожи на церемониалы императорского дворца в Пекине[293]. Акха, безгосударственный народ (если таковой вообще когда-либо существовал), практически не испытали влияния тайских/шанских моделей власти, поскольку заимствовали даосские, конфуцианские и тибетские модели генеалогии, управления и космологии, в большей или меньшей мере отбросив их буддийские элементы[294]. В ситуациях, когда в качестве образца можно было использовать одновременно две государственные традиции, их сочетание порождало экзотичные смешанные форматы государственной мимикрии. Но в любом случае они вкладывали в уста и в ритуальные практики местных правителей концептуальный и символический язык божественных, вселенских монархов, без которого их реальная политическая власть вряд ли преодолела бы границы их собственных деревушек.
Цивилизационная миссия
Все придворные культуры на периферии Вомии конструировали более или менее резкие различия между теми, кто считался «цивилизованным», и «варварами», причем последние могли обозначаться по-разному: дикие или горные племена, лесные люди, дикари, люди водных потоков и пещер. Как мы уже видели, понятия «цивилизованный» и «варвар» — неразделимые, определяющие друг друга попутчики, как «тьма» и «свет», каждый из которых не может существовать без своей полной противоположности-близнеца. И каждый элемент указанных дихотомий обычно выводится из другого. Например, в Ханьской империи народ хунну описывался как «не имеющий письменности, фамилий, уважения к старшим», городов, постоянных поселений и оседлого земледелия, то есть список того, чем не обладали хунну, является перечнем того, что имели цивилизованные ханьцы[295]. Конечно, пытающиеся применить такой бинарный подход на практике сталкиваются со множеством случаев, которые не поддаются однозначной классификации. Но подобная неопределенность не мешает выстраивать построенные на бинарности определения цивилизации, как не мешает она и вести дискуссии о расовой принадлежности.
Типичный цивилизационный нарратив сиамских, бирманских, кхмерских, малайских и особенно китайских и вьетнамских придворных культур гласил, что с течением времени варвары постепенно ассимилировались просвещенным, манящим их государственным центром. Но поглощение не могло быть тотальным, поскольку тогда само понятие центра цивилизации утратило бы свой смысл, а потому всегда существовала варварская периферия.
Цивилизирование населения периферии концептуально выглядит более правдоподобно, если варвары рассматриваются как изначально «похожие на нас», только более отсталые и неразвитые. Например, вьетнамцы дословно называли муонгов и тэй «своими живыми предками». Как отмечают Кит Тейлор и Патришия Пелли, муонги «считались в народе (и считаются до сих пор) докитайской версией вьетнамцев»[296]. Тотемы, поселения, сельскохозяйственные практики, языки и литература муонгов скрупулезно изучались и фиксировались не столько ради них самих, сколько потому что якобы могли пролить свет на происхождение и развитие вьетнамского народа[297].
Признание варваров более ранней, а не непоправимо иной ступенью развития порождало уверенность, что они способны в конце концов превратиться в полностью цивилизованных людей. В это верил Конфуций. Когда его спросили, почему он вообще счел возможным жить среди варваров, он ответил: «Если благовоспитанный человек живет меж них, никакого бескультурья быть не может»[298]. В подобных случаях цивилизационный дискурс примечательно однозначен, утверждая восхождение к единой культурной вершине. Прочие, иные, хотя столь же значимые цивилизации обычно не принимаются в расчет, и (цивилизационный) бикультурализм считается невозможным.
Вьетнамский император начала XIX века Минь Манг продемонстрировал в своем ораторском искусстве, но не в действиях, великодушную форму философии цивилизирования:
Земли [народов зярай и радэ] — весьма отдаленное место. Это земли, где завязывают на веревках узелки на память. Это земли, где для выживания занимаются подсечно-огневым земледелием и выращивают рис; земли, где обычаи всё еще архаичны и просты. Однако головы живущих здесь людей покрыты волосами, у них есть зубы, от природы они наделены врожденными знаниями и способностями. Следовательно, почему бы им не совершать добродетельные поступки? Вот почему мои прославленные предки принесли этим людям китайскую цивилизацию, чтобы изменить их племенные обычаи[299].
После присоединения восточной и центральной Камбоджи, население которой унаследовало образцы классической кхмерской цивилизации, Минь Манг приказал своим чиновникам обучать местных жителей вьетнамским традициям и языку, показывать, как выращивать больше риса и тутовника, домашнего скота и птицы; кроме того, чиновники должны были упрощать и подавлять любые варварские обычаи, «вытаскивая камбоджийцев из грязи и кладя в теплую перину»[300].
И в китайской, и во вьетнамской модели образ предлагаемой выбравшим цивилизацию комфортной и роскошной жизни спокойно сочетался с беспощадным силовым подавлением тех, кто сопротивлялся цивилизированию. До начала великих восстаний середины XVII века в Гуйчжоу крупнейшие военные кампании провел Хан Йонг (1465), а шестьдесят лет спустя, в 1526 году, — знаменитый ученый-воин Ван Янмин для подавления крупных мятежей мяо-яо. Первая победа войск Мин в переломной для хода борьбы битве у Великого Виноградного ущелья закончилась гибелью по меньшей мере шестидесяти тысяч человек, восемьсот из которых были отправлены в Пекин и публично обезглавлены[301]. Позже победоносный Ван Янмин помог воссоздать (позорно) известную систему туей (tusi) — «управление варварами с помощью варваров», хотя продолжал придерживаться мнения, что варвары, «как неограненные драгоценные камни», способны стать полностью цивилизованными людьми, если их аккуратно обработать и отполировать[302]. Его объяснение, почему прямое управление подобными дикарями приведет к хаосу и разрушениям, одновременно примечательно и точно: «Ввести здесь прямое гражданское управление в форме хань-китайских магистратов — все равно что запустить стадо оленей в дом и попытаться приручить их. В конце концов, они просто-напросто разобьют рогами ваши жертвенные алтари, сломают копытами ваши столы и, будто обезумев, будут носиться по кругу. Вот почему в диких районах следует адаптировать свои методы к особенностям дикой природы здешних народов…»[303]
Благочестие и добродетель, утверждаемые цивилизационным дискурсом как атрибуты имперского центра, — одно, а реалии повседневной жизни — совершенно другое. Оамоидеализации имели мало общего с образом жизни императорской столицы и еще меньше — с неразберихой на границах. Вместо «Аналектов Конфуция» в последнем случае наблюдалось столпотворение авантюристов, бандитов, спекулянтов, вооруженных торговцев, демобилизованных солдат, нищих мигрантов, ссыльных, коррумпированных чиновников, спасающихся от правосудия и беженцев. Доклад 1941 года о ханьском населении юго-западной границы обозначил здесь три типа жителей: вынужденные и отчаявшиеся переселенцы, мелкие ремесленники и торговцы, или «спекулянты в ожидании удачного случая», и, наконец, чиновники. «Высшие чины… жили праздно, часто злоупотребляли курением опия, игнорировали государственные приказы… Мелкие чины погрязли во взяточничестве и собирали штрафы, в то же время незаконно торгуя опием и солью. Не было ни одного прибыльного занятия, куда бы они еще не сунули свой нос. Их активность не могла не привести к вражде с живущими на границах племенами, которые страдали от их притеснений»[304]. В любой колониальной или имперской системе жизненный опыт подданного кардинально расходился с утверждаемыми официальной идеологией целями иерархической верхушки, призванной облагораживать государство. Ее якобы добродетельность воспринималась большинством подданных как жестокая шутка[305].
Цивилизационный проект оказался вполне жизнеспособен в материковой части Юго-Восточной Азии и в XX веке. В ходе восстаний хмонгов/мяо в северном Таиланде в конце 1960-х годов генерал Прапас не только применил все имеющиеся в его распоряжении методы борьбы с повстанцами, включая напалм и воздушные бомбардировки, но и предпринял попытку «цивилизовать» бунтовщиков с помощью строительства школ, поселений, медпунктов и внедрения практик оседлого сельского хозяйства. Как отметил Николас Тапп, эта культурная кампания стала почти полной копией правительственной программы Китайской Республики в провинции Гуандун в 1930-х годах, которую реализовывало Агентство по окультуриванию яо[306]. В современном Китае, несмотря на то что стигматизирующие названия меньшинств перестали использоваться, демаркационная линия между ханьцами и множеством этнических групп сохраняется. Эвфемизмы «развитие», «прогресс» и «образование» вытеснили понятия «дикий» и «культурный», но в их основе лежит то же убеждение, что общества и культуры этнических меньшинств — это «социальные ископаемые», чьи дни сочтены[307].
В зависимости от культурных особенностей государственного центра содержание понятия «цивилизованный» и, соответственно, основания для стигматизации «варваром» могли значимо варьировать. Метафорически за понятиями варварства и цивилизации в рамках каждой культуры стояла некая лестница вверх, к цивилизации, но вот ее ступени были уникальны и специфичны. В Сиаме и Бирме основным маркером цивилизованности был буддизм Тхеравады[308]. Во Вьетнаме и Китае решающее значение имели грамотность и прежде всего знакомство с классической литературой. В малайском мире жители верховий рек считались, вполне в духе описания Ван Янмином народа яо, «незавершенными малайцами». Принципиальной ступенью на пути к «завершенности» (в китайском языке используется понятие «приготовленности») было принятие мусульманства. Впрочем, все лестницы имели по крайней мере две схожие ступени, несмотря на всю свою культурную специфику: в качестве обязательных критериев цивилизованности выступали оседлое сельское хозяйство и постоянное проживание на государственном пространстве.
Центростремительный цивилизационный нарратив, утверждающий, что безгосударственные люди постепенно спускались с холмов, начинали заниматься поливным рисоводством и ассимилировались лингвистически и культурно, не является по сути своей ошибочным. Он описывает исторический процесс. Шанское население, оседлые подданные мелких независимых шанских государств, как полагают Лич и О’Коннор, в основном являются потомками горных народов, которые переняли равнинный образ жизни[309]. Аналогичным образом малайскость формировалась в ходе превращения безгосударственных народов в подданных небольших портовых государств. Точно так же первое бирманское королевство в Пагане было амальгамой, соединением множества народов[310]. Иными словами, цивилизационный нарратив не столько ошибочен, сколько радикально неполон, поскольку фиксирует только те события, что согласуются с имперским самоописанием дворов правителей.
Цивилизация как норма
Если мы внимательно проанализируем центростремительный цивилизационный нарратив, то удивимся, насколько четко реальное содержание «цивилизованности» сводится к превращению в подданного рисового государства. Это различие между подконтрольным подданным и живущим вне пределов государства настолько важно и логически выстроено, что обычно маркировалось и изменением идентичности, прежде всего этнической. Перемещение в центр поливного рисоводства и, соответственно, в систему структурируемой государством социальной стратификации и иерархии означало, в зависимости от конкретной ситуации, превращение в тайца, бирманца, малайца. На юго-западных границах Китая это влекло за собой изменение статуса с «необработанного, сырого» (sheng) варвара на «приготовленного» (shu) цивилизованного человека и в конце концов подразумевало принятие ханьской идентичности.
Документ XII века из Хайнаня связывает понятия подданства и «приготовленности». Последнее трактуется по-разному — окультуренность, одомашненность или, во французской идиоме, evolue, то есть ситуация совершенно понятна: «Те, кто подчинился и приписан округу и городской администрации, — приготовленные ли. Те, кто живет в горных пещерах и не наказан нами или [те, кто] не отрабатывает барщину, — сырые ли. Иногда они появляются и участвуют в бартерных обменах с подконтрольным населением». «Приготовленные» ли занимали промежуточное положение: они уже не были «сырыми», но еще не стали ассимилированными ханьскими подданными. Чиновники подозревали их в верности безгосударственным народам и в «лукавом» взаимодействии с «сырыми» ли, чтобы «вторгнуться на правительственные земли и бродить по ним, грабя путешественников». Несмотря на боязнь предательства со стороны «приготовленных варваров», все же они ассоциировались с политическим (государственным) устройством, тогда как «сырые» — с беспорядком. Например, считалось, что «сырые ва воруют и грабят», тогда как «приготовленные» ва «охраняют дороги». Как подчеркивает Магнус Фискесьё, ошибочно считать, что для чиновников Ханьской империи слово «сырой» служило лишь еще одним обозначением примитивности или близости природе. Хотя все «примитивные» народы считались «сырыми», далеко не все окультуренные варвары — «приготовленными». Ключевым показателем было подчинение ханьской администрации. Большая часть народа носу (сегодня известен как и), живущего на границе провинций Юньнань и Оычуань, которая создала иерархическую структуру, аналогичную кастовой системе, и гордилась своей письменностью, все равно классифицировалась как «сырая», потому что уклонялась от политического поглощения. В то же время незначительное число носу, признавших себя китайскими подданными, было признано «приготовленными». Одним словом, «„сырыми“ варварами считались те, кто оставался вне пределов осуществляемой агентами государства юрисдикции»[311]. Если Патришия Эбри права, то историю этого древнего критерия можно проследить до периода Восточного Чжоу (УШ-Ш века до н. э.), когда различие между теми, кто подчинился власти династии Чжоу, и теми, кто отказался сделать это, было тесно сплетено с этническим противопоставлением китайцев [хуа или ся] и варваров[312].
Вернемся в XVIII век: живших в высокогорьях хайнаньских варваров или варваров, объявивших о своей преданности и ставших подданными династии Цин, называли «помещенными на карту». Это означало, что они мгновенно политически «подогревались в микроволновке», то есть из «сырых» превращались в «приготовленных», хотя сохраняли прежние обычаи и традиции: «понятия shu и sheng были полностью политическими и имели очень небольшое культурное содержание»[313]. «Помещение на карту» и поглощение бюрократической системой имплицитно базировались на идее, что люди готовились к аккультурации в рамках ханьского подданства, которого они якобы с нетерпением ждали[314]. Первым, основополагающим шагом к нему был политико-административный статус «приготовленности», то есть «становление на путь превращения в учтенных, платящих налоги, отрабатывающих барщину „добропорядочных“ подданных…
Категория „варвар“ может и не иметь иных постоянных референтов, кроме жизни „вне закона“. Она соотносится с теми, кто в любой момент времени готов бороться за идею, с любыми живущими на периферии народами, которые отвечают (или считаются соответствующими) минимальным критериям статуса неподданных государства, этнолингвистического своеобразия или просто местожительства на периферии»[315].
Именно с точки зрения административного контроля, а не культуры как таковой следует воспринимать изобретение этнических категорий на приграничных территориях. Название «яо» в провинции Гуандун XV века было артефактом гражданского состояния, которое фиксировалось по критерию помещения на карту. Тот, кто был зарегистрирован как налогоплательщик, отрабатывающий барщину, а потому получивший все права постоянного поселенца, становился mm (гражданином, подданным); тот, кто не выполнил всех этих требований, — яо. «Изобретенные» яо социокультурно могли быть неотличимы от подотчетных государству mm, но со временем этот «ярлык» был «этнизирован» ханьскими администрациями[316]. Практически то же самое можно сказать о названии «мяо» в управленческой системе династии Цин. Это понятие объединило множество различных групп, нередко говорящих на непонятных друг ДРУГУ языках. Единственное, что их объединяло, — отказ стать частью «налогооблагаемого населения». Со временем понятие, которое изначально не имело внятного культурного содержания, стало обозначать этнизированную идентичность[317].
Таким образом, варварство в управленческих практиках империй Мин и Цин рассматривалось как политическое отношение к государственности и вопрос самопозиционирования. Неварвары полностью инкорпорированы в налогооблагаемое население и, предположительно, переняли обычаи, манеру одеваться и язык ханьцев. В то же время существует две разновидности варваров — абсолютные и частично обработанные государством, причем попадание в любую категорию также является вопросом выбора. «Приготовленные» варвары социокультурно отличаются от неварваров, но учтены и подчиняются ханьским административным нормам, даже если сохраняют собственных вождей. Предполагается, что данная разновидность варваров начала свой путь к культурному поглощению ханьской цивилизацией. «Сырые» варвары, наоборот, не входят в государственное население — это необходимый ему и крайне этнизированный «другой».
Отказ от государства и переход в варварство
Итак, те, кто перемещается на неподконтрольные государству территории, тем самым пересекают умозрительный водораздел между цивилизацией и варварством. Те, кто покидает ряды ведущих строго регламентированную жизнь min или подконтрольных «приготовленных» ради жизни на «сырой» варварской периферии, попадают в зону окончательной этнизации.
О исторической точки зрения превращение в варвара — вещь совершенно обыденная. В определенные исторические периоды оно было более распространено, чем цивилизирование. Достаточно покинуть государственное пространство — и вот вы уже варвар и член этнизированного «племени». Еще в IX веке китайские чиновники сообщали, что народ под названием шан, проживавший на юго-западе Китая, изначально был частью ханьской цивилизации, но со временем постепенно слился с «западными варварами»[318]. А народ, позже известный как этническая группа шан ю и считавшийся варварским (sheng), как выясняется, сформировали обычные min, сбежавшие, чтобы не платить налоги. Административные отчеты начала XIV века характеризуют его как опасный и необузданный, но не содержат никаких указаний на его принципиальные отличия, расовые или культурные (не говоря уже об аборигенных), от исправно платящего налоги и подконтрольного государству населения. Но со временем, живя в местах, недоступных для государства, данный народ превратился в этническую группу шан ю[319]. В определенном смысле все те, у кого были причины бежать от государства — от налогов, воинских повинностей, болезней, бедности и тюрьмы или же чтобы торговать и совершать набеги, — трайбализировали себя. Подчеркнем еще раз: этничность начиналась там, где заканчивались верховная власть и налоги. Этническая зона пугала и стигматизировалась чиновниками именно потому, что была недосягаема для верховной власти и, как магнит, притягивала тех, кто по каким бы то ни было причинам хотел ускользнуть от государства.
Схожие процессы происходили практически повсеместно. В малайском мире Веньямин описывает «трайбализацию» и «ретрайбализацию» прежде не живших в условиях племенного строя народов, как только они перемещались за пределы государственной юрисдикции, или же, что часто случалось, малайское государство распадалось, оставляя после себя сплошную периферию[320]. Сами стигматизирующие обозначения безгосударственных народов содержали в себе указания на отсутствие эффективной верховной власти. Например, мератус на острове Калимантан благодаря своей независимости и мобильности стигматизируются как народ «пока-еще-не-организованный/неподконтрольный» (belum diator)[321]. Испанский чиновник на Филиппинах в середине XVII века описывает горных жителей реки Чико словами, которые одновременно стигматизируют их безгосударственный статус и содержат намек на зависть: «Они были столь свободны, совершенно не знали понятий бога и закона, легко обходились без короля и иных объектов уважения, полностью отдавались своим желаниям и страстям»[322]. То, что чиновники из долин воспринимали как плачевную отсталость, сами стигматизированные считали политической зоной самоуправления, мобильности и свободы от налогов.
Цивилизационная последовательность «min — „приготовленный“ варвар — „сырой“ варвар» отражала и уровень политической включенности в государство. Она напоминает арабо-берберскую цивилизационную цепь, где siba — зона вне пределов контроля арабского государства, a makhazem — внутри таковых. Те, кто живут в siba, являются или становятся берберами. Как и в случае с «обработанными» и «сырыми» варварами, задачей династического правления было расширение сферы своего влияния с помощью верных племен (guish), чтобы увеличить зону государственного контроля. Как пишет Эрнест Геллнер, siba лучше переводить как «институционализированное инакомыслие», соответственно, жители этой зоны воспринимались и кодировались как «берберы». Племенное общество по определению существует на границе неплеменного как его темный противоположный близнец[323]. В отличие от Юго-Восточной Азии, «племена» на Ближнем Востоке и в Северной Африке разделяли общую религию с населением государства, хотя не всегда вместе с ее обрядовой стороной. В подобных обстоятельствах сложно распознать суть «берберства» за исключением того, что так арабы называли тех, кто избегал контроля и включения в иерархическую систему государства[324].
Таким образом, варвары — эффект государства; это явление не поддается каким-либо определениям, если не «противопоставлено» государству. Вот почему можно рекомендовать предложенное Веннетом Вронсоном минималистичное определение варвара как «просто члена политического союза, который находится в прямых отношениях с государством, но сам государством не является». Подобная трактовка вполне допускает, что варвары могли и действительно были вполне «цивилизованными» с точки зрения грамотности, технических умений, знакомства с соседними «великими традициями», скажем, римлян или ханькитайцев. Давайте представим в заданном контексте такие безгосударственные народы, как ирландцев или минангкабау и батаков в островной части Юго-Восточной Азии. О военной точки зрения они могли быть сильнее, чем близлежащие государства, а потому могли совершать на них набеги и взыскивать дань. Рассмотрим в том же ключе монголов в эпоху династии Тан, народ морос, бедуинов, шотландцев, албанцев, кавказцев, патанов и, на большей части их истории, афганцев. Чем сильнее были подобные «варварские» сообщества, тем выше была вероятность, что они систематически грабили соседние государственные пространства с их высочайшей концентрацией богатств, зерна, товаров на продажу и рабов. Вронсон связывает относительную слабость государственных образований в Индии и на Суматре на всем протяжении их истории, несмотря на благоприятные агроэкологические условия, с близостью мощных безгосударственных хищников[325].
Все империи как культурно-политические предприятия обязательно отметились экспериментами в построении классификаций. Так, Римская империя, даже при беглом взгляде, демонстрирует множество таких же характеристик, какие приписывались Вомии[326]. Рабство было столь же основополагающим элементом государственного строительства у римлян, как и у бирманцев, тайцев и первых ханьцев. Торговцы сопровождали все военные кампании, чтобы покупать пленных и перепродавать их поближе к Риму. Многие войны между варварами на самом деле были борьбой между соперниками, стремящимися контролировать и извлекать прибыль из торговли людьми. Римская культура от провинции к провинции не только отличалась от прославленного однообразия римских граждан, но и характеризовалась особенностями той конкретной «варварской» культуры, которую поглотила.
Как ханьцы и их аналоги в Юго-Восточной Азии, римляне создали свой фетиш из вождей племени. Везде, где это было возможно, они организовывали пространство, провозглашали более или менее соответствующие действительности этнические различия, назначали или признавали единого вождя, который волей-неволей становился местным носителем римской власти и отвечал за хорошее поведение своего «народа». Созданная римлянами система кодификации размещала «народы» на ступенях эволюционной лестницы цивилизации. Кельты, наиболее близкие римской власти в Галлии, были безгосударственным племенем с развитой культурой, жившим в укрепленных городах и занимавшимся земледелием, а потому сопоставимы с «приготовленными» варварами в китайской модели. Разнообразные германские племена, населявшие территории за Рейном, были, соответственно, «сырыми» варварами, а мобильные гунны, перемещавшиеся между Римом и Черным морем, — «сырейшими из сырых». В римской провинции Британия пикты за Адриановым валом на севере страны были также «сырейшими из сырых» или же «последними из свободных людей» — тут уж как посмотреть[327].
И вновь позиционирование относительно имперской власти служило решающим маркером для оценки степени цивилизованности. Полностью подконтрольные («приготовленные») варвары в управляемых Римом провинциях утрачивали свои этнические названия, как только становились крестьянами, начинали платить налоги и нести воинские повинности. Те, кто оставался вне сферы римского контроля, неизбежно этнизировались, получали одобренных Римом вождей и были обязаны платить дань (obsequium), а не налоги, особенно если считалось, что подобные группы не занимаются зерновым земледелием. Взаимосвязь прямого римского управления и варварского статуса особенно очевидна в тех случаях, когда «провинциалы» восставали против власти Рима. Если они устраивали мятеж, то сразу же этнизировались (опять объявлялись варварами!): это означало, что существовала возможность движения вниз по цивилизационной лестнице и что статус цивилизованного народа был преимущественно политической категорией. В зависимости от ситуации римляне могли попадать на варварские территории в качестве дезертиров, торговцев, переселенцев и беглецов от закона, а «варвары», в свою очередь, могли оказываться на римских землях, хотя для коллективного перемещения им требовалось разрешение римских властей. Водораздел между государственными и варварскими территориями, несмотря на постоянные перемещения через него в обе стороны, всегда был четко обозначен. «Только завоевание давало реальные знания о варварском мире, но после покорения он переставал быть варварским. Поэтому с концептуальной точки зрения варвары вечно ускользали от понимания римлян»[328].
В силу своего политического положения — вне государства, но на соседних с ним территориях — этнизированные варвары представляли собой постоянный пример неповиновения центральной власти. Семиотически необходимые для культурологического конструирования идеи цивилизации, варвары были почти неустранимы благодаря оборонительным преимуществам местности, пространственного рассеяния, фрагментированной социальной организации и мобильных, подвижных стратегий выживания. Они всегда представляли собой образец — а потому возможность выбора и искушение — типа социальной организации вне рамок основанной на государственной власти иерархии и налоговой системы. Можно предположить, что восставшие в XVIII веке против династии Цин в провинции Юньнань буддисты восприняли идею «варваризации», когда их призывали к мятежу, постоянно повторяя: «Последователям Апи не нужно платить никаких налогов. Они пашут землю для себя и сами едят то, что выращивают»[329]. Чиновники ближайших государств воспринимали территории варваров как прибежище для преступников и мятежников, как укрытие для уклоняющихся от уплаты налогов.
Реальная привлекательность «варварства», жизни в недоступных для государства местах, не говоря уже об оставлении цивилизации, не получила своего логически оправданного освещения в официальных государственных нарративах четырех ключевых цивилизаций, которые нас интересуют: ханькитайской, вьетнамской, бирманской и сиамской. Все нарративы «утверждают окончательную и бесповоротную ассимиляцию в одном-единственном направлении». В Ханьской империи сами термины «сырой» и «приготовленный» подразумевают необратимость: сырое мясо можно приготовить, но его нельзя опять «сделать сырым», хотя оно может испортиться! Не допускалась даже мысль о возможности обратного пути или отката назад по цивилизационной лестнице. Также замалчивался тот неоспоримый факт, что все ключевые цивилизации, в которых собственно и предполагалось ассимилироваться, были культурным сплавом самых разнообразных элементов[330].
Вряд ли можно было бы ожидать от цивилизационного нарратива, который исходит из собственного культурного и социального магнетизма и изображает аккультурацию как желанный цивилизационный подъем, что он будет тщательно фиксировать в хрониках широкомасштабное отступничество, не говоря уже о том, чтобы объяснять его. Хотя таковое в истории было очень распространено. Официальная невидимость отступничества встроена в логику конструирования цивилизационного нарратива: те, кто перемещаются в безгосударственное пространство и адаптируются к его агроэкологии, объявляются этнизированными варварами, которые якобы всегда здесь и существовали. До решающей военной победы ханьских войск над яо в середине XV века казалось, что «ханьцы номинально превращаются в неханьцев куда чаще, чем происходит обратный процесс… Маргинальные мигранты на территориях, которые слабо контролировались государственной властью, поклонялись изображениям Паньгу [из этнической мифологии], которые, помимо всего прочего, обещали им помощь яо. Мигранты были полной противоположностью „варваров“, которые платили дань императорскому двору и выражали свое восхищение цивилизацией. О точки зрения государства мятежники предавали цивилизацию и пополняли ряды варваров»[331]. Варвары, приносящие дары, занимали почетное место в цивилизационной дискурсе, а подданные Ханьской империи, переходящие к варварам, — нет! Когда они упоминаются в литературе периода династии Цин, то стигматизируются как «предатели ханьцев» (Hanjian), и этот термин несет в себе сильный этнический компонент[332].
«Самоварваризация» могла осуществляться бесконечным числом способов. Ханьское население, желавшее торговать, уклоняться от уплаты налогов, избегать правосудия или находить новые земли, постоянно попадало в зоны проживания варваров. Оказавшись здесь, оно обычно начинало говорить на местном диалекте, вступало в браки с местными жителями и искало защиты у здешнего вождя. Остатки рассеявшихся мятежников (особенно тайпины в XIX веке), свергнутых династий и их окружения (например, сторонники династии Мин в первые годы правления Цин) способствовали притоку сюда новых жителей. Если местное варварское царство оказывалось достаточно сильным, как в случае с Наньчжао, ханьцы могли захватываться в плен или покупаться, а затем растворяться в местном населении. Столь же общепринятой была ситуация, когда назначенный управлять варварской территорией ханьский военный чиновник заключал здесь союзы, вступал в брак с местной жительницей и со временем начинал отстаивать свою независимость, как местный лидер. И наконец, существовал тип самоварваризации, который предельно четко показывает взаимосвязь принятия подданства Ханьской империи и обретения статуса цивилизованного человека. Если регион, где проживали «приготовленные» варвары, успешно восставал против ханьского правления, их переклассифицировали в «сырых» и вновь вносили в колонку «варваров», хотя их культура не претерпевала никаких изменений — только их подчиненность ханьской власти[333].
Уильям Роу утверждает, возможно, для усиления драматического эффекта, что «переход в варварство» был скорее нормой, чем исключением: «Исторические реалии на протяжении столетий были таковы… что значительно больше китайцев переняли образ жизни местных народов, чем было поглощено китайской цивилизацией»[334]. Что бы ни показали полные и точные демографические данные, для нас в заданном контексте принципиально важно то, что спуск по цивилизационной лестнице был широко распространен и даже банален, хотя не получил заслуженного освещения в официальном историческом нарративе. В периоды упадка династий, природных катастроф, войн, эпидемий и исключительной по своей жестокости тирании стабильный ручеек утекающих из страны авантюристов, торговцев, преступников и первопроходцев мог превратиться в обескровливающий государство отток населения. Можно предположить, что большая часть жителей приграничных районов понимала позиционные преимущества своего промежуточного культурного положения и выбирала ту или иную сторону от цивилизационного водораздела в зависимости от обстоятельств. Даже сегодня на юго-западных границах Китая очевидны принципиальные преимущества отнесения к этническому меньшинству, по сути, к варварам. Подобный статус позволяет избежать ограничений политики «одного ребенка на семью» и уплаты ряда налогов, используя в то же время «позитивные последствия» правительственных программ по поддержке национальных меньшинств. Ханьцы и люди смешанного происхождения в этих районах стремятся быть зарегистрированными как мяо, дайцы, яо, джуанг и т. д.
Глава 5. Как удержать государство на расстоянии. Заселение горных районов
Если пагода построена — страна разрушена.
— Бирманская пословица
Когда растущее сообщество, захватывал новую территорию, изгоняет прежних жителей (или часть из них), вместо того чтобы поглотить их в качестве собственных членов, изгнанные могут создать на территории, где они расселились, новый тип общества.
— Оуэн Латтимор. Роль границ в истории
Комиссия 9/11, докладывая о результатах расследования террористических атак на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в 2001 году, обратила внимание на новое местоположение источника террористической угрозы. Теперь таковая исходит не от некоего враждебного национального государства, а из «убежищ» в «наименее управляемых, находящихся вне закона», «самых отдаленных», «обширных, не контролируемых полицейскими службами районов» в «труднодоступной местности»[335]. Выли даже названы конкретные убежища террористов, такие как Тора-Вора и Шахи-Кот недалеко от пакистано-афганской границы и «слабо контролируемые полицией» острова к югу от Филиппин и Индонезии. Комиссия прекрасно понимала, что сочетание географической удаленности со сложным рельефом и прежде всего относительное отсутствие государственной власти позволяют этим районам упорно не подчиняться Соединенным Штатам или их сторонникам. Что комиссия не сумела понять, так это то, что большая часть нынешнего населения этих непокорных территорий, ставших прибежищем террористов, оказалась здесь именно потому, что эти районы в прошлом долгое время были зоной бегства от государства.
Так же как относительно безгосударственные отдаленные регионы стали убежищем для Усамы бен Ладена и его сторонников, обширные горные районы в материковой части Юго-Восточной Азии, которые мы назвали Вомией, были историческим прибежищем для всех беглецов от государства. В длительной ретроспективе — под «длительной» я имею в виду пятнадцать веков или даже две тысячи лет — разумно рассматривать живущие сегодня в горах народы как результат затяжного процесса таттоппаде (одичания), то есть как потомков беглецов от проектов государственного строительства в долинах. Их сельскохозяйственные практики, социальная организация, структура управления, легенды и культурные особенности несут на себе явный отпечаток усилий по ускользанию и дистанцированию от государства.
Подобная интерпретация, в соответствии с которой горы до недавнего прошлого заселялись благодаря миграционным процессам, обусловленным бегством от государства, резко расходится с прежними представлениями, отголоски которых прослеживаются в народных верованиях населения долин. Они утверждают, что горные жители — это коренное население горных районов, которое по тем или иным причинам не смогло осуществить переход к более цивилизованному образу жизни: к оседлому сельскому хозяйству в виде поливного рисоводства, к религиозным верованиям равнин и к членству (в качестве подданных или граждан) в крупных политических образованиях. В самой радикальной версии этого цивилизационного нарратива горные народы выступают неспособными измениться чужаками, которые живут в некоем подобии высокогорного отстойника, а потому по определению непригодны и неспособны к культурному развитию. Более благодушная версия того же нарратива, которая сегодня оказалась доминирующей, видит в населении горных районов «отставших» с точки зрения духовной и материальной культуры (возможно, даже «наших живых предков») и утверждает необходимость прилагать максимальные усилия по их развитию и интеграции в культурную и экономическую жизнь страны.
Если же мы, наоборот, что более корректно, определяем население Вомии как комплекс народов, которые в то или иное время предпочли переместиться за пределы досягаемости государственной власти, то предлагаемая доминирующим цивилизационным нарративом эволюционная последовательность оказывается несостоятельной. Горная жизнь тогда оказывается в значительной степени эффектом государства, определяющей характеристикой общества, созданного теми, кто по каким бы то ни было причинам оставил область прямого государственного управления. Как будет показано ниже, подобная трактовка горных народов как отвергающих государство или даже антигосударственных сообществ позволяет лучше понять и объяснить присущие им типы сельскохозяйственных практик, культурные ценности и социальную структуру.
Логика демографического освоения гор, несмотря на туманные и отрывочные сведения о самых ранних его периодах, предельно понятна. Расцвет на равнинах мощных рисовых государств, подавляющих своим демографическим и военным превосходством небольшие соседние сообщества, порождал одновременно два противоположных процесса: с одной стороны, поглощение и ассимиляцию, с другой — выталкивание и бегство. Поглощенные народы исчезли с лица земли как отдельные сообщества с особыми характеристиками, хотя и одолжили свой оттенок той амальгаме, что стала общей культурой равнинного государства. Вытесненные или сбежавшие сообщества обычно направлялись в отдаленные убежища в глубине страны, нередко на больших высотах над уровнем моря. Эти зоны бегства, куда устремлялись отказавшиеся от государственной жизни сообщества, отнюдь не были пустынными и необжитыми, однако в длительной исторической перспективе демографическое преимущество ускользающих от государств мигрантов и их потомков стало очевидным. Вероятно, в далеком прошлом заселение горных районов происходило урывками. Периоды династического мира и расширения торговли, как и эпохи успешного разрастания империй, увеличивали население, искавшее покровительства сильной государственной власти. Общепринятый нарратив «цивилизационного процесса», рисующий его в розовых тонах, хотя он вряд ли был столь уж благотворен и доброволен, в принципе соответствует реалиям подобных исторических периодов. Однако в годы войн, неурожаев, голода, чудовищно обременительных налогов, экономического упадка или оккупационного положения преимущества социального существования за пределами досягаемости равнинных государств оказывались исключительно привлекательными. Отток населения долин в зоны бегства, обычно в горы, где, казалось, сами особенности местности укрывают от государства, сыграл ключевую роль в заселении Вомии и социальном конструировании уклоняющихся от государств сообществ. На протяжении двух последних тысячелетий миграционные процессы подобного рода были постоянны — ив небольших, и в огромных масштабах. Каждая новая миграционная волна порождала столкновение тех, кто только переместился в горные районы, с теми, кто уже давно здесь поселился. Конфликты, слияние и переопределение идентичностей на этих малоуправляемых пространствах в значительной степени обусловили этническое многообразие Вомии. Но поскольку эти процессы не считались достойными включения в саморепрезентационные тексты равнинных государств, они редко фиксировались в исторических хрониках, хотя вплоть до начала XX века были вполне повседневными. Как будет показано позже, даже сегодня они продолжаются, хотя в существенно меньших масштабах, чем прежде.
Одно государство в большей степени, чем все остальные, было движущей силой перемещения множества народов, поглощая часть из них. По крайней мере с начала экспансии Ханьской империи на юг от Янцзы (202 год до н. э. — 220 год н. э.), когда китайское государство впервые стало великой аграрной империей, затем, пусть рывками, но весь исторический путь к династии Цин и ее наследникам, к республике и Китайской Народной Республике стремящееся избежать поглощения государством население перемещалось на юг, запад, а затем на юго-запад в Вомию — провинции Юньнань, Гуйчжоу, Гуанси и регионы Юго-Восточной Азии. Другие рисовые государства, возникшие позже, пытались воспроизводить те же процессы государственного строительства, хотя и в меньших масштабах, и иногда оказывались стратегическим препятствием на пути китайской экспансии. Бирманские, сиамские, вьетнамские и тибетские государства были весьма выдающимися, но все равно входили в низшую лигу, тогда как множество менее значительных по размерам рисовых государств, которые недолго играли такую же роль (Наньчжао, Пиу, Лампхун/Харипунджайя и Чёнгтун — лишь некоторые из них), вошли в историю. Будучи машинами по захвату и поглощению населения для обеспечения себя рабочей силой, они так же и теми же способами извергали из себя спасающихся от государства в горных районах и создавали собственные «варварские» периферии.
Важная роль гор как убежища от множества тягот жизни подданных государства не осталась незамеченной. Как писал Жан Мишо, «в определенной степени горцев можно считать беженцами, перемещенными в ходе войны лицами, которые предпочли остаться за пределами прямого управления государственных властей, стремящихся контролировать труд и налогооблагаемые ресурсы и обладать безопасным доступом к населению, чтобы рекрутировать солдат, слуг, наложниц и рабов. Таким образом, горцы всегда были в бегах»[336]. Замечание Мишо, если учесть все подтверждающие его исторические, агроэкологические и этнографические свидетельства, формирует мощную оптику для восприятия Вомии как обширной сопротивляющейся государству периферии. Задача этой и двух последующих глав — в общих чертах обрисовать, на чем основана разрешающая способность предложенной аналитической оптики.
Иные регионы бегства
Предлагаемая нами модель объяснения феномена Вомии отнюдь не нова. Аналогичные процессы происходили во многих регионах мира, больших и малых, где разрастающиеся царства вынуждали перепуганное население выбирать одно из двух — поглощение или сопротивление. Там, где испуганные люди самоорганизовывались в некие подобия государств, сопротивление могло выливаться в военное противостояние. В случае поражения побежденные поглощались или мигрировали куда-то еще. Если оказавшееся перед угрозой поглощения население не имело государственных образований, то имевшийся у него выбор обычно сводился к поглощению или бегству, причем последний вариант нередко сопровождался арьергардными стычками и набегами[337].
Подобную аргументацию для Латинской Америки примерно тридцать лет назад предложил Гонсало Агирре Вельтран.
В своей книге «Регионы бегства» он утверждает, что некое подобие существовавшего до Конкисты общества сохранилось в отдаленных, недоступных регионах далеко от центров испанского контроля. Их размещение определялось двумя соображениями. Во-первых, это были районы, мало или вообще неинтересные испанским колонизаторам с экономической точки зрения. Во-вторых, это были географически неприступные зоны, где сопротивление ландшафта было чрезвычайно сильным. Агирре Вельтран называет в качестве таковых «сельскую местность, изолированную от транспортных путей физическими преградами, с суровым пейзажем и скудными сельскохозяйственными урожаями». Этим характеристикам соответствовали три природные зоны: пустыни, тропические джунгли и горные хребты, которые были «враждебны или недоступны для передвижений человека»[338]. По мнению Агирре Вельтрана, коренное население этих районов — в основном потомки не столько тех, кто был вытеснен или бежал сюда, сколько тех, кого колонизаторы оставили здесь в покое, потому что эти зоны не представляли для испанцев никакого экономического интереса или военной угрозы.
Агирре Вельтран учитывает тот факт, что часть местного населения была вынуждена в результате испанских захватов покинуть свои поля и укрыться в безопасности отдаленных районов, которые были наименее привлекательны для поселенцев ладино (испано-индейских метисов)[339]. Впрочем, последующие исследования отметили значительно большую роль бегства и укрывательства для заселения данных территорий. В отдаленном прошлом некоторые, если не большинство «коренных» жителей, о которых пишет Агирре Вельтран, на самом деле когда-то прежде были оседлыми земледельцами в рамках весьма социально стратифицированных обществ, но вследствие испанского давления и чудовищного демографического коллапса, вызванного эпидемиями, были вынуждены переформатировать свои общества таким образом, который способствовал их адаптации и мобильности. Например, Стюарт Шварц и Фрэнк Саломон пишут о «нисходящих изменениях в модальном размере групп, [меньшей] строгости систем родства и [меньшей] социально-политической централизации», которые превратили население сложных прибрежных систем рек в «совершенно разрозненных сельских жителей». То, что позже стало считаться отсталым, почти неолитическим, племенным строем, при более детальном рассмотрении оказывается исторической адаптацией к опасной политической ситуации и принципиально иным демографическим условиям[340].
Современная версия исторического процесса, зафиксированная Шварцем и Оаломоном, постулирует массовые передвижения населения и этнические перегруппировки. В Бразилии местные жители, сбегавшие из колониальных reducciones (резерваций) и от принудительного труда в миссионерских общинах, «выжившие жители разграбленных деревень, метисы, дезертиры и сбежавшие черные рабы» часто объединялись на границах, называли себя так же, как коренные жители, среди которых они селились, и иногда принимали новую идентичность[341]. Как и азиатские рисовые государства, испанские и португальские управленческие проекты требовали контроля над имевшейся в наличии на государственном пространстве рабочей силой. Конечным результатом бегства местных жителей от принудительного расселения стало формирование водораздела между государственным пространством, с одной стороны, и сопротивляющимся государству населением, перемещавшимся в географически недоступные ему районы, нередко на больших высотах над уровнем моря, — с другой. Учитывая чудовищный демографический коллапс, случившийся в Новом Свете, сходство здешней ситуации с юго-восточно-азиатской просто поразительно. Описывая reduccion (процесс переселения в деревни индейцев) в 1570 году, Шварц и Саломон утверждают, что испанцы
осуществляют насильственное переселение индейцев в зарождающиеся церковные приходы вследствие сокращения населения и в целях удовлетворения потребности колониальных властей в рабочей силе. Это привело к перемещению тысяч индейцев и перегруппировке населения по всем прежним, районам проживания инков. Проекты концентрации рассеянных поселений земледельцев и скотоводов в едином формате городов европейского стиля, редко оказывались столь успешными, как планировалось, но их последствия были вполне однотипными, если не сказать единообразными. Эти проекты неизбежно приводили к длительному противостоянию отдаленных районов/высоких склонов и «цивилизованных» приходских центров… Сокращение численности населения, кабальные размеры, дани и режим квотирования принудительного труда, вынудили тысячи людей оставить свои дома и перетасовали все население[342],
В Андах резкий контраст между центрами цивилизации и «отдаленными районами коренного населения», видимо, имел в доколониальном прошлом свой аналог — водораздел между королевскими дворами инков и сопротивлявшимся их власти населением периферии. Но принцип высотности размещения в данном случае работал иначе: государственные центры инков располагались на больших высотах, тогда как периферия, наоборот, — в низинах, влажных экваториальных лесах, чьи жители в течение долгого времени не сдавались инкам. Это обратное соотношение — важное напоминание о том, что ключевым фактором государственного строительства в досовременную эпоху была концентрация пахотных земель и рабочей силы, а не сама по себе высотность над уровнем моря. В Юго-Восточной Азии больше всего подходящих для поливного рисоводства земель расположено на более низких высотах, а в Перу, наоборот, земли менее плодородны на высоте ниже двух тысяч семисот метров, где буйно разрастается не поливной рис, а кукуруза и картофель — основные продукты Нового Света[343]. Несмотря на обратное соотношение высотности и возникновения центров государственности в цивилизации инков, их государства, как и испанские, породили сопротивляющуюся им «варварскую» периферию. Наиболее удивителен и поучителен в испанской колонизации тот факт, что созданная ею варварская периферия состояла из людей, бегущих из сложных оседлых сообществ, совершенно сознательно выбравших жизнь вдали от опасностей и притеснений государственного пространства. Для этого им приходилось оставить свои постоянные поля, упростить социальную структуру, распасться на более мелкие и мобильные группировки. По иронии судьбы им превосходно удавалось дурачить первое поколение этнографов, которые поверили, что рассеянные народы, например яномамо, сирионо и тупи-гуарани, были уцелевшими остатками примитивных сообществ.
Население, которому удалось отбиться от европейского контроля, на время сформировало зоны неподчинения. Эти осколочные зоны, особенно если они были богаты продовольственными ресурсами, как магниты, притягивали отдельных личностей, небольшие группы и целые сообщества, которые искали прибежища вне пределов досягаемости колониальных властей. Шварц и Оаломон показали, как живаро и соседние с ними запаро, отбившие нападения европейцев и установившие контроль над несколькими племенами-данниками в верховьях Амазонки, обрели подобную притягательную силу магнита[344]. Неизбежные последствия демографического притока обусловили специфическую характеристику большинства регионов бегства: лоскутность поразительно сложных идентичностей, этничностей и культурных амальгам.
В Северной Америке в конце XVII и почти на всем протяжении XVIII века регион Великих озер был зоной бегства и притока населения, поскольку Британия и Франция боролись за господство силами своих союзников среди коренных американцев, прежде всего ирокезов и алгонкинов. Регион просто кишел беглецами и беженцами из множества районов. Ричард Уайт назвал эту зону «миром, сотканным из осколков»: здесь соседствовали деревни, жители которых имели абсолютно несхожее происхождение, и другие поселения со смешанным составом населения, заброшенного сюда силой обстоятельств[345]. В подобных условиях власть даже на уровне отдельной деревушки была очень шаткой, а сами поселения — крайне нестабильны.
Оплетенное воедино самым невообразимым образом этническое многообразие в зонах бегства в Новом Свете еще более усложнилось с притоком беглецов из нового населения, завезенного сюда именно для того, чтобы компенсировать неудачную попытку закабалить коренных жителей: в основном речь идет об африканских рабах. Поскольку рабы, будучи, конечно, сами по себе многоликой и многоязычной группой, также спасались от закабаления, они оказывались в регионах бегства, уже занятых коренными жителями. Во Флориде, Бразилии, Колумбии и многих районах Карибского бассейна это столкновение привело к формированию разнородного населения, которое не поддается простому описанию. Кроме того, рабы и коренные жители не были единственными, кто не смог устоять перед искушением жить на расстоянии от государства. Искатели приключений, торговцы, бандиты, беглецы от закона, изгои — типичные фигуры для большинства приграничных районов — также прибивались к этим пространствам и еще больше усугубляли их и без того исключительную сложность.
Здесь также можно обозначить условную историческую модель. Расширение государства, если оно подразумевало принудительный труд, способствовало (если позволяли географические условия) росту межгосударственных зон бегства и спасения. Жители подобных зон — это обычно сложное сочетание беглецов и поселившихся здесь прежде народов. Европейская колониальная экспансия, безусловно, предоставляет наилучшим образом задокументированные примеры этой модели. Однако она применима и к ранним этапам развития современной Европы. Казачьи поселения на границах Российской империи, формировавшиеся из беглых крепостных с XV века, — яркий пример того, о чем идет речь и к чему мы вернемся позже.
Второй пример — «коридор вне закона», образовавшийся в конце XVII — начале XVIII века между аграрными государствами Пруссии и Вранденбурга и морскими державами Венеции, Генуи и Марселя, — особенно показателен[346]. Конкуренция аграрных государств за новобранцев вела к постоянным облавам на «бродяг» — фактически на всех, кто не имел постоянного места жительства, — чтобы выполнить драконовские квоты вербовки. Цыгане, самые стигматизированные и преследуемые из нищих бродяг, были объявлены преступниками и стали объектом печально известной «Охоты на цыган» (Zegeuner Jagt). На юго-западе Европы столь же жестокая борьба развернулась между морскими державами за галерных рабов, число которых также пополнялось за счет принудительной вербовки беднейших бродяг. Военная служба или работа на галерах в каждой из обозначенных территориальных зон были узаконенной альтернативой смертной казни, и облавы на бродяг по времени всегда совпадали с острой необходимостью в военном пополнении.
Между двумя зонами принудительного закабаления пролегала небольшая полоска относительной свободы, куда сбегали многие кочующие бедняки, особенно цыгане. Это была ничейная земля, узкая зона бегства, которая получила название «коридор вне закона». Фактически он представлял собой скопление мигрантов «между Палатинским холмом и Саксонией, которое было слишком отдалено от прусско-бранденбургской зоны военной вербовки, а также от Средиземноморья (в последнем случае расходы на транспортировку превышали стоимость одного раба)»[347]. Как и зоны бегства, описанные Агирре Бельтраном, и все беглые сообщества в целом, «коридор вне закона» был эффектом государства и в то же время противостоявшим ему социальным пространством, появившимся как сознательный ответ и сопротивление подчинению[348].
Прежде чем мы перейдем к Вомии, рассмотрим два заслуживающих хотя бы краткого упоминания примера «горных» беглецов от государственного контроля в Юго-Восточной Азии. Первый — зоной бегства стали горы Тенгер на востоке острова Ява — пример того, насколько важную роль в мотивах миграции играют соображения сохранения культурной и религиозной самобытности[349]. Второй пример — достаточно исключительный случай Северного Лусона, где зона спасения от государства, куда устремлялись беглецы, прежде была практически необитаема.
Горы Тенгер примечательны тем, что стали на острове Ява основным оплотом неисламского, шиваитского культа буддийской традиции: единственный из всех местных культов, он смог избежать поглощения волной исламизации, которая последовала за крушением последнего крупного индо-шиваитского королевства (Маджапахит) в начале XVI века. Местные источники утверждают, что основная часть побежденного населения переселилась на Вали, а небольшая — укрылась в горах. Как отмечает Роберт Хефнер, «удивительно, что нынешние жители гор Тенгер сохранили столь сильную приверженность индуистскому культу, хотя у них отсутствуют иные отличительные черты индуизма: касты, королевские дворы и аристократия»[350]. Население гор периодически пополнялось благодаря новым волнам мигрантов, ищущих спасения от равнинных государств. Когда в XVII веке в долине возникло королевство Матарам, оно неоднократно посылало экспедиции в горы для захвата рабов, вынуждая тех, кто избежал плена, перемещаться выше по склонам в поисках относительной безопасности. В 1670-х годах мадурский принц поднял мятеж против Матарама, ставшего голландской колонией, но восстание было разгромлено, и рассеянные мятежники устремились в горы, убегая от голландских преследователей. Другой бунтарь и основатель Пасуруана, бывший раб Оурапати, был также разгромлен голландцами, но его потомки в течение многих лет продолжали сопротивление из своих крепостей в горах Тенгер. Пример заселения гор Тенгер как результат того, что Хефнер называет 250 годами политического насилия, как следствие скопления беглецов — от рабства, военных поражений, налогов, культурной ассимиляции и принуждения к земледелию в годы голландской колонизации — просто потрясающий.
К концу XIX столетия значительная часть населения переместилась еще выше — в места, которые были труднодоступны и хорошо обороняемы, но исключительно рискованны с экономической точки зрения. Факт бегства ежегодно отмечается немусульманскими жителями гор, которые кидают свои подношения в вулкан в память о спасении от мусульманских армий. Несмотря на свой индуизм, местные жители создали особую культуру, основанную на традициях независимых домохозяйств, на уверенности в собственных силах, самообеспечении и неприятии социальных иерархий. Резкий контраст этих культурных традиций с устойчивыми особенностями жизни в долинах поразил офицера, впервые инспектировавшего местное лесное хозяйство: «Вы не смогли бы отличить богатого от бедного. Все разговаривали одинаково, причем со всеми, невзирая на социальные позиции. Дети разговаривали со своими родителями и даже с вождем деревни на обычном пдоко. Никто никому не кланялся в пояс и не склонял головы»[351]. Как отмечал Хефнер, основная цель жителей гор Тенгер — не допустить, чтобы тобой «командовали/помыкали»; и это стремление совершенно расходится с принятыми в яванских долинах детально продуманными системами иерархий и статусно-кодифицированного поведения. И демография, и этос гор Тенгер, соответственно, могут справедливо считаться эффектом государства — это географическое пространство в течение половины тысячелетия заселялось ускользающими от государства беженцами с долин, чьи эгалитарные ценности и индуистские обряды совершенно сознательно были спроектированы как полная противоположность социальному устройству чувствительных к чинам и званиям и исповедующих ислам жителей долин[352].
Второй исторический пример из островной части Юго-Восточной Азии структурно воспроизводит ту модель, которой я хочу воспользоваться для анализа Вомии, — горные районы Северного Лусона. Как и горы Тенгер, Северный Лусон можно рассматривать как мини-вариант Вомии, заселенный в основном беглецами, не желающими подчиняться власти равнинных государств.
В своей «Этноистории Северного Лусона», тщательно снабженной документальными свидетельствами, Феликс Кисинг ставит перед собой задачу обозначить культурные и этнические различия между жителями нагорий и равнин. Он сразу отвергает концепции, базирующиеся на посылке об эссенциалистских, примордиалистских различиях двух групп, — она бы потребовала разработки двух совершенно разных миграционных историй, чтобы объяснить их присутствие на острове Лусон. Наоборот, Кисинг полагает, что различия этих групп складывались в ходе длительной испанской колонизации и обусловлены «экологической и культурной динамикой, сказавшейся на изначально едином населении»[353]. Иными словами, опять перед нами результаты бегства от государства, случившегося более пятисот лет назад.
Однако еще до прибытия испанцев в XVI веке некоторая часть островного населения переместилась во внутренние районы, скрываясь от набегов мусульманских рабовладельцев на побережья. Оставшиеся жить в прибрежных районах нередко возводили на берегах сторожевые башни, чтобы сразу же извещать население о приближении работорговцев. Причин для избегания закабаления стало многократно больше, когда испанцы обосновались на острове. Как и в рисовых государствах, здесь также основой государственного строительства была концентрация населения и сельскохозяйственного производства на ограниченном пространстве[354]. Монастырские усадьбы, как и миссионерские общины (reducciones) в Латинской Америке, стали инструментами принуждения к труду, слегка завуалированными идеологическими претензиями на роль «цивилизации, обращающей в христианство». Из этих «домов принуждения» равнинных государств население бежало во внутренние районы и горы, которые, как полагает Кисинг, на тот момент были практически не заселены. Он утверждает, что, согласно документальным свидетельствам, «группы местных жителей оказывались перед выбором — либо подчиниться иностранному управлению, либо отступить вглубь страны. Некоторые предпочли скрыться в глубине страны, другие отступили в горные районы в ходе случавшихся время от времени восстаний против испанского правления… В годы испанской колонизации бегство населения в горы стало основной темой в рамках изучения исторического прошлого по всем девяти направлениям исследований»[355].
В большинстве своем жители нагорий когда-то прежде жили на равнинах, и их бегство высоко в горы запустило сложный и многоаспектный процесс дифференциации[356]. В новых экологических условиях разнообразные группы беженцев выработали новые жизненные практики. Например, ифугао создали весьма изощренную систему террасирования на больших высотах над уровнем моря, которая позволила им продолжить выращивание поливного риса. Большинство других групп перешло от оседлого зернового земледелия к подсечно-огневому и/или к собирательству. Когда через много лет эти группы были обнаружены иностранцами, они сочли их фундаментально иными, чем жители равнин, народами, которые не смогли перейти на следующую после «примитивных» хозяйственных практик ступень развития. Кисинг предупреждает о необоснованности и бессмысленности столь удобного убеждения, что сегодняшние собиратели неизбежно были собирателями и сотни лет назад — с тем же успехом они могли быть и земледельцами. Разнообразные сроки множества миграционных волн, их распределение по различным высотам и выбор несхожих образов жизни, по мнению Кисинга, определили феноменальную мозаичность горного этнопейзажа в противовес равнинному однообразию. Он предлагает схематичное объяснение, как могла произойти подобная этническая дифференциация: «Простейшая теоретическая модель… рисует перед нами одну исходную группу, часть которой осталась на равнине, а часть поднялась в горы. Каждая из групп затем проходит через процесс этнического переформатирования, вследствие чего они становятся совершенно разными. Продолжительные контакты, например торговля или даже война, оказывают на них значимое влияние. Мигрировавшая в высокогорья группа могла разбиться на части, которые расселились в несхожих экологических нишах, скажем, на разных высотах, что усилило предпосылки и возможности для переформатирования»[357]. Дихотомия гор и долин обусловлена тем историческим фактом, что часть населения равнинных государств бежала в горы. Культурное, лингвистическое и этническое многообразие в горах — результат и конфликта с государствами, и огромной вариативности экологических условий, и относительной изоляции горных сообществ друг от друга вследствие сложного ландшафта.
Как и в большинстве регионов мира, образ жизни в горах и на равнинах социокультурно кодирован и нагружен. На острове Лусон равнины ассоциировались с католицизмом, крещением, закабалением (налоги и барщина) и «цивилизацией». О точки зрения жителей долин, специфику жизни в горах определяли язычество, вероотступничество, первобытная дикость, жестокость и неповиновение. В течение длительного времени обряд крещения считался публичным признанием подчинения новым правителям, а бегство в горы — бунтом (беглецы назывались remontados — «ушедшие назад в горы»). Как и везде, государственные центры на равнинах проводили различие между «дикими» (feroces) горными народами и «прирученными» (dociles), примерно так же как кавалерия Соединенных Штатов различала «дружелюбных» и «враждебных краснокожих». На острове Лусон раскол местного населения на две группы, обусловленный политическим выбором между принятием подданства достаточно иерархизированного равнинного государства и ведением относительно свободного образа жизни в горах, был переформатирован и представлен как эссенциалистское и примордиалистское различие между цивилизованным и высокоразвитым населением, с одной стороны, и примитивными, отсталыми народами — с другой.
Заселение Зомии: долгий путь
Понятие «дикари», используемое столь многими авторами для, обозначения всех горных племен Индокитая, слишком некорректно и порождает заблуждения, поскольку на самом деле многие из этих племен более цивилизованны и гуманны, чем закабаленные налогами жители равнинной части страны — не более чем осколки прежде могущественных империй.
— Арчибальд Росс Колкухоун. Среди шанов, 1885
Заселение Вомии — в значительной степени эффект государства. Масштабы миграции населения на протяжении почти двух тысячелетий из бассейнов Янцзы и Жемчужной реки, с Оычуаньского и Тибетского нагорий сложно оценить даже куда более компетентным исследователям, чем я. Теорий и легенд здесь предостаточно, а вот достоверных фактов крайне мало, не в последнюю очередь потому, что рассматриваемым «народам» было придумано столько различных и несочетаемых названий, что редко можно быть уверенным, о ком, собственно, идет речь. Нет никаких оснований полагать, например, что группа, называемая мяо, причем это в любом случае экзоним, в XV веке хоть каким-то образом связана с группой, которую называет мяо ханьский чиновник в XVIII веке. Причем ситуация запутана далеко не только на терминологическом уровне. В хаосе повторяющихся миграций и культурных столкновений практически все группы так часто переформатировались и видоизменялись, что вряд ли имеет хоть какой-то смысл предполагать, что они обладают долгосрочной генеалогической или лингвистической преемственностью.
Сталкиваясь со столь воистину непреодолимой неопределенностью идентичностей, можно лишь набраться смелости высказать несколько широких обобщений о принципиальных характеристиках миграции населения. Когда ханьские царства расширялись за пределы своих исконных нерисовых территорий в районе Желтой реки, они неизбежно захватывали новые земли у рисовых государств, расположенных в бассейне Янцзы и Жемчужной реки и к западу вдоль течения рек по равнинам. Живущее на захватываемых землях население оказывалось перед необходимостью выбора одного варианта из трех: ассимиляция/ поглощение, восстание или бегство (нередко после неудачного сопротивления). Изменчивый ритм мятежей в провинциях в годы правления разных династий позволяет примерно оценить географическую и историческую поступь экспансии ханьского государства. Бунты обычно вспыхивали в тех зонах, где ханьская экспансионистская политика была особенно агрессивна. Ниже представлена таблица восстаний, достаточно широкомасштабных, чтобы попасть в Большую китайскую энциклопедию.
Таблица 2 отражает основной удар династии Тан по провинции Юньнань и последовавшие за ним усилия династии Сун установить контроль над провинциями Сычуань, Гуанси и Хунань. Сравнительное затишье, по крайней мере в этом регионе, сменилось в конце XIV века крупным вторжением династии Мин, почти триста тысяч солдат и военных колонистов которой должны были разгромить и обратить в бегство сторонников династии Юань. Многие оккупанты оставались на захваченных территориях в качестве поселенцев, как и сторонники династии Юань до них, что порождало многочисленные бунты, особенно среди мяо и яо в Гуанси и Гуйчжоу[358]. Имперская агрессия и вооруженное сопротивление ей на этих территориях, не отраженные в таблице, продолжались и в годы правления Маньчжу/Цин, чья политика перехода от сбора дани к прямому управлению посредством ханьских чиновников породила новые волнения и бегство населения. C 1700 по 1860 год примерно три миллиона ханьских поселенцев и солдат прибыли в юго-западные провинции, увеличив долю ханьцев в двадцатимиллионном населении этого региона до 60 %[359].
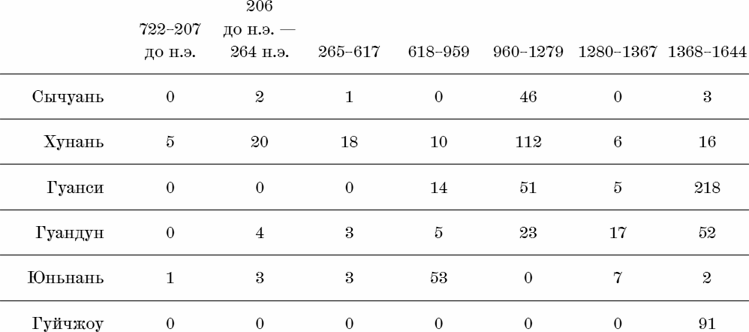
Источник: Wiens H. J. China’s March toward the Tropics: A Discussion of the Southward Penetration of China’s Culture, Peoples, and Political Control in Relation to the Non-Han-Chinese Peoples of South China in the Perspective of Historical and Cultural Geography. Hamden, Conn.: Shoe String, 1954. P. 187.
На каждом новом этапе ханьской экспансии определенная часть населения, большая или малая, переходила под управление ханьской администрации и в итоге поглощалась в качестве подданных и налогоплательщиков империи. Хотя эти группы оставили свой отпечаток, нередко очевидный, на том, как в каждой конкретной местности определялось «быть ханьцем», постепенно они исчезали как отдельные этнические группы с собственным именем и внятной самоидентификацией[360]. Если же в наличии были свободные территории, куда могли сбежать те, кто предпочитал оставаться вне пределов ханьского государства, возможность эмиграции была постоянной. Группы, привыкшие к поливному рисоводству, в первую очередь тай/лао, перемещались на небольшие горные долины, где проще всего было выращивать поливной рис. Другие группы обретали шанс оставаться свободными, уходя на отдаленные горные склоны и в ущелья, которые ханьцы считали бесперспективными с финансовой точки зрения и безнадежными в сельскохозяйственном отношении. Таков основополагающий механизм, благодаря которому, как нам кажется, в течение столетий заселялись горы Вомии. Вот как Гарольд Вьенс, первый летописец этих широкомасштабных миграций, суммировал суть происходившего:
Результатом вторжений стало заселение южной части Китая, хань-китайцами — поэтапно и по нарастающей от долины реки Янцзы на, юго-запад к границам провинции Юньнань. Это вынуждало племенные народы перемещаться к югу Китая, со своих обжитых мест, бросая лучшие с сельскохозяйственной точки зрения земли. Передвижение племенных народов, полных решимости сохранить свой образ жизни, происходило в направлении малонаселенных приграничных территорий, где неблагоприятные природные условия гарантировали сдерживание молниеносного натиска хань-китайского государства — это были влажные, жаркие, малярийные районы. Вторым направлением перемещений местного населения стал вертикальный подъем, в самые неблагоприятные для жизни условия, высокогорий, в большинстве своем непригодных для выращивания риса, а потому не интересующих хань-китайских земледельцев. В первом направлении осуществляли миграцию жившие прежде в долинах, выращивавшие рис, любившие воду племена тай. Во втором направлении — горные собиратели, подсечно-огневые земледельцы мяо, яо, лоло и близкие им группы. Тем, не менее вертикальное перемещение не предоставило достаточного пространства для всех вынужденных горных переселенцев, поэтому внутри них выделились группы, которые продолжили перемещение к южным, и юго-западным приграничным территориям и даже пересекли границы с Вьетнамом-Лаосом, Северным Таиландом, и Северной Бирмой[361].
Великий горный барьер на пути экспансии ханьской имперской власти и создания поселений, который максимально затрудняет передвижение, расположен в высокогорьях провинций Юньнань, Гуйчжоу и на севере и западе провинции Гуанси. Поскольку эта сложная и рельефная топография тянется на юг, пересекая сегодня уже международные границы, к северным регионам государств, расположенных на материковой части Юго-Восточной Азии, и к северо-востоку Индии, следует считать эти районы частью того, что мы называем Вомией. Именно к этому географическому бастиону, встававшему на пути государственной экспансии, устремлялось население, искавшее спасения от поглощения. О течением времени адаптировавшись к горным условиям и, как будет показано ниже, создав социальную структуру и образ жизни, способствующие избеганию государства, сегодня горные народы воспринимаются своими равнинными соседями как жалкие, обнищавшие, отсталые племена, не обладавшие даром приобщения к цивилизации. Но, как объясняет Вьенс, «нет никаких сомнений в том, что древнейшие предки нынешних „горных племен“ также населяли долины… И было это ненамного позже, чем здесь сложилось четкое различение мяо и яо как жителей гор. Оно стало не столько результатом неких предпочтений, сколько неизбежным следствием желания этих племен избежать подчинения или уничтожения»[362]. Любая попытка сконструировать исторически глубокий и соответствующий действительности нарратив о миграционных перемещениях какого-либо народа чревата сложностями, частично обусловленными тем, что подобные группы слишком часто переформатировались. Тем не менее Вьенс попытался сложить из обрывочных сведений схематичную версию истории крупной группы, известной ханьцам как мяо, часть которой называет себя хмонгами. Вероятно, примерно в YI веке «люди мяо» («варвары») со своей собственной управленческой верхушкой представляли основную военную угрозу для ханьских равнинных государств на севере Янцзы, о чем свидетельствуют более сорока восстаний в период с 403 по 610 год. В какой-то момент их сопротивление было подавлено, и считалось, что те из мяо, кто не был поглощен ханьским населением, превратились в рассеянный, разрозненный народ без собственной знатной верхушки. Со временем название «мяо» стало использоваться почти огульно, по отношению практически к любым народам, жившим без верховных вождей на окраинах Ханьской империи, оказавшись, по сути, синонимом «варвара». В течение последних пятисот лет, в эпоху правления династий Мин и Цин, кампании по ассимиляции или «подавлению и уничтожению» проходили почти постоянно. Карательные экспедиции, последовавшие за восстаниями 1698, 1732 и 1794 годов, но прежде всего после мятежа в Гуйчжоу в 1855 году, рассеяли мяо по всему юго-западу Китая и горам в материковой части Юго-Восточной Азии. Вьенс описывает эти кампании как сопоставимые по масштабам изгнания и уничтожения с «американским обращением с индейцами»[363].
Одним из результатов молниеносного бегства мяо стало их рассеяние по всей территории Вомии. Хотя обычно они живут на больших высотах, где выращивают опиум и кукурузу, можно обнаружить мяо/хмонгов, возделывающих поливной рис и занимающихся собирательством и подсечно-огневым земледелием на умеренных высотах. Вьенс связывает это разнообразие со временем появления хмонгов в конкретной местности, а также с их относительной силой в противостоянии с конкурирующими группами[364]. Если пришедшие позже всех обладали военным превосходством, они обычно захватывали равнинные земли и вынуждали местных жителей перемещаться выше, наращивая высотность проживания[365]. Если же пришедшие позже всех были слабы, то занимали оставшиеся ниши, которые часто располагались на более высоких горных склонах. В любом случае на каждой скале или горной гряде наблюдалось вертикальное ранжирование «этничностей». Так, на юго-западе провинции Юньнань моны живут ниже полутора тысяч метров, тай — в горных впадинах не выше тысячи семисот метров, мяо и яо — еще выше и, наконец, акха, вероятно, самая слабая группа в данной местности, селятся у гребней гор, на высоте до тысячи восьмисот метров.
Из всех культур и народов, вытесненных на запад и юго-запад в горы Вомии, тай, видимо, был самым многочисленным, а потому сегодня столь известен. Большая лингвистическая семья тай включает не только тайцев и живущих в долинах лао, но и шанов в Бирме, джуангов на юго-западе Китая (крупнейшее национальное меньшинство в Китайской Народной Республике) и различные родственные им группы на севере Вьетнама по дороге в Ассам. Что отличает многих (но не всех) представителей народа тай от большинства жителей Вомии, так это то, что, судя по всему, они всегда стремились к государственному строительству. Они в течение длительного времени занимались поливным рисоводством, поддерживали социальную структуру авторитарного типа, ценили военную доблесть и нередко исповедовали мировую религию, что способствует формированию государственности. Поэтому в историческом контексте корректнее считать «тайскость» неким аналогом «малайскости», то есть технологией государственного строительства, поддерживаемой и реализуемой тончайшим верхним слоем общества из военной элиты/аристократии, который со временем ассимилировал множество разнообразных народов. Величайшим достижением тай в создании государственности было королевство Наньчжао и деятельность его наследника Дали в провинции Юньнань (737–1153), который отбивался от вторжений династии Тан и даже на время смог захватить столицу провинции Оычуань Чэнду[366]. Прежде чем быть уничтоженным в ходе монгольского вторжения, этот центр политической власти завоевал королевство Пиу в Центральной Бирме и расширил свое влияние на Северный Таиланд и Лаос. Монгольское завоевание привело к дальнейшему рассеянию населения по высокогорьям Юго-Восточной Азии и за ее пределы. Везде в горах, где находилась пригодная для рисоводства долина, можно было обнаружить небольшое государство, аналогичное создаваемым народом тай. За исключением благоприятных природных условий, в которых возникли Чиангмай и Чёнгтун, большинство подобных государств были крайне слабы и не могли сохраниться в своих тесных экологических границах. В основном они так рьяно соперничали друг с другом за население и торговые пути, что один британский наблюдатель метко охарактеризовал горы Восточной Бирмы как «бедлам перегрызшихся шанских государств»[367].
Сложность и запутанность миграционных процессов, этнических изменений и хозяйственных практик в Вомии или любой другой достаточно долго сохраняющейся осколочной зоне обескураживают. Хотя группа изначально могла переместиться в горы, чтобы спастись, например, от давления ханьского или бирманского государства, ее бесчисленные последующие передвижения и фрагментация могли иметь под собой массу оснований, скажем, конкуренцию с другими горными племенами, недостаток земель для подсечно-огневого земледелия, внутригрупповые конфликты, череду неудач, истолкованных как недружелюбный настрой местных духов, спасение от набегов и т. д. Более того, любая крупная миграционная волна запускала цепную реакцию более мелких перемещений, наподобие вторжений степных народов, которые нередко сами были вынуждены перемещаться под давлением других групп, поставивших на колени Римскую империю, или же, если использовать более современное сравнение, миграционные процессы напоминали безумный ярмарочный аттракцион, в котором машинки ударяются бамперами, и каждая из них после столкновения врезается одновременно в несколько других, и порождает цепную волну «аварий»[368].
Повсеместность бегства от государства и его причины
Многие из бирманцев и жителей Негу, будучи не в состоянии больше выносить жестокие притеснения, постоянные принуждения к труду и денежные поборы, отрывами себя, от родной земли вместе с семьями… а потому не только из-за армий, но и из-за этих причин население царства в последнее время сильно сократилось… Когда я впервые приехал в Негу, за каждым поворотом великой реки Авы [Иравади] открывалась передо мной длинная череда селений, но после моего возращения мало деревень осталось по берегам реки на всем ее протяжении.
— Отец Самджерммно, 1800
Нерегулярное, но неумолимое выталкивание Ханьской империей и ханьскими поселенцами людей в Вомию на протяжении почти двух тысячелетий, несомненно, было единым великим историческим процессом, определившим перемещение населения в горы. Однако он никоим образом не был единственной движущей силой данной миграции. Разрастание других государственных центров, таких как Пиу, Пегу, Наньчжао, Чиангмай, и разнообразных бирманских и тайских королевств также заставляло людей перемещаться и вытесняло их за свои пределы. «Обычные» государственные процессы, такие как налогообложение, принудительный труд, войны и мятежи, религиозное инакомыслие и экологические последствия государственного строительства, обусловили одновременно и вполне обыденное вытеснение несогласных, и, что имело более важное историческое значение, те моменты, когда обстоятельства жизни в государстве порождали широкомасштабное, мгновенное и безудержное бегство подданных.
Сложно преувеличить степень, в какой земледельцы Юго-Восточной Азии, будь то в долинах или в горах, были вольны в своих действиях. Первые европейские путешественники, колониальные чиновники и историки региона отмечали исключительную склонность сельских жителей мигрировать, как только их не устраивали условия жизни или привлекали возможности нового места. «Географический справочник Верхней Бирмы и Шанских штатов», содержащий краткое описание тысяч деревень и городов, подтверждает это[369]. Вновь и вновь его составителям сообщали, что деревня была основана недавно или несколько поколений назад людьми, которые пришли из других мест, спасаясь от войны или угнетения[370]. В других случаях поселения, которые прежде были процветающими городами, либо оказывались полностью заброшены, либо уменьшились до размеров небольших деревушек с несколькими оставшимися жителями. Все имеющиеся свидетельства говорят о том, что в доколониальный период вынужденные перемещения и добровольная миграция были скорее правилом, чем исключением. Поразительная и широко распространенная физическая мобильность земледельцев Юго-Восточной Азии, включая тех из них, кто занимался ирригационным рисоводством, совершенно не согласуется с «сохраняющимся стереотипным представлением о территориальной закрепленности крестьянских домохозяйств». И все же, как поясняет Роберт Элсон, «именно мобильность, а не постоянство, была основным принципом крестьянской жизни в эту [колониальную] эпоху, как и во все предыдущие»[371].
Большая часть миграционных перемещений, несомненно, происходила в долинах: из одного равнинного государства — в другое, из центра государства — на его периферию, из бедных ресурсами территорий — на богатые[372]. Но, как мы уже увидели, значительная часть этих передвижений была направлена в горы, на большие высоты, то есть в районы, фактически недосягаемые для равнинных государств. В ответ на введенные Бирмой в начале XIX века после вторжения в Ассам воинские повинности и налоги население Монкауна, города в долине в верховьях реки Чиндуин, сбежало на возвышенность: «Чтобы избежать угнетения, которому они постоянно подвергались, шаны искали убежища в отдаленных долинах на берегах реки Чиндуин, а качины — в ущельях гор на восточной оконечности долины»[373]. Продолжая эту логику рассуждений, Дж. Дж. Скотт писал, что «горные племена» были вытеснены в горы и в результате поражения принуждены к тому, что он ошибочно считал более обременительной формой сельского хозяйства. «Тяжелый труд достался умеренно первобытным и другим племенам, которых бирманцы давным-давно согнали с плодородных равнин»[374]. В другой части книги, размышляя об этническом многообразии горных районов, Скотт смело сформулировал обобщенную характеристику Вомии как обширной зоны бегства, или «осколочной зоны». Его оценка, во многом созвучная идеям, ранее высказанным Вьенсом, заслуживает того, чтобы быть процитированной полностью:
Индокитай [Юго-Восточная Азия], видимо, был общим убежищем для беглых племен из Индии и Китая. Экспансия Китайской империи, которая в течение столетий не пересекала на юге реку Янцзы, а также набеги скифских племен на империи Чандрагупты и Ашоки заставили местные народы перемещаться на север и северо-запад, где, встретившись, они стали бороться за свое существование в Индокитае. Только подобная концепция может объяснить экстраординарную вариативность и явную несхожесть рас, которые мы обнаруживаем в скрытых долинах и на горных хребтах Шанских штатов и окружающих государств[375].
Я убежден, что трактовка Скоттом Вомии как региона-убежища по сути своей верна. Ошибочно в ней неявное предположение, что горные народы, с которыми столкнулись колонизаторы, изначально были «аборигенными» племенами и что их последующая история представляет собой последовательность этапов жизни стабильного сообщества, непрерывно развивающегося генеалогически и лингвистически. Многие народы, живущие в горах, по всей видимости, когда-то очень давно были жителями равнин, покинувшими государственное пространство. Другие, впрочем, сами занимались «государственным строительством» в долинах, как, например, многие представители народа тай, но потерпели поражение от более мощных государств, оказались рассеяны или же сообща переселились в горы. Третьи, как будет показано ниже, были осколками равнинных государств: дезертировавшими новобранцами, мятежниками, солдатами разгромленных армий, разорившимися крестьянами, спасающимися от эпидемий и голода сельскими жителями, беглыми крепостными и рабами, претендентами на трон и их сторонниками, религиозными инакомыслящими. Именно эти люди, отвергнутые равнинными государствами, вместе с постоянным смешением и переформатированием горных сообществ в ходе их миграций стали причиной того, что идентичности в Вомии представляют собой столь ожидаемо ставящую в тупик головоломку для любого исследователя[376].
Насколько решающее демографическое значение для заселения гор имело бегство сюда людей — сегодня сложно сказать. Чтобы оценить его роль, нам понадобилось бы больше, чем имеется в нашем распоряжении, данных о том, каким было население гор тысячу и даже больше лет назад. Однако разрозненные археологические доказательства, которыми мы обладаем, позволяют предположить, что горные районы были слабо заселены. Пол Уитли утверждал, что в горных районах островной части Юго-Восточной Азии, вероятно, как и в описанных Кисингом горах Северного Лусона, вплоть до недавнего прошлого практически никто не жил, а потому они «не имели значения для человека до конца XIX столетия»[377].
Причины, по которым подданные равнинных государств по собственному желанию или по принуждению снимались с места, не поддаются простому объяснению. Ниже представлено описание нескольких наиболее распространенных поводов для миграции. Среди них не указано одно весьма обычное историческое событие, которое, так сказать, помещало людей вне государственного пространства, хотя они не совершали для этого никаких действий, — сжатие или крах государственной власти в самом ее сердце[378].
Налоги и барщина
Основным принципом искусного управления государством в Юго-Восточной Азии в доколониальный период, который столь же часто нарушался, сколь и соблюдался, было угнетение подданных лишь до того момента, за которым следовал их массовый отток из страны. В регионах, где относительно слабые царства соперничали за обладание рабочей силой, население в целом не испытывало особого давления со стороны государства. В подобных условиях людей чаще соблазняли зерном, рабочим скотом и инвентарем — все это предоставлялось тем, кто соглашался селиться в малонаселенных районах.
Крупное государство, господствуя на значительной территории поливного рисоводства, будучи политическим монополистом, было склонно выжимать из населения все соки. Особенно это было характерно для центра страны, а также для периодов, когда королевство атаковалось извне или управлялось монархом с грандиозными планами военной агрессии или строительства пагод. Население, проживавшее в Кьяуксе, классическом сельскохозяйственном центре всех доколониальных бирманских королевств, всегда было чудовищно бедным по причине чрезмерного налогового бремени[379]. Риск гиперэксплуатации усугублялся рядом характеристик доколониального управления: использование «откупщиков», которые выкупали право собирать налоги и стремились получить прибыль; тот факт, что примерно половина населения была пленниками или их потомками; трудность оценки крайне важного показателя — урожайности — для любого года и, соответственно, затрат на его транспортировку. Более того, барщина и налоги с домохозяйств и земли были далеко не единственными. Налоги и сборы взимались в принципе со всего, с чего возможно: домашнего скота, святилищ духов-натов, заключения браков, рубки леса, рыболовных снастей, смолы для конопачения, соли и перца, пчелиного воска, кокосовых и бетелевых пальм и слонов, и, конечно, не следует забывать о бесчисленных поборах на рынках и дорогах. Здесь полезно вспомнить, что рабочее определение подданного королевства фиксировало не столько этнический, сколько гражданский статус — как человека, который должен платить налоги и отрабатывать барщину[380].
У доведенного всем этим до предела подданного оставался выбор. Видимо, самым распространенным вариантом был уход с обременительной службы короне и превращение в «подданного» конкретного знатного человека или религиозной институции, которые конкурировали за обладание рабочей силой. Если это не удавалось, оставалась возможность переместиться в другое, близлежащее равнинное государство. За последние три столетия тысячи монов, бирманцев и каренов именно так попали в сферу тайской юрисдикции. Другой имевшийся у подданного вариант — бегство за пределы досягаемости государства во внутренние районы страны и/или в горы. Все перечисленные возможности обычно были более предпочтительны, чем риски открытого восстания, которое в основном соответствовало интересам претендующей на трон элиты. Даже в 1921 году ответом мьенов и хмонгов на сильнейшее давление тайского государства с целью принуждения подданных к отработке барщины стало бегство в леса, после чего они исчезали из поля зрения государственных чиновников, и, видимо, это было именно тем, к чему беглецы стремились[381]. Оскар Оалеминк упоминает и более современные случаи, когда горные жители группами перемещались на более отдаленные территории, нередко расположенные еще выше, чтобы избежать поборов вьетнамских чиновников и служб[382].
Как уже было отмечено, отток населения выполнял функцию своеобразного гомеостатического клапана, ослабляющего власть государства. Часто он был первым явным признаком того, что чаша терпения народа переполнена. Следующим признаком, часто упоминаемым в хрониках, было появление «блуждающего» населения — от отчаяния занявшегося либо попрошайничеством, либо грабежами и разбоем. Единственным надежным способом избежать тягот жизни подданного государства в тяжелые времена было бегство. Подобное решение часто означало переход от поливного рисоводства к подсечно-огневому земледелию и собирательству. Насколько этот переход был широко распространен, сегодня сложно сказать, но, судя по количеству устных историй, в которых горные народы вспоминают себя в прошлом как земледельцев, выращивающих поливной рис в долинах, масштабы были значительны[383].
Войны и восстания
Мы будто муравьи — уходим от проблем, в безопасное место. Мы бросили все, лишь бы оказаться в безопасности.
— Сельский житель млн, сбежавший в Таиланд, 1995
Постоянные восстания и войны между пегуанцами, бирманцами и танами… раздирали страну на протяжении пятисот лет. Все, кто не был убит, были принуждены безжалостными захватчиками оставить свои прежние дома или призваны сражаться за короля… Таким образом, в одних случаях собственники [земледельцы] были истреблены, в других — сбегали в настолько отдаленные районы, что утрачивали возможность сохранить свою наследственную собственность, как бы глубоко ни были к ней привязаны.
— Дж. Дж. Скотт [Шве Йо]. Бирманцы
Выражение «государства ведут войны, а войны создают государства», придуманное Чарльзом Тилли, столь же верно для Юго-Восточной Азии, как и для становления современной Европы[384]. В нашем случае можно продолжить высказывание Тилли: «Государства ведут войны, а войны — в огромных масштабах — порождают мигрантов». Войны в Юго-Восточной Азии были не менее разрушительны, чем на европейской территории. Военные кампании мобилизовывали больше взрослого населения, чем их европейские аналоги, и точно так же порождали эпидемии (в частности, холеры и тифа) и голод, опустошая поверженное царство и лишая его населения. Демографические последствия двух успешных бирманских вторжений в Сиам (в 1549–1569 и 1760-х годах) были чудовищны. Территории вокруг побежденной столицы обезлюдели, небольшое количество жителей было захвачено в плен и угнано в центр бирманского государства, а большая часть остального населения рассеялась по безопасным районам. К 1920 году центральный регион Сиама только-только сумел восстановить довоенную численность населения[385]. Тяготы жизни, которые несла с собой даже успешная война в район сосредоточения ударных сил кампании, часто были не менее разрушительны, чем последствия поражения для поверженного врага. Хотя бирманский король Вайиннаун захватил и разграбил столицу Сиама, мобилизация в рамках его военной кампании истощила продовольственные запасы и человеческие ресурсы в дельтовой области вокруг Пегу. После его смерти в 1581 году войны между Араканом, Аюттхаей и бирманским двором в Таунгу превратили территории вокруг Пегу в «обезлюдевшую пустыню»[386].
Война для гражданского, мирного населения, особенно живущего вдоль пути следования войск, была еще более ужасающа, чем для новобранцев. Если в конце XVII века европейская армия из шестидесяти тысяч человек требовала сорока тысяч лошадей, более сотни обозов с припасами и почти миллион фунтов продовольствия в день, можно представить, сколь велики были масштабы грабежа и разрушений на пути юго-восточно-азиатской армии[387]. По этой причине маршруты вторжений редко были прямыми, то есть кратчайшим расстоянием между двумя точками, а чаще представляли собой сложно вычерченные траектории, рассчитанные, в том числе по длительности, таким образом, чтобы обеспечить максимальное количество рабочей силы, зерна, повозок, тягловых животных и кормов, не говоря уже о мародерстве и грабежах, в которых так нуждалась крупная армия. Простой подсчет поможет осознать масштабы разрушений. Если предположить, как Джон А. Линн, что армия опустошает 8 километров территории по обе стороны от пути следования и проходит примерно 16 километров в день, то получается, что каждый день военной кампании разоряется 260 квадратных километров сельской местности. Десятидневный марш такой армии, соответственно, нанесет ущерб 26 тысячам квадратных километров[388]. Основной угрозой в ходе непрекращающихся войн между страдающими от недостатка рабочей силы королевствами была не столько опасность быть убитым: удачливый боец в подобной форме военного «грабительского капитализма» мог даже стремиться захватить людей и продать их в рабство ради прибыли. Угроза, скорее, состояла в полном опустошении тех селений, что оказывались на пути следования армии, — их жителям либо грозил захват в плен, либо они вынуждены были бежать, оставив все свое имущество на разграбление армии. Причем мало значения имело то, о какой именно армии шла речь — о «собственной» или соседнего государства, поскольку требования интендантов всех войск были схожи, как и их отношение к гражданским лицам и их собственности. Можно привести удивительный пример из истории бирмано-манипурской войны (войн), которая вспыхивала эпизодически с XVI по XVIII век. Неоднократные разорения вынудили народ чин-мизо, равнинных жителей, переместиться из долины Кабо в горы, и впоследствии они стали восприниматься как «горный народ», якобы «всегда живший здесь».
Кампании бирманского короля Водопайи (годы правления 1782–1819) в конце XVIII века во исполнение его экстравагантных мечтаний о завоеваниях и строительстве церемониальных зданий оказались разрушительными для королевства. Сначала неудачное нападение на Сиам в 1785–1786 годах, погубившее половину армии, примерно триста тысяч человек; затем массовые принудительные работы на строительстве предположительно самой большой пагоды в мире, за которыми последовали мобилизации, чтобы отбить ответную атаку тайцев и расширить ирригационную систему Мейтхилы; и, наконец, еще одна всеобщая мобилизация ради последнего, катастрофического вторжения в Таиланд из Тавоя запустила процесс бегства населения из королевства. Английский наблюдатель отметил, что жители Нижней Бирмы устремились «в другие страны» в страхе быть призванными в армию и в ужасе от ее хищничества. Бандитизм и восстания также были повсеместны, но все же в основном население предпочитало бежать подальше от государственного центра и мародерствующей королевской армии. Одни лишь слухи о ее приближении мгновенно обращали подданных в бегство за горизонт в ужасе и смертельном страхе, поскольку действия внутренних войск «по всем своим характеристикам походили на наступление враждебной армии»[389]. На каждую крупномасштабную войну приходилось, наверное, с десяток небольших военных столкновений между мелкими королевствами или же, коли на то пошло, гражданских войн между претендентами на трон, как, например, в 1886 году в Хсум-Хсае, мелком княжестве в скромном шанском королевстве Хсипау, что привело практически к опустошению района. Продолжительная гражданская война в конце XIX века за контроль над другим шанским государством, Хсенви, была настолько разрушительна, что в конце концов «величайшие из современных шанских столиц не могли сравниться даже с базарными предместьями прежних городов-крепостей»[390].
Первой целью гражданских лиц было избежать призыва в армию. Во время мобилизации каждый район должен был выполнить свою норму набора рекрутов. Явным признаком массовых уклонений от службы было последовательное введение все более драконовских квот (например, сначала один рекрут от двухсот домохозяйств, затем от пятидесяти, затем от десяти, и наконец всеобщая мобилизация). Квоты редко выполнялись, поэтому использовалось татуирование рекрутов, чтобы их можно было позже идентифицировать. В конце правления династии Конбаун, а возможно, и раньше те, кто имел достаточно средств, могли откупиться от призыва в армию. Но самым надежным способом избежать военной службы было перемещение из центра рисового государства и с пути следования армии. Народу сгав и пво-каренам не повезло — они оказались жителями территорий, по которым проходили маршруты вторжения (и отступления!) в ходе бирмано-сиамских войн в конце XVIII века. Рональд Ренард утверждает, что именно в этот период эти народы рассеялись по горам вдоль реки Салуин и стали жить в более легко обороняемых длинных общих домах на несколько семей у горных хребтов. Даже те, кто намного позже решил обосноваться под защитой тайского государства, отказывались создавать постоянные поселения, поскольку «все равно предпочитали кочевую жизнь подсечно-огневых земледельцев, которая, как они утверждали, спасала их от невзгод, выпадающих на долю тех, кто обосновался на конкретных землях»[391].
Как только армия была укомплектована, требовались просто героические усилия, чтобы сохранить ее целостность на протяжении всей сложной военной кампании. Европейский путешественник конца XVI века отметил склонность бирмано-сиамских армий к мародерству и поджогам и добавил, что «в конце концов, они никогда не возвращались домой, не потеряв половины своих солдат»[392]. Поскольку мы знаем, что в то время войны не были особенно кровопролитными, то, скорее всего, основной причиной потерь было дезертирство. Свидетельства из представленного в Хронике Стеклянного Дворца описания неудавшейся бирманской осады подтверждают это предположение. После пяти месяцев осады у атакующих закончились припасы и разразилась эпидемия. Армия, которая вышла в поход с численностью в 250 тысяч человек, судя по данным хроники, распалась, и после сокрушительного поражения «король достиг своей столицы лишь с небольшим эскортом»[393]. Видимо, как только нападение захлебнулось и началась эпидемия, подавляющее большинство солдат дезертировали, устремившись домой или начав новую жизнь в более безопасном месте. В ходе бирманской военной экспедиции против шанов в конце XIX века, что зафиксировал Дж. Дж. Скотт, министр, отвечавший за войска, «вел себя совершенно не как военачальник, и ходили слухи, что он был настолько поглощен проблемой удержания войск от рассеяния, что у него просто не оставалось времени воевать»[394]. Мы знаем, что, как и практически во всех досовременных армиях, здесь был высок уровень дезертирства, особенно в случае провала военной кампании[395]. Сколько дезертиров — или перемещенных гражданских лиц, если уж на то пошло, — в итоге осталось в горах и на других отдаленных территориях, сложно сказать. Но тот факт, что войска состояли либо из «насильно завербованных», либо из рабов и их потомков и что, учитывая военное время, многим из них просто некуда и незачем было возвращаться, позволяет предположить, что многие беглецы начали новую жизнь в совершенно других местах[396].
Существует множество отрывочных свидетельств того, что угрозы и вынужденные перемещения военного времени вытеснили прежде земледельческие народы рисовых государств во внутренние районы страны или на большие высоты, заставив их создать новые повседневные хозяйственные практики. Например, гананы — сегодня это меньшинство, насчитывающее от силы восемь тысяч человек, живущих в устье реки My (административный округ Сикайн, Бирма) среди горных вершин высотой три тысячи футов, испещренных глубокими ущельями[397]. Они были или, возможно, стали жителями равнин и частью рисового государства Пиу до того, как его центры были разграблены и разрушены войсками монов, бирманцев и Наньчжао в период с IX по XIY век. Гананы сбежали в верховья реки My, чтобы «укрыться от сражений», и здесь превратились в подсечно-огневых земледельцев и собирателей. У них нет письменности, и они практикуют неортодоксальный вариант буддизма. Их история согласуется, как мы увидим далее, с версиями других современных горных народов, утверждающих, что в прошлом они жили в долинах.
Повсеместно можно встретить более поздние свидетельства бегства в горы в целях избежать пленения или тягот войны. Дж. Дж. Скотт полагает, что жители гор вокруг Чёнгтуна в Бирме к востоку от реки Салуин когда-то давно населяли равнину вокруг Чёнгтуна и были вытеснены тайскими вторжениями в горы, где до сих пор занимаются подсечно-огневым земледелием[398]. Чарльз Кис цитирует отчет миссионера о живущей обособленно группе каренов, которые покинули территории Сиама, переместившись в практически недоступное горное ущелье между Сарабури и Корат с более низкого равнинного местоположения[399]. Северные чины, в свою очередь, сбежали в отдаленные горы от шано-бирманской войны в XVIII–XIX веках и иногда предоставляли убежище мятежным бирманским князьям, спасавшимся от королевских войск[400].
Важно отметить, что в условиях войны разорение центра рисового государства приводило к уничтожению государственного пространства одновременно с политической и экологической точек зрения. Даже с поправкой на преувеличение следующее описание Чиангмая после вторжения бирманцев весьма показательно: «Города превратились в джунгли, а рисовые поля — в луга, пастбища для слонов, леса для тигров, где невозможно было построить страну»[401]. Конечно, хотелось бы верить, что жители равнин, освободившись от статуса подданных, могли остаться жить на прежнем месте. Однако проблема была в том, что в результате поражения королевства соседние государства и работорговцы начинали охотиться за остатками его населения. Перемещение с равнин на территории, гораздо менее доступные для армий и работорговцев, давало реальный шанс на самостоятельность и независимость. Именно так, как утверждает Лео Альтинг фон Гойзау, и поступили акха и многие другие группы, которых сегодня считают якобы «с незапамятных времен» горными:
Таким образом, за много столетий самые труднодоступные районы в горной части провинции Юньнань и соседних Вьетнаме, Лаосе и Бирме стали зонами бегства племенных групп, вырванных из привычной жизни действиями небольших вассальных государств, оккупировавших равнинные территории. В ходе маргинализации племенные группы, такие как хани и акха, подбирали для, себя, и обустраивали среду обитания — учитывая высотность и окружающие леса — таким образом, чтобы затруднить доступ к себе солдат, бандитов и сборщиков налогов. Подобным процесс получил название «инкапсуляция» (капсулирование)[402].
Набеги и рабство
Набеги — наше земледелие.
— Берберская пословица
Концентрация населения и зернового производства, как мы уже увидели, была необходимым условием становления государственности. Именно потому, что конкретные территории в принципе могли снабдить излишками зерна занимающихся государственным строительством правителей, они неодолимо манили и грабителей. Для всех, кроме самых крупных, центров государств угроза набегов работорговцев и/или бандитов была актуальной и неизбежной. Страх перед малайскими рабовладельцами в ранний колониальный период опустошил многие прибрежные районы Бирмы и Сиама; карены по этой причине избегали дорог и открытых побережий. Продолжительная уязвимость со временем приводила к установлению системы подчинения и хищничества. Подобная ситуация сложилась в долине Кабау в верховьях реки Чиндуин, где проживавшие в горах чины закабалили населявших долину шанов, угнав многих из них в рабство[403]. В итоге крупный город из пятисот домохозяйств и тридцати семи монастырей в 1960 году сократился до двадцати восьми домов.
В целом горные народы были заинтересованы, если они действительно подчинили себе близлежащую долину, защищать ее поселения, которые могли стать их торговыми партнерами или регулярными данниками. В стабильной ситуации здесь складывались отношения типа «защита и вымогательство с шантажом». Иногда горные группы, например качины, считали выгодным создавать поселения «в долинах или на берегах рек у подножия гор». Аналогично берберам, называвшим сбор дани с оседлых сообществ «своим земледелием», в районе Вхамо в верховьях реки Иравади качины назначали старост в бирманских и шанских поселениях. «Казалось, не осталось во всем округе Вхамо ни одной деревни, не охраняемой подобным образом, и качины были настоящими хозяевами всей этой местности»[404]. Своим спокойствием и рутинностью такая система напоминает успешные досовременные государства, а именно их монопольное «крышевание», которое гарантирует мирную жизнь и благоприятствует производству и торговле, поскольку не извлекает больше ренты, чем можно перевезти в горы.
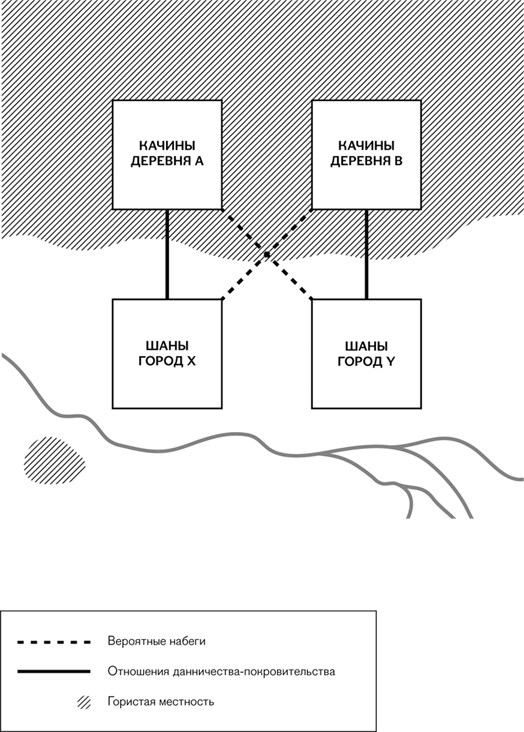
И все же снова и снова горные народы в подобных зонах не переставали грабить поселения на равнинах, по сути, «убивая курицу, несущую золотые яйца», полностью разоряя и опустошая долину[405]. Зачем? Я думаю, ответ скрыт в политической системе гор, характеризующейся соперничеством множества небольших государственных образований. Каждое из них «взаимодействовало» с поселениями у подножия гор, которые защищало. Простейшая схематичная модель того, как примерно выглядело это взаимодействие, представлена на рисунке 2. Поскольку качины из группы А могли жить на расстоянии трех-четырех дней пути от деревни, которую оберегали, то качины из группы В могли совершить на нее набег и быстро скрыться. Когда о нападении узнавали качины из группы А, они могли отомстить, совершив набег на другое равнинное поселение, которое находилось под защитой их обидчиков из группы В. Все это, конечно, могло разжечь вражду между горными группами, если они не достигали неких договоренностей[406].
У описанной системы взаимоотношений есть несколько особенностей, которые подтверждают общую логику моих рассуждений. Во-первых, то, что казалось, особенно жителям долин (!), грабежом со стороны горных «племен», на самом деле было достаточно искусным проявлением их политической организации. Во-вторых, при широком распространении таких грабежей они должны были вести к обезлюдеванию больших территорий в связи с перемещением слабых живущих в долинах групп подальше от гор и поближе к берегам рек, откуда было легче бежать. И наконец, что наиболее важно, основной целью всех набегов был захват рабов, многих из которых качины оставляли себе, а часть продавали другим горным народам или работорговцам. В той степени, в какой набеги оказывались успешны, они обеспечивали постоянный отток населения в горы. Это был еще один механизм, посредством которого население равнин превращалось в жителей гор, а горы становились все более космополитичны в культурном отношении.
Ряд горных народов печально прославился своей работорговой деятельностью. В целом в шанских государствах особенно боялись каренни (красных каренов). В некоторых районах набеги работорговцев после уборки урожая стали обыденностью[407]. «Так, в большинстве деревней каренни можно увидеть шанянгов из племен каренов, йондалинов, падаунгов и лет-хта с горных хребтов на северо-западе, обреченных на безнадежное состояние рабства… Их продают ионам (шанам в Чиангмае), которые перепродают их сиамцам»[408]. Перечень пленников каренни весьма показателен, поскольку содержит названия не только жителей равнин, но и горных народов. Занимавшиеся набегами за рабами группы, как каренни, специализировавшиеся на добыче самого ценного товара, похищали не только жителей долин, чтобы сделать их членами горного сообщества или продать на равнинных рынках, но и жителей слабо защищенных горных поселений, чтобы сделать их своими рабами или перепродать. В определенном смысле горные работорговцы выполняли функцию конвейерного поставщика рабочей силы, который мог работать в обоих направлениях: то обеспечивая исходный материал для государственного строительства, то совершая набеги на равнинные поселения, чтобы удовлетворить собственные потребности в рабочей силе. В любом случае эта поведенческая модель помогает понять, почему жители долин так боялись набегов и почему слабые горные народы уходили жить в труднодоступные географические зоны, возводя укрепленные скрытые частоколы, чтобы свести к минимуму возможности нападения на свои поселения[409].
Повстанцы и раскольники в горах
Восстания и гражданские войны несли сельским жителям множество тех же ужасов, что и завоевательные войны и вторжения. Соответственно, первые тоже побуждали людей к бегству — они судорожно перемещались в те районы, которые казались им более безопасными. Примечательно, что выбор вариантов бегства всегда определялся некоей логикой, которая, в свою очередь, в значительной мере зависела от классовой принадлежности человека, или, если говорить точнее, от той степени, в какой сохранение статуса, собственности и жизни гарантировалось установленными верховной властью порядками. Эта логика просматривается даже в весьма ломаных траекториях бегства населения в первые годы Вьетнамской войны на юг страны, с 1954 по 1965 год. Землевладельцы, элиты и чиновники в целях собственной безопасности все чаще предпочитали покидать сельскую местность, тяготели к столицам провинций и в конечном счете, когда конфликт обострился, и к самому Сайгону Казалось, их перемещения свидетельствовали об убежденности, что чем ближе к центру государства, тем больше гарантий безопасности. Многие обычные крестьяне, наоборот, отказывались от оседлой жизни в больших деревнях и переселялись в отдаленные мобильные поселения за пределами досягаемости государства. Это выглядело так, будто шаткий общественный договор об основанной на институте государственной власти жизни потихоньку утрачивал свою силу: элиты стремились в центр, где максимально ощущалась способность государства к принуждению, а слабые неэлитарные группы, наоборот, перемещались на периферию, где контролирующие возможности государства были минимальны.
Мятежи, конечно, если они достаточно мощные, содержат в себе еще больше веских причин для бегства в горы. Первые этапы войны в Индокитае (1946–1954), как утверждает Харди, привели к «перемещению огромного количества вьетнамцев из дельты Красной реки в отдаленные районы северных гор. Леса предоставляли укрытие революционерам на всем пути к городу Дьен Вьен Фу недалеко от границы с Лаосом»[410]. Подобная модель поведения уходит корнями в глубины истории Вьетнама и других стран. Ее можно проследить по крайней мере до крупномасштабного восстания тэйшонов (1771–1802), которое началось, когда три брата из деревни в районе Тэйшон сбежали в близлежащие горы, чтобы спастись и найти сторонников. Эта модель работала и в рамках освободительного движения «Кан выонг» («В защиту императора») в первые годы колонизации Вьетнама, в восстаниях провинции Нгетинь в 1930 году и, наконец, на опорной базе Вьетминя в горах среди меньшинства тхо[411]. Бегство от государства перепуганных повстанцев и мирного населения влекло за собой миграцию в новые экологические условия и формирование новых хозяйственных практик. Последние обычно не только более пригодны для нового места поселения, но и более разнообразны и подвижны, что позволяет использующему их населению легче уклоняться от учета и контроля государства.
Разгром мятежей, как и поражение в ходе войн, вынуждал побежденных устремляться в периферийные районы страны. Чем крупнее было восстание, тем больше населения оказывалось перемещено. В этом отношении вторая половина XIX века в Китае была периодом колоссальных потрясений, которые обратили в бегство сотни тысяч людей, многие из которых искали спасения подальше от Ханьской империи. Крупнейшим из социальных потрясений стало Тайпинское восстание (1851–1864), определенно величайшая по размаху и продолжительности крестьянская война в мировой истории. Затем последовали бунты в провинциях Гуйчжоу и Юньнань, иногда называемые «восстанием пантай», которые были исключительно массовыми, продолжались с 1854 по 1873 год и вовлекли «предателей»-ханьцев, горный народ мяо/хмонгов, а также хуэй — китайских мусульман. Хотя так называемое восстание мяо не смогло достичь масштабов Тайпинского восстания, стоившего жизни примерно двадцати миллионам человек, тем не менее оно продолжалось почти два десятилетия, прежде чем было подавлено. Поверженные повстанцы, их семьи и целые общины стремглав отступили в Вомию после разгрома тайпинов, а после восстания мяо — глубже и дальше на юг внутрь Вомии. Бегство от ханьских властей порождало миграции, которые не только вели к широкомасштабным грабежам, бандитизму и разрушениям, но и еще больше усложняли и без того многообразный этнический ландшафт в горных районах. Как в эффекте храповика, бегущие группы вынуждали других сниматься с мест и гнали их перед собой. Тонгчай Виничакул утверждает, что многие из китайцев, пришедших в Северный Сиам в конце XIX века, были осколками тайпинов[412]. Остатки разбитых сил восстания мяо были вытеснены на юг, и многие группы лаху и акха, не участвовавшие в мятеже, последовали на юг с мяо или впереди них, чтобы избежать опасности. В XX веке успешное восстание, Коммунистическая революция в Китае, породило новый поток мигрантов — побежденных республиканцев-гоминьдановцев. Обосновавшись на территории, которая сегодня известна как Золотой треугольник на стыке Лаоса, Бирмы, Китая и (частично) Таиланда, вместе со своими горными союзниками они сумели подчинить себе практически всю торговлю опием. Благодаря отдаленному местоположению в горах и сложности рельефа они получили политическое преимущество, имея возможность балансировать на территории, будто шов, связывающей четыре сопредельные национальные юрисдикции[413]. Впрочем, они далеко не самые последние мигранты в Вомии как зоне бегства. В 1958 году под давлением китайских партийных работников и солдат почти треть народа ва пересекла границу Китайской Народной Республики с Бирмой в поисках убежища[414]. События Культурной революции дали новый импульс миграционным процессам.
Отступление сил Гоминьдана в Золотой треугольник призвано напомнить нам, что горы и Вомия в особенности в течение длительного времени были зоной бегства (и подготовки новых военных операций) для чиновников павших династий, претендентов на княжеский престол и группировок, потерпевших поражение в придворных интригах. Так, в начале правления династии Маньчжу князья Мин и их окружение сбежали в безопасные районы провинции Гуйчжоу и за ее пределы. В Бирме Шанские и Чинские горы в доколониальную и раннюю колониальную эпоху были прибежищем для князей-бунтовщиков и беглых претендентов на трон Бирмы (mill laun).
Политическое инакомыслие и религиозные ереси и отступничество, особенно до начала XIX века, очень сложно отличить друг от друга — столь часто они были сплавлены воедино. Тем не менее следует подчеркнуть, что горы ассоциировались с религиозным инакомыслием по отношению к долинам в той же мере, что и с восстаниями и политическим протестом[415]. И это неудивительно. Учитывая влияние сангхи (священнослужителей — sangha) в исповедующих буддизм Тхеравады странах, например Бирме и Сиаме, и космологии, которая могла превратить правителя в подобие индо-буддийского бога-царя, для короны было столь же жизненно необходимо контролировать одновременно и настоятелей храмов своего царства, и своих князей, как бы сложно ни было осуществлять подобный надзор. Способность короны устанавливать свои религиозные предписания на больших территориях была столь же важной, как и право навязывать свою политическую волю и собирать налоги. Однако размер территорий варьировал в зависимости не только от топографических элементов, но и от временного фактора, влияющего на власть и сплоченность двора. Религиозная «граница», за которой сложно было навязывать ортодоксию, таким образом, определялась не каким-то конкретным местом или четким территориальным водоразделом, а отношением к власти, то есть была изменчивой гранью, за которой государственный контроль практически сходил на нет.
Долины поливного рисоводства и относительно ровные поверхности с незначительными колебаниями высот, типичные для равнинных государств, являются плоскими не только с топографической точки зрения — они столь же выровнены в культурном, лингвистическом и религиозном отношении. Первое, что бросается в глаза любому наблюдателю, — это относительное единообразие культуры в долинах по сравнению с пышной мозаичностью одежд, языков, ритуалов, хозяйственных практик и религиозных верований в горах. Несомненно, относительная однородность — эффект государства. Буддизм Тхеравады, со своей претензией на статус всеобщего вероисповедания, в значительной степени был религией централизованного государства, если сравнить с предшествующими его распространению местными культами (духов натов, фи — not, phi). Несмотря на склонность к синкретизму и использованию анимистических практик, исповедовавшие буддизм Тхеравады монархи, когда могли, преследовали монахов и закрывали монастыри иных вероисповеданий, объявляли вне закона индо-анимистические обряды (во многих из которых участвовали в основном женщины и трансвеститы) и распространяли то, что считали «чистыми», нетленными текстами[416]. Унификация религиозных практик была проектом рисовых государств, призванным гарантировать, что единственный, помимо королевских служб, общегосударственный элитарный институт жестко подчинялся короне. Ее становлению способствовало то, что крупные монастыри содержались на средства присваивающей излишки элиты, которая, как и верховная власть, процветала благодаря высокой производительности труда и концентрации рабочей силы в центре государства.
Централизованная власть обусловливает некоторую степень религиозной ортодоксии в сердце государства, но не может сдерживать религиозное разнообразие в горах, хотя инакомыслие горных жителей — в какой-то мере результат политики государства. Кроме того что горцы проживали в недосягаемых для государства местах, они были более раздроблены, более разнородны и чаще вели обособленную жизнь. Даже если здесь селилось буддийское духовенство, оно тоже было разбросанным по территории, более децентрализованным и бедным, а поскольку верховная власть ему не покровительствовала и не контролировала его, — то и более зависимым от расположения местного населения. Если оно исповедовало иную веру, как это часто и случалось, то духовенству приходилось в нее переходить[417]. Вот почему раскольнические секты так быстро формировались в горах. Если и когда они появлялись, их очень сложно было подавить, поскольку они размещались на границах государственной власти. Однако не менее важны были и два других фактора. Во-первых, сочетание священного писания буддизма с джатаками, историями о прошлых жизнях Будды, не говоря уже о космологии горы Меру, определяющей стиль дворцовой архитектуры, давали веские основания и возможности для отхода от ортодоксального буддизма. Отшельники, странствующие монахи и расположенные в лесах религиозные общины — все они вкусили харизмы и духовных знаний благодаря своему положению вне общества[418]. Вторым решающим фактором стало то, что неортодоксальные секты, запрещенные в долинах, перемещались подальше от опасности в горные районы. Здесь демография и география не только способствовали религиозному инакомыслию, но и формировали зону спасения для преследуемых в долинах сект.
Шанское нагорье Бирмы, где исповедующие буддизм и выращивающие рис люди создали мелкие государства в долинах, представляет яркий пример того, о чем идет речь. Майкл Мендельсон в своем крупномасштабном исследовании sangTia (сангхи — священнослужители) в Бирме пишет о Zawti (свет, сияние) — реформистской секте Воути, которая, видимо, «была выведена из-под религиозной юрисдикции Бирмы» в конце XIX века и обосновалась на Шанском нагорье[419]. Она переняла некоторые характерные обычаи шанских буддистов наряду с шанскими текстами и иконографией. В то же время секта придерживалась некоторых еретических практик параматов (секты, которой недолго покровительствовал король Водопайя в начале XIX века). Мендельсон завершает свое краткое описание догадкой, которая согласуется с концепцией «зоны бегства»: «В своих исследованиях ученые должны учитывать то, что шанские государства на протяжении многих столетий предоставляли убежище сектам, которые исключались из религиозной юрисдикции Бирмы»[420]. Шаны стали буддистами только в конце XVI века, и, вероятно, отток запрещенных сект из центра бирманского государства сыграл роль в их религиозном обращении. Вот почему, хотя Эдмунд Лич отмечает, что все шаны — буддисты и буддизм является необходимым условием, чтобы считаться шаном, он уточняет, что «большинство из них, это правда, не очень набожны, и шанский буддизм включает в себя ряд определенно еретических сект»[421]. Намного раньше в «Географическом справочнике» Скотт описал монахов в Шанских штатах как живущих в укреплениях вооруженных торговцев, которые курят и носят головные уборы. Затем он процитировал доктора Кушинга, утверждающего, что степень инакомыслия увеличивается по мере удаления от центра бирманской власти[422]. Журналист, тайно путешествовавший по Шанским штатам в 1980-х годах, упоминает буддийских монахов у границы с Китаем, которые спали с женщинами, курили опий и жили в укрепленных, будто крепости, монастырях[423]. Даже столь фрагментарные свидетельства говорят о том, что шанские буддисты — живой исторический памятник раскольничьим буддийским сектам, запрещенным и изгнанным из сердца бирманской государственной жизни за последние несколько столетий.
Вомия стала зоной спасения для мятежников и разбитых армий с долин, а также убежищем для запрещенных религиозных сект. Прослеживая процесс заселения Вомии на протяжении столетий, можно увидеть, как она постепенно стала напоминать своеобразное теневое общество, зеркальное отображение великих рисовых государств, хотя и использовала фактически тот же космологический исходный материал. Сюда стекались идеи и люди, ставшие жертвами государственного строительства и династических битв. Отторгнутый долинами плюрализм можно в изобилии найти в горах — осколки, которые рассказывают нам, кого равнинные королевства изгнали за свои пределы, то есть какими они могли бы стать в иных обстоятельствах.
Частота, с которой периферия — горы, пустыни, глухие леса — прочно ассоциируется с религиозным инакомыслием, слишком велика, чтобы недооценивать эту связь. Казачество на границах царской России примечательно не только своей эгалитарной социальной структурой, но и значением в нем старообрядчества, чье мировоззрение сыграло важную роль в крупных крестьянских восстаниях под предводительством Разина и Пугачева. Швейцария длительное время отличалась эгалитаризмом и религиозным инакомыслием. Альпы в целом воспринимались Ватиканом как колыбель ереси. Здесь укрылись вальденсы, а затем под угрозой принудительного обращения со стороны герцога Оавойского в середине XVII века переместились в долины на больших высотах. Реформация также охватила Альпы, хотя, по причине их географической раздробленности, раскололась по региональному признаку: Женева приняла кальвинизм, а Базель — цвинглианство[424].
Неортодоксальность гор можно рассматривать как отражение политической и географической маргинальности зоны сопротивления, куда могут в крайнем случае устремиться преследуемые меньшинства. Впрочем, подобный подход не вполне характеризует диалогическую природу отличий горных народов как сознательный культурный выбор, призванный маркировать их принципиальное своеобразие и оппозиционность. Живущие в горах берберы, как уже отмечалось, часто меняли форму своего религиозного инакомыслия, таким неявным образом заявляя о противостоянии правителям близлежащих государств: «Когда римляне, контролировавшие провинцию Ифрикия [Африка], перешли в христианство, горные берберы (которых римлянам никогда не удавалось полностью подчинить) также стали христианами, но в еретических версиях — донатистами и арианами, чтобы не войти в Римскую церковь. Когда ислам пришел на эти земли, берберы стали мусульманами, но вскоре выразили свое недовольство встроенным в арабское мусульманское правление неравенством, став хариджитами». Роберт Лерой Кэнфилд внимательно проследил формирование сопоставимого четко просчитанного исламского раскола в горной системе Гиндукуш в Афганистане[425]. Если основные аграрные государственные центры в долинах исповедуют суннизм, то соседние с ними горные народы — имамизм (шиизм двунадесятников), а населяющие более отдаленные, труднодоступные горные районы — исмаилизм. Религиозные особенности обычно соответствуют экологическим нишам и нередко преодолевают лингвистические и этнические барьеры. Обе формы инакомыслия являются мощным связующим фактором для населения, которое не подчиняется государству, определяющему себя в терминах суннитской ортодоксии. В подобных случаях религиозная идентичность выступает как сознательно конструируемый механизм обозначения границ, призванный подчеркнуть политические и социальные отличия. Мы увидим, что аналогичные процессы имели место в материковой части Юго-Восточной Азии, и рассмотрим милленаристские верования горных народов в восьмой главе.
Перенаселенность, болезни и экология государственного пространства
Земледелец [в отличие от охотника-собирателя], как правило, имеет внутри себя более опасные микробы, при себе — лучшее оружие и броню и более эффективные технологии, за собой — централизованное правительство и грамотную элиту, куда лучше приспособленные к ведению завоевательных войн.
— Джаред Даймонд. Ружья, микробы и сталь
Оседлое зерновое земледелие и разведение домашнего скота (свиней, кур, гусей, уток, крупного рогатого скота, овец, лошадей и т. д.), очевидно, обусловили скачок в распространении инфекционных заболеваний. Большинство смертельно опасных эпидемических болезней, от которых мы сегодня страдаем, — оспа, грипп, туберкулез, чума, корь и холера — зоонотические, то есть передались человеку от домашних животных. И принципиальное значение имеет здесь скученность — концентрация людей, а также домашних животных и «обязательных» вредителей-спутников, которые неизбежно сопровождают их: крыс, мышей, клещей, комаров, блох и т. д. Если конкретная болезнь распространяется через близкие контакты (кашель, прикосновение, использование общих источников воды) или с помощью вредителей-спутников, сама по себе скученность переносчиков ее возбудителей формирует идеальную среду для всплеска эпидемии.
Показатели смертности в городах раннесовременной Европы превышали темпы естественного прироста населения примерно до середины XIX века, когда санитарные меры и источники чистой воды значительно снизили уровень смертности. Нет никаких оснований считать, что города Юго-Восточной Азии были более здоровыми. Подавляющее большинство отмеченных там болезней вполне можно назвать «болезнями цивилизации», поскольку впервые они упоминаются в хрониках вместе с формированием центров зернового земледелия, которые предполагают концентрацию флоры, фауны и насекомых[426].
Летописи рисовых государств и свидетельства первых европейских наблюдателей говорят о частоте опустошительных эпидемий в больших городах досовременной Юго-Восточной Азии[427]. Во всестороннем и тщательном исследовании северной и центральной части Оулавеси Дэвид Хенли утверждает, что эпидемические болезни, особенно оспа, были основным препятствием для роста численности населения. Возможно, как следствие перенаселенности и близости к торговым путям, жители прибрежных районов оказывались менее жизнеспособными, чем «жители горных регионов», которые «производили впечатление более здоровых и сильных»[428].
Практически все понимали, что в случае эпидемии самым разумным было мгновенно уехать из города и рассредоточиться по сельской местности или горным районам. Хотя в целом люди не знали, как именно передается эпидемическое заболевание, они замечали, что рассеяние и изоляция тормозят распространение болезни. Горные народы считали равнины нездоровым местом. Подобная ассоциация или могла возникнуть у живущих на высоте более тысячи метров в связи с распространенностью малярии на низких высотах, или же отражала страх перед городскими эпидемиями и риском подхватить корабельную болезнь у торговцев. На Лусоне игороты, жившие на небольших высотах, знали, что, как только начинается эпидемия, они тотчас должны вернуться в горы, рассеяться и перекрыть все проходы, чтобы обезопаситься от ее последствий[429]. Насколько демографически важным было бегство в горы в ответ на эпидемии или какая доля укрывшихся в горных районах возвращалась после того, как опасность отступала, — сложно сказать. Но если добавить сюда спасающихся в горах от засухи и голода, то демографические последствия бегства населения могли быть весьма значительными.
Вся сельскохозяйственная деятельность — рискованное предприятие. Однако при прочих равных земледелие в центре рисовых государств во многих отношениях, за одним важным исключением, было более рискованным, чем сельскохозяйственная деятельность на нагорьях, не говоря уже о собирательстве. Ключевое и единственное преимущество поливного рисоводства, в том случае если орошение обеспечивалось постоянными водными потоками, состояло в том, что, пусть и на время, оно было устойчиво к засухе[430]. О другой стороны, огромное разнообразие форм подсечно-огневого земледелия и собирательства в горных районах обеспечивало столько источников пропитания, что гибель или неурожай одной-двух культур грозили лишениями, но редко приводили к катастрофическим последствиям. Вероятно, самое важное, что эпидемиологические последствия концентрации культурных сортов растений были теми же, что и у скученности человека разумного. Относительно небольшой генофонд зернового производства создавал идеальную эпидемиологическую среду обитания для насекомых, грибов, стеблевой ржавчины и других вредителей, специализирующихся, скажем, на рисе. Скопление таких вредителей в орошаемой долине, в основном засеянной рисом, могло мгновенно привести к катастрофе.
Когда идут дожди или видимые глазу вредители атакуют посевы, то причины неурожая очевидны, хотя пострадавшие от засухи растения могут оказаться восприимчивы к другому патогену, ровно так же как пациент с ослабленным здоровьем становится особенно уязвим для любых условно-патогенных инфекций. Нашествие крыс в конце XVI века опустошило Хантавади в Нижней Бирме — они сожрали практически все запасы зерна[431]. Как только заканчивались запасы продовольствия, люди начинали бежать из города. Впрочем, понятно, что нашествие грызунов было вызвано или по крайней мере привлечено значительными запасами зерна. Причины страшного неурожая и голода, поразивших Верхнюю Бирму в период с 1805 по 1813 год, неясны. Засуха, конечно, сыграла свою роль, как и, по мнению Тант Мьинт У, мальтузианское демографическое давление на ограниченную сельскохозяйственную территорию в центре государства[432]. Каковы бы ни были точные причины, они существенно ускорили отток населения. В частности, он привел к широкомасштабному «переходу к подсечно-огневому земледелию», вследствие чего было заброшено столько рисовых полей, что налоговым сборщикам династии Конбаун пришлось изобрести новую кадастровую категорию для налогообложения. Непонятно, насколько далеко в горы ушли скрывающиеся подданные, но одно предельно ясно — они массово покидали центр рисового государства[433].
Предположение о мальтузианском демографическом давлении в сердце страны заставляет выдвинуть весьма интригующее предположение, что, возможно, рисовые государства испытывали не только налоговые, но и экологические ограничения роста. Именно об этом писал Чарльз Китон[434]. По его мнению, массовая вырубка лесов вокруг сухой зоны при короле Миндоне привела к увеличению стоков и заилению оросительных резервуаров и каналов. Многие каналы были заброшены. Небольшой спад в показателях дождливости — если речь идет о территории с очень низким уровнем осадков (пятьдесят — шестьдесят пять сантиметров в год) — может вызвать засуху и отток населения. Соответственно, сухая зона деградировала и стала очень хрупкой с агроэкологической точки зрения, подверженной неурожаям. Немного спасающихся от голода могли укрыться в горах, но большинство в конце XIX века устремилось к бурно развивающейся дельте реке Иравади с открытыми границами. Все они покинули центр рисового государства.
Зерновые бунты
Династические «автопортреты» доколониальных рисовых государств Юго-Восточной Азии и империй Мин и Цин, судя по официальным источникам, выполнены в розовом цвете и изображают милостивых и добродетельных собирателей народов. Мудрые правители, как добрые пастыри, созывали дикие народы в буддийские и конфуцианские центры государственности, где оседлое поливное рисоводство и превращение в полноправного подданного считались маркерами цивилизационного развития. Как любые идеологически нагруженные самопрезентации, тот гегелевский идеал, который они старательно изображали, на деле оказывался, как и использование слова «умиротворение» во время Вьетнамской войны, жестокой пародией на реальную жизнь, особенно на границах.
На минуту отставив в сторону серьезнейший вопрос, что именно обозначал термин «цивилизация», отметим, что династический автопортрет был абсолютно ошибочен по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, процесс концентрации населения был чем угодно, но не благостным и добровольным путешествием в цивилизованную жизнь. Большую часть населения в центре государств составляли пленники, массово захваченные как военные трофеи и пригнанные победителями в свою столицу или же купленные в розницу у работорговцев, которые захватывали людей в ходе экспедиций и продавали государству то, в чем оно больше всего нуждалось. В 1650 году доля наследственных ахмуданов (ahmudan — обязанные служить в армии правителя, в основном рабы и их потомки) в радиусе двухсот километров от столицы Авы составляла 40 %. Массовая депортация военнопленных из Манипура на Шанском нагорье и Нижней Бирмы с 1760 по 1780 год была призвана увеличить к тому времени поредевшие ряды ахмуданов. Сиам — еще более поразительный пример королевства, состоящего из пленников. В конце XVII века, по данным одного наблюдателя, треть населения центральных районов Сиама составляли «иностранцы, в основном потомки плененных в ходе войн лао и монов». В начале XIX века, когда численность жителей Сиама сократилась в ходе бирманских вторжений, королевство начало столь широкомасштабную кампанию военных захватов, что «в общей сложности количество лаосцев, монов, кхмеров, бирманцев и малайцев могло сравниться с количеством людей, идентифицирующих себя с сиамцами в центральной части страны»[435]. Эти данные приведены не для того, чтобы опровергнуть тот факт, что жители окраин массово устремлялись к возможностям и преимуществам столицы государства в хорошие времена. Нет, они отрицают, что процесс создания государств в заданных демографических условиях был возможен без захватов и рабства.
О втором и куда более вопиющем упущении династических самоизображений говорят неопровержимые доказательства бегства населения из центров государств, не представленные в хрониках. Признание их существования, безусловно, противоречит доминирующему цивилизационному дискурсу: с какой стати кому бы то ни было понадобилось покидать центр рисового государства и «бежать к варварам»? Страдающим от исторической близорукости можно было бы простить подобную ошибку, поскольку последние шестьдесят лет или около того действительно характеризуются бурным ростом городского населения, сконцентрированного в центральных районах стран, а также усилением контроля современных государств над горными территориями. Однако если вернуться на тысячи и более лет назад, станет очевидно, что бегство от государства было столь же привычным, как и инкорпорирование в него. Оба процесса не отличались регулярностью: в истории прослеживаются серьезные колебания от практически полного опустошения рисового государства до его перенаселения.
Мотивы бегства из центра государства были многочисленны, но их можно условно классифицировать. Вопреки цивилизационному дискурсу, который исходит из имплицитной посылки, что все желали заниматься поливным рисоводством в долинах, но этому мешали хищнические государства, следует назвать и позитивные причины предпочтения подсечно-огневого земледелия и собирательства в горах. До тех пор пока существовал избыток свободных земель, что, собственно, характеризует реалии вплоть до недавнего прошлого, подсечно-огневое земледелие было более эффективным с точки зрения производительности труда, чем поливное рисоводство. Оно также гарантировало более вариативный рацион питания в природных условиях, которые способствовали более здоровому образу жизни. И наконец, в сочетании с собирательством и охотой на «продукты», которые высоко ценились на рынках долин и в международной торговле, подсечно-огневое земледелие обеспечивало более высокие доходы при относительно небольших затратах труда. Человек мог сочетать социальную независимость с выгодными торговыми обменами. Перемещение в горы или решение остаться, если вы здесь оказались, в большинстве случаев не предполагало обретения свободы ценой материальных лишений.
После демографических кризисов, следовавших за голодом, эпидемией или войной, если человек был достаточно удачлив, чтобы выжить, подсечно-огневое земледелие могло стать для него нормой и в прежде занятой рисовыми полями долине. Соответственно, сопротивляющееся становлению государственности пространство не было некоей конкретной точкой на карте — это, скорее, результат позиционирования по отношению к власти: безгосударственное пространство могло быть создано успешным неповиновением, изменением сельскохозяйственной технологии или непредвиденными стихийными бедствиями. Его социальное устройство могло значимо варьировать от жесткого контроля до относительной автономии, в зависимости от степени досягаемости для рисового государства и сопротивления ему потенциальных подданных.
Что касается реальных масштабов бегства населения, то следует различать медленный, по крупицам, постоянный отток недовольных год за годом и массовый исход в случае крупномасштабных событий. В первой категории увеличение гнета налогов и барщины в угоду амбициям правителя могло породить устойчивый исход разоренных подданных в места, недоступные для верховной власти. Религиозные раскольники, проигравшие стороны в придворных интригах, деревенские изгои, преступники и авантюристы также могли перемещаться в приграничные районы. Как будет показано позже, подобные мигранты легко поглощались горными сообществами.
Сложно сказать, что именно в конечном счете и прежде всего приводило к обезлюдеванию центральных районов страны — постепенный совокупный отток населения или кризисы, порождавшие его массовый исход. Первый, поскольку он был не особенно эффектным, запечатлен в основном в отчетах о налоговых поступлениях, а не в хрониках. Войны, голод, пожары и эпидемии — более важный для фиксации информационный повод, а потому эти события чаще отражаются в летописях и архивах. Наряду с тиранией эти четыре явления формируют пять самых известных бедствий, упоминаемых в бирманских народных пословицах[436]. Именно они в первую очередь ответственны за широкомасштабные перемещения населения из одного государства в другое, за миграции из центра рисовых государств на границы верховной власти, а в горах — за перенос поселений.
Невозможно предсказать такие катастрофы, как войны, голод или эпидемии, как и невозможно заранее оценить их длительность или разрушительность. Любые подобные события мгновенно порождают беспорядочную и бурную панику и бегство. В то же время эти несчастья были настолько неотъемлемой частью жизни в доколониальной Юго-Восточной Азии, что можно представить, для сколь значительной части местного населения «катастрофы были повседневностью», — так и крестьяне во времена нехватки продовольствия знают, какие так называемые голодные продукты можно употреблять в пищу, чтобы выжить. Пространственное рассеяние, маршруты бегства и альтернативные хозяйственные практики могли составлять запас знаний на случай кризисов у большей части жившего в центре страны крестьянства[437].
Массовый отток населения, нередко в сочетании с восстаниями и бандитизмом, — вот чем наполнена доколониальная история большинства юго-восточно-азиатских государств. Мы должны отличать катастрофы, вынуждавшие жителей центра страны искать спасения — в другом государстве, в приграничных областях или в горах, — от сопротивления и бегства населения, которое до этого было насильственно инкорпорировано в государство амбициозной династией. Обе модели отчетливо прослеживаются в Северном Вьетнаме с XIV по XVI век. Засухи, восстания и вторжения с 1340 по 1400 год вели к исходу выращивающего поливной рис населения из дельты Красной реки. Оценки сокращения его численности варьируют в диапазоне от 0,8 до 1,6 миллиона человек, и многие беглецы, скорее всего, устремились в горы. В начале XVI века восстановивший демографическую мощь центр государства предпринял попытку расширить свою власть на «горные вьетнамские районы к западу, северу и северо-востоку от столицы». Череда мятежей, ряд из которых возглавили чудотворящие адепты буддизма и даосизма, стала решительным препятствием на пути реализации этих планов и вынудила тысячи жителей бежать, в том числе дальше в горы. Королевский двор Сиама в начале XIX века столкнулся со столь же жестким сопротивлением, когда попытался установить контроль над южными районами Лаоса, начав татуировать налогоплательщиков (политика «раскаленного железа»), подняв размеры барщины и «санкционируя и поощряя массовое порабощение жителей нагорий и племенных народов»[438]. Когда мятежи были подавлены, вероятно, желавшие избежать поглощения государством устремились в горы, а опасавшиеся охотников за рабами отступили в самые отдаленные горные районы, чтобы оставаться недосягаемыми для работорговцев. Начиная с монгольских вторжений XIII века и на всем протяжении XV века Верхняя Бирма переживала периоды страшного хаоса и голода, в течение которых, как отмечает Майкл Онг-Твин, «крупные группы населения перемещались из традиционно защищенных районов в анклавы безопасности»[439]. Куда именно направлялись беглецы, неясно, но значительная их часть могла рассеяться по близлежащей периферии династического правления, которая в большинстве своем была горной территорией. Только в XIX веке дельта Иравади в Нижней Бирме, изначально бывшая местом спасения, стала типичным пунктом назначения бегущих из центра бирманской государственной власти.
Учитывая фрагментарность имеющихся доказательств, осмелимся на одну-две догадки об особенностях колебания численности административно контролируемого населения в центре рисового государства и за его пределами. О точки зрения удаленности от династической власти можно представить себе некий континуум, в качестве конечных точек которого выступают: полностью подконтрольное выращивающее рис население в центре государства, с одной стороны, и живущие на недоступных для государства горных хребтах строители частоколов — с другой. Жители приграничных районов и близлежащей горной периферии заняли бы на нашем континууме промежуточные позиции. Схематично и гипотетически имеет смысл предположить, что, будучи осажденным, население сначала перемещалось в ту безопасную зону, что находилась ближе всего. Соответственно, жители центра страны в случае угрозы войны или голода бежали на границы этой зоны. Те, кто жил в этих приграничных районах, могли сначала попытаться отгородиться от проблем центрального региона, прекратив платить ему налоги и защищая свою жизнь и собственные интересы[440]. Если эта стратегия не срабатывала, то они, в свою очередь, устремлялись во внутренние районы страны или в горы. Жители гор, если сталкивались с расширением государственной власти в форме прямого управления или рабовладельческих набегов, могли бунтовать или бежать, или бунтовать, а потом бежать — дальше в глубину страны или выше в горы[441]. Каждая из описанных групп в случае опасности предположительно перемещалась на одну градацию континуума, чтобы оказаться на следующей по отдаленности от государственного контроля позиции. Если в центре государства складывались благоприятные условия, то запускался обратный процесс — перемещения поближе к столице, чтобы воспользоваться предлагаемыми ею торговыми и социальными возможностями.
Оливер Уолтере пишет о concertina — «гармошкообразных» государствах-мандалах Юго-Восточной Азии; мы можем расширить эту метафору на население мандал — то приближающееся, то отдаляющееся от центра верховной власти, в зависимости от гарантируемого ею баланса опасностей и вознаграждений. Способность циклически перемещаться внутрь и за пределы досягаемости государства, между относительной свободой и государственностью зависела от наличия больших открытых границ и доступности социальной структуры и хозяйственных практик, которые позволили бы занять новую нишу. Но, собственно, была ли эта ниша абсолютно новой? Как только мы вспомним, что огромную долю населения составляли пленники и их потомки и многие из них были насильственно вывезены из горных районов, то, видимо, для некоторых из них бегство из государства было подобно возвращению домой.
Сопротивление расстояния: государства и культура
Ничто не сравнится по сложности с завоеванием людей [игоротов], у которых нет никаких потребностей и чьи защитные бастионы — леса, горы, непроходимая дикая, местность и высокие обрывы.
— Высказывание испанского чиновника, Филиппины, XVIII век
И доколониальные, и колониальные чиновники прекрасно понимали, что препятствия на пути завоевания отдаленных горных территорий были труднопреодолимы. Сочетание мобильного и в целом враждебного населения со сложной топографией означало, что даже карательная экспедиция, не говоря уже о военной оккупации, была рискованным предприятием. Вот как описывает одну подобную кампанию Хроника Стеклянного Дворца: «Махаупаяза и король Авы, которым было приказано преследовать собву (шанского князя) из Могаунга, были призваны обратно, ибо было установлено, что преследователи не могли продолжать погоню, не испытывая страшных трудностей в горной стране, где проходы были заблокированы снежными заносами, а туман и мгла не рассеивались до полудня»[442]. Скотт, ведя более подготовленную кампанию по «умиротворению» в Северной Бирме в конце XIX века, отметил влияние трудностей передвижения войск на время, необходимое для подчинения района: «Там, где были огромные территории нерасчищенных лесов, мили заболоченных земель и в воздухе витала малярия, или где запутанные заросли колючих низкорослых джунглей и овраги позволяли дакойтам (бандитам) безопасно укрываться, [подобные районы] не удавалось усмирить в течение одного-двух лет и даже дольше»[443]. Французам во Вьетнаме было не легче. Доклад 1901 года предупреждает о сложностях контроля инакомыслия и подавления беспорядков в горных районах, защищенных и «укрытых отвесными скалами и практически непроходимым лесом»[444].
Конечно, приведенные цитаты — это восприятие горных районов равнинными государствами. Тем, кто бежал в горы, все перечисленное казалось несомненным преимуществом, которое можно было использовать в своих интересах. Можно было, что и делали игороты, перекрывать горные проходы и в случае необходимости отходить все глубже и глубже в горы. Здесь в целом легче вести оборонительные войны, и здесь множество мест, где небольшая группа может сдерживать намного превосходящие ее силы. Самые глубокие укромные уголки в горной зоне, где достигается максимальный кумулятивный эффект сопротивления расстояния контролю со стороны ближайшего властного центра, наименее подвластны прямому государственному контролю. В подобных местах выражение «прочный, как скала» обретает почти буквальное значение. По мнению британцев, «дикие» ва между Таиландом, Китаем и государствами на востоке Шанского нагорья жили именно в такой зоне. Карты начала столетия не могли отразить для колониального офицера фактическую сложность рельефа, где основные горные хребты «были пересечены острыми изогнутыми вершинами»[445]. Даже сегодня ва — примерно два миллиона человек от силы — «живут, несомненно, в одном из последних великих горных диких мест в современном мире»[446].
Степень сложности ландшафта нельзя оценить, просто взглянув на топографическую карту, поскольку в значительной степени эта сложность социально проектируется и модифицируется в целях усиления или минимизации сопротивления. Поэтому британские успехи в расширении контроля и власти на горные районы обусловлены логикой развития технологий, сокращающих расстояния: строительством мостов и всепогодных дорог, вырубкой лесов, созданием точных карт и телеграфа. Передовые методы дефолиации, вертолеты, самолеты и современная спутниковая фотосъемка еще больше нивелировали сопротивление местности. В итоге оно не возникает «где-то там» неким механическим образом, а постоянно конструируется для различных целей. У тех, кто хочет максимизировать трудности преодоления расстояния, в распоряжении имеется множество разнообразных стратегий: уничтожение мостов, нападение из засад или установка мин-ловушек на перевалах и в узких ущельях, возведение завалов на дорогах, обрыв телефонных и телеграфных проводов и т. д. Значительная часть литературы, посвященной партизанской войне (но не приемам сбора разведывательной информации), описывает способы, с помощью которых можно изменять ландшафт в свою пользу.
Военная логика, определяющая сложность преодоления расстояния, лежит и в основе социального и культурного влияния. Схематичная реконструкция его последствий позволит осветить некоторые социальные различия горных сообществ и рисовых государств. Многие основополагающие культурные влияния в Юго-Восточной Азии имели экзогенный характер — были привнесены морскими торговцами. Врахманический индуизм, буддизм и, позднее, ислам оказались здесь похожим образом. С побережья, куда они прибывали, эти влияния, как правило, распространялись вдоль основных торговых артерий и траекторий перемещений населения в долинах и бассейнах рек — их переносили всё дальше и дальше жители равнинных государств по привычным для себя маршрутам. Можно представить себе этот процесс как серию кадров замедленной киносъемки, показывающей, что культурные идеи распространялись легко и быстро по территориям с минимальным сопротивлением ландшафта и максимальными объемами передвижений населения.
Обратите внимание в этой связи, что районы с высоким сопротивлением ландшафта — болота, топи, ущелья, скалистые горы, пустоши, пустыни, — даже если располагались близко к центру государства по прямой, в основном оставались относительно недоступными зонами, а потому отличались политическим и культурным своеобразием. Если скорректировать время распространения культурных влияний с учетом вертикальности подъема и высотности расположения над уровнем моря в случае крупных горных массивов, можно понять, как развивались определенные типы культурной стратификации. Культура, связанная, скажем, с индо-шиваизмом, в результате государственной политики и в ходе торговых обменов «передвигалась» с побережья по водным путям и через пахотные равнины. Те, кто по тем или иным причинам не принимал эту культуру, например анимисты, перемещались или вытеснялись в верховья рек, вглубь страны или за пределы государства. Представим теперь, что другая культура, буддизм или ислам, прибыла вслед за первой. Этот новый импульс, возможно, даже при поддержке верховной власти, мог вынудить тех, кто исповедовал индо-шиваизм и не желал воспринимать иную культуру, бежать в верховья рек, заставляя переселившихся сюда ранее беглецов-анимистов подниматься еще выше и/или уходить глубже во внутренние районы страны. Теперь легко понять, как сформировались феномены, подобные описанным ранее на примере гор Тенгер: происходило вертикальное оседание культурных импульсов, появившихся издалека, — старейшие (и глубоко укорененные) оказывались на самых больших высотах, а новейшие (самые поверхностные) — на равнинах. На деле, конечно, принципы миграции культурных влияний намного сложнее, и в XX веке христианские миссионеры в материковой части Юго-Восточной Азии, так сказать, «перескочили» сразу в горы. Что приведенная весьма приблизительная схема действительно позволяет понять, так это почему народы, живущие в высокогорных и самых отдаленных районах, наименее доступных контролю государства, могут обладать развитой культурой, а также, в некотором смысле, исторически обусловленной стратификацией[447].
Мини-зомии — засушливые и влажные
До этого момента мы фокусировались на обширной территории, объединяющей несколько сопредельных горных районов, которую было решено назвать Вомией. Но трудности преодоления расстояния, зоны бегства и сопротивляющиеся контролю государства топографические элементы, пусть и в меньших масштабах, существуют и в других географических точках. Один из исторически значимых примеров — Пегу-Йома в Бирме, четырехсоткилометровый поросший лесами горный хребет от шестидесяти пяти до двухсот километров шириной, который проходит через сердце Бирмы, служа водоразделом между бассейнами рек Иравади и Оиттанг (Оитаун).
Будучи ближайшей к богатым долинам территорией, сопротивляющейся контролю государства, Пегу-Йома в течение длительного времени служил редутом для беглецов, повстанцев и бандитов. Его густые леса, скрытые долины и прежде всего близость к процветающим деревням, выращивающим рис, позволили сэру Чарльзу Кростуэйту написать, что «ни один дайкот и помыслить не мог лучших условий»[448]. Однако, будучи местом произрастания последних огромных тиковых лесов, ключевого доходного товара колониальной Бирмы начала XX века, Пегу-Йома манил выгодами своего контроля. Несмотря на затраченные ресурсы, горный тракт ускользал из рук британцев в ходе второй англо-бирманской войны (1885–1887), затем в годы восстания Оая Сана (1930–1932) и окончательно и бесповоротно был утрачен ими в начале Второй мировой войны. После нее и примерно в течение тридцати лет до 1975 года Пегу-Йома был основной базой коммунистических мятежей на севере страны и каренских восстаний на юге, которые почти сбросили правительство в Рангуне. Этот район гарантировал такую высокую степень защиты мятежникам, что Коммунистическая партия Бирмы (КПБ) воспринимала его как свою «провинцию Юньнань» и назвала центральную марксистско-ленинскую школу в честь его несокрушимой твердыни «Золотой город Пекина»[449]. Когда эта местность была окончательно освобождена, и КПБ, и Каренская национальная объединенная партия (КНОП) утратили свою последнюю базу в поразительной близости от центральной долины и правительства. Несмотря на свое немногочисленное население, Пегу-Йома заслуживает отдельной главы в любом описании сопротивляющихся государству пространств в Бирме[450].
Гора, или потухший вулкан Попа на северной оконечности Пегу-Йома, сегодня важная буддийская святыня и место паломничества, вплоть до недавнего прошлого была известным центром сопротивления государству. Будучи расположен к юго-западу от Мандалая, между Мейтхилой и Чау, этот крутой горный пик высотой полторы тысячи метров окружен отрогами с ущельями и низкорослыми джунглями. Будучи не настолько большой, чтобы стать основной зоной бегства или революционной базой, гора Попа находится в достаточной близости от торговых путей и равнинных городов, чтобы служить пристанищем бандам и ворам крупного рогатого скота. Одна из таких преступных шаек продержалась здесь целых десять лет уже после британской аннексии[451]. Попа была лишь одной из сотен географических точек, которые британцы называли твердынями, — их сложно было завоевать и удержать. Подобные цитадели сопротивления укрывали претендентов на королевский трон, еретические лесные секты, повстанцев и бандитов. У каждой из них была особая история превращения в место сопротивления государству, и все, кто стремился по тем или иным причинам дистанцироваться от него, знали о подобных прибежищах. Что их все объединяло, так это изумительные географические условия, способствовавшие обороне и отступлению, а также немногочисленное и мобильное население с устойчивыми традициями безгосударственной жизни.
Полный перечень цитаделей сопротивления государству содержал бы не меньше страниц, посвященных влажным низменностям — топям, болотам, трясинам, торфяникам, дельтам рек, мангровым побережьям, сложным водным системам и архипелагам, — чем высоким горным редутам. Поскольку подобные неподдающиеся и сложные в управлении районы, как правило, располагались вблизи богатых рисоводческих регионов, фактически они представляли ту же или даже большую угрозу политической власти равнинных государств, только на низких высотах над уровнем моря. Цзясин, к югу от дельты Янцзы, в начале XVII века был именно таким источником социальной нестабильности. Лабиринт ручьев и водных потоков создавал практически непреодолимые проблемы для политической власти. Префект, назначенный управлять этим районом, написал: «Эти крупные потоки поглощаются озерами, заболоченными территориями, заливами и водоемами в расширениях русел рек, образуя необъятное пространство, растянувшееся на бесчисленные километры. Это пристанище для бандитов со всех уголков страны — отсюда они появляются и здесь же они растворяются»[452].
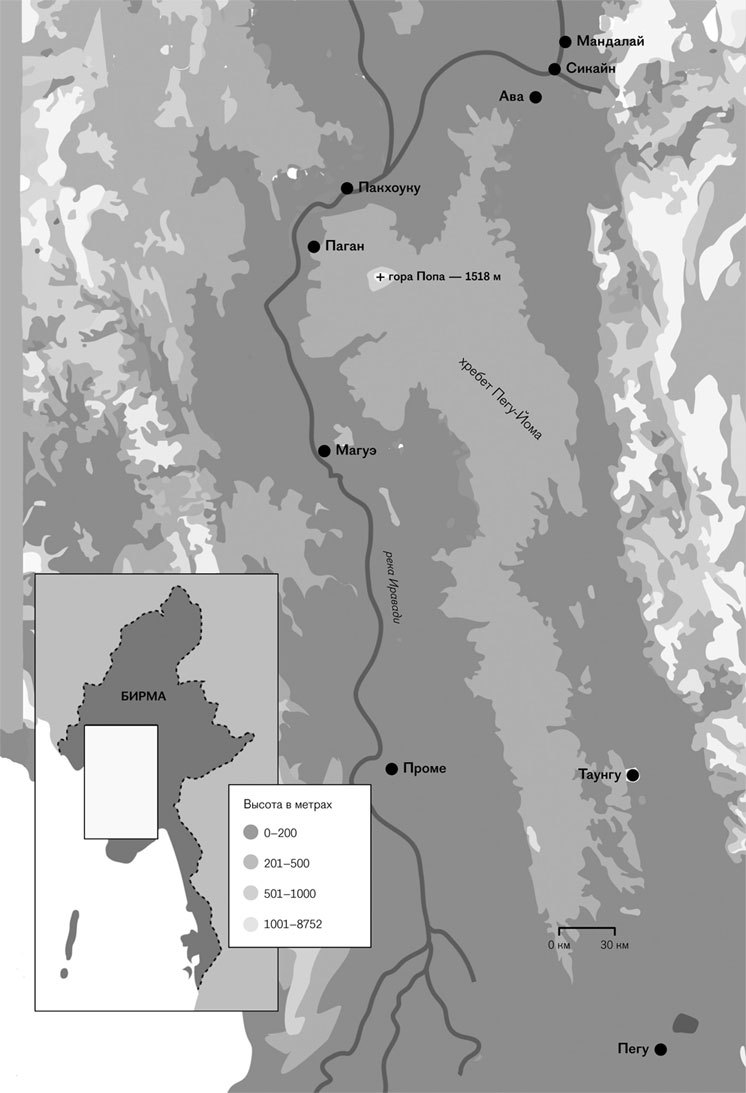
Заболоченные территории создают вокруг государственных центров естественный защитный периметр, как в случае с Венецией и Амстердамом, но они же могут служить убежищем для повстанцев, бандитов и их водных собратьев — пиратов. Великий китайский классический труд «Водный предел» XIII века — отчет о лихой жизни опальных и обманутых чиновников и множества верных им бандитов на болотах[453]. Другое огромное болото с еще более внушительной и зафиксированной в преданиях историей (более трех тысячелетий) — аллювиальные марши Месопотамской низменности между Тигром и Евфратом (сегодня это ирако-иранская граница). Эта болотистая низменность площадью пятнадцать тысяч квадратных километров, которая меняет свои очертания от сезона к сезону, вплоть до недавнего прошлого была приютом для значительного по численности населения, живущего на плавучих островах достаточно далеко от любых форм государственности. Уилфред Тезигер, путешественник, чья книга «Болотные арабы» впервые обратила внимание англоговорящего мира на этот особый образ жизни, отметил, что болота, «с их запутанным лабиринтом зарослей тростника, где можно передвигаться только на лодках, должно быть, с незапамятных времен предоставляли убежище остаткам побежденных народов и были центром беззаконий и мятежей»[454]. Этот лабиринт неразличимых (для непривычного глаза чужака!) водных путей, подверженный сезонным изменениям, обеспечивал своим мобильным обитателям решительное преимущество перед любым незваным гостем. Радикальным средством борьбы с этой, как и любой другой подобной территорией сопротивления, было осушение болота и уничтожение данного места проживания раз и навсегда. Великий проект расширения государства был в конце концов претворен в жизнь Саддамом Хусейном после огромных потерь на этих территориях в ходе ирано-иракской войны. Осушение болот и топей — окончательное решение, недоступное правителям в борьбе с горными убежищами, — всегда мотивировалось, в первую очередь, каковы бы ни были другие его цели, уничтожением оплотов сопротивления и бунта[455].
В Северной Америке под управлением белых поселенцев болота, как горы и границы, были убежищем мятежников и беглецов. Осминолы со своим вождем Оцеолой, объединившись с беглыми рабами, в течение семи лет вели арьергардные бои против федеральных войск, стремившихся реализовать политику Эндрю Джексона по изгнанию индейцев[456]. Великое мрачное болото на восточной границе штатов Виргиния и Северная Каролина служило приютом для тысяч беглых рабов в течение нескольких поколений, будучи расположено «прямо посередине самого убежденного рабовладельческого сообщества на Юге»[457]. Рабы пополняли ряды белых отступников, южан, скрывающихся от военного призыва, дезертиров, бегущих от закона, самогонщиков, охотников, контрабандистов и трапперов. «Великое мрачное» болото, как и болото в «Водном пределе», упоминается в художественной литературе — в поэме Лонгфелло «Невольник в Проклятом болоте» и романе Гарриет Бичер-Стоу «Дред: история о Проклятом болоте» (1856). Как и в случае с прибежищем болотных арабов, неоднократно раздавались призывы осушить Великое мрачное болото, потому что оно позволяло «самому низкому сорту» людей обретать свободу и независимость[458].
Природа побережий, особенно в Юго-Восточной Азии, также предоставляла укрытия повстанцам и тем, кто бежал от государства. Выло почти невозможно контролировать изменчивые дельты главных рек материковой части Юго-Восточной Азии (Меконга, Чао Прая, Иравади), изрезанные бесчисленными приливно-отливными течениями и лиманами, и управлять местным населением. Власти, даже весьма влиятельные, не могли состязаться с беглецами, которые знали эту залитую водой местность вдоль и поперек и могли в мгновение ока здесь скрыться. Обеспокоенные наличием географических зон, где могли прятаться революционеры, французское и проамериканское правительства Сайгона считали необходимым следить за горами и заболоченными низменностями. «Центральное нагорье и болотистые равнины в западной части дельты Меконга [на рукаве Вассак] были двумя основными стратегически важными регионами, считавшимися уязвимыми для проникновения коммунистов»[459]. В ходе восстаний против бирманского правительства карены воспользовались всеми преимуществами «непроходимой зоны, состоящей из огромных мангровых болот, лесных массивов, мутных рек и скрытых бухт, где правительственные войска были вынуждены передвигаться медленно и осторожно»[460].
Мангровые заросли, с их невероятно извилистыми проходами, невозможно преодолеть тому, кто не прожил в них много времени, и, вероятно, потому они представляют собой почти идеальное место для бегства. Как спасительному убежищу им просто нет равных. «Извилистые каналы и ручьи, забитые илом и перегороженные песчаными отмелями, здесь исчезают из поля зрения за скрывающей их стеной растительности, а узкий проход в мангровом лабиринте полностью перегорожен ветвями и длинными листьями nip ah (пальм нипа)»[461].
География, способствующая сокрытию и бегству, благоприятствовала и набегам. Мангровые леса располагались вблизи судоходных путей, ровно так же как Пегу-Йома соседствовал с процветающими долинами. Налетчики могли выскакивать из мангровых зарослей и мгновенно вновь в них скрываться, совершая набеги на корабли, грабя прибрежные поселения и захватывая рабов. Подобно викингам, морские цыгане вели «земноводный» образ жизни, будучи одновременно торговцами и грабителями. Как и у викингов, у морских цыган были быстроходные perahu (пераху — парусные лодки) с малой осадкой, позволявшие им скрываться вверх по течению небольших рек, где не могли пройти крупные морские суда, и грабить селения по ночам с незащищенной стороны, куда нужно было подплывать против течения. Благодаря мангровым зарослям морские цыгане некоторое время считались основной угрозой голландской и британской морской торговле в Юго-Восточной Азии. Даже сегодня их вооруженные до зубов прямые потомки на моторных лодках досаждают огромным танкерам, курсирующим в Малаккском проливе[462].
Как и горы, болота, топи и мангровые леса были зоной бегства и потенциальными укрытиями, откуда можно было совершать набеги. Но прежде всего это были территории почти полной безгосударственности, где укрывались люди, по тем или иным причинам желающие уклониться от государственного контроля.
Переход к варварству
Мы знаем, что некоторые живущие на границе китайцы встали на уже знакомый им, путь дивергентной эволюции [кочевого скотоводства] и что Великая стена была построена именно для, того, чтобы одновременно у дер окать китайцев в Китае, а новый тип варваров — за пределами Китая
— Оуэн Латтимор. Роль границ в истории
Согласно древним историям и равнинным народным преданиям о меньшинствах, проживающих в тех или иных районах, они были первыми коренными обитателями этих мест и именно их потомки заселили долины. Сегодняшние нарративы историков и этнографов, изучающих ныне живущие в Вомии меньшинства, часто изображают их как мигрантов, оставивших после своего ухода с равнин сказания о поражениях, преследованиях и маргинализации. Как правило, все их объединяет рефрен несправедливых гонений. Этот нарратив сохраняется благодаря двум предположениям. Первое: все горные народы предпочли бы быть земледельцами на равнинах, многие из них когда-то прежде жили здесь, но были вынуждены, скрепя сердце, переселиться в горы под влиянием обстоятельств непреодолимой силы. Второе: все они хотели бы избежать стигматизации в качестве «варваров» и отсталых, но варварство — логическое следствие их бегства. Так как, по стандартам равнинных государств, цивилизованные люди — это выращивающие поливной рис и исправно платящие налоги подданные, то изменение данного состояния, будь то перемещение в недоступные для государства места или переход к иным хозяйственным практикам, самим своим фактом приравнивается к утрате цивилизованности.
Если здесь мы остановимся, считая, что все действительно обстояло именно так и никак иначе, то упустим из виду важный момент — интенциональность, движущие силы миграций. При наличии открытых границ и возможности торговать с поселениями в долинах жители горных районов вели относительно благополучную жизнь с небольшими затратами труда, не говоря уже о свободе от уплаты налогов и отработки барщины. Латтимор отмечал, что многие скотоводы на северных и западных границах Китая были прежде земледельцами разного происхождения, «которые решили вырваться из нищей крестьянской жизни и заняться более надежным скотоводством», поэтому переход к подсечно-огневому земледелию и собирательству на возвышенностях часто был доброволен и обусловлен личными экономическими интересами[463]. А если к этому добавить возможность оставлять себе больше урожая и распоряжаться собственным трудом, то позитивная мотивация даже исключительно материального толка могла быть очень действенной для дистанцирования от государства.
Поскольку переход к горному образу жизни в глазах равнинных государств всегда ассоциировался с резким падением социального статуса, они и помыслить не могли, что таковой может осуществляться добровольно. В восприятии жителей долин горное население было либо аборигенным и ни разу не столкнувшимся с цивилизационным воздействием, либо — и тогда отношение к нему было более сочувственным — когда-то давно насильственно изгнанным из долин. Прекрасно осознавая презрительное к себе отношение, многие племенные народы в устном эпосе объясняют свое нынешнее географическое местоположение и статус сочетанием гонений, преследований и игнорирования. Тем не менее очевидно, что все горные группы вобрали в себя значительное число «перебежчиков» из оплотов цивилизации, включив их в свои генеалогии. Многие из них были ханьцами, которые сочли для себя выгодным и удобным оставить китайскую цивилизацию и уйти в горы. Как мы уже увидели, в династических автопортретах в хань-конфуцианском искусстве государственного управления не оказалось места для подобных контрнарративов, и это вполне логично. Вот почему Великая Китайская стена (стены) и возведенные против мяо стены в провинции Хунань провозглашались защитой от варваров, хотя в действительности их, несомненно, возводили, чтобы удержать платящее налоги, оседлое, земледельческое население в пределах государственных границ. Как показал Магнус Фискесьё, «многие воображаемые варвары прошлого и так называемые мятежники мяо [в середине XIX века] на самом деле были простыми китайцами, бегущими от налоговых обязательств или уголовной ответственности, грозящих им в основной части страны»[464]. Торговля, поиск свободных земель и женитьба — вот иные причины, почему ханьцы и другие мигранты могли счесть для себя целесообразным присоединиться к горному сообществу. Оамомаргинализация, или «самооварваривание» в терминологии равнинных государств, порой была широко распространена, но цивилизационный дискурс утверждал немыслимость подобного поведения[465].
Если группы действительно отказывались усваивать культуру и образ жизни равнинного государства, если взамен сознательно предпочитали физически и культурно дистанцироваться от цивилизации, то нам следует выработать такой способ описания происходящего, который определял бы отказ от жизни в государстве как результат утраты его благорасположения или попадания в опалу. Джеффри Веньямин, пытаясь обозначить, как горные народы в полуостровной части Малайи позиционировали себя — в экологическом, экономическом и культурном плане — по отношению к малайскому государству, придумал понятие «диссимиляция»[466]. Диссимиляция (не путать с притворством) — процесс более или менее целенаправленного создания культурной дистанции. Она может включать в себя появление и поддержание лингвистических расхождений, несовпадающих версий истории, различий в стилях одежды, погребальных и брачных обрядах, обустройстве дома, формах земледелия и высотности проживания над уровнем моря. Все эти культурные маркеры призваны дифференцировать группу от одной или большего числа других групп, а потому неизбежно имеют относительный характер. Диссимиляция порождает претензии на занятие конкретной ниши в общей экономической системе гор и равнин, например ниши «собирателей в лесах, которые не прикасаются к плугу». Если диссимиляция настойчиво утверждается в течение определенного времени и тщательно продумывается, то, конечно, ведет к этногенезу, который станет предметом нашего рассмотрения в главе 7.
Однако в заключительном параграфе этой главы, в рамках истории миграций из государственных центров, следует подчеркнуть наиболее важные аспекты диссимиляции для многих горных народов. Ее ключевой компонент — утверждение «Мы — безгосударственные люди. Мы живем в горах, занимаясь подсечно-огневым земледелием и собирательством, потому что мы сами решили жить на расстоянии от равнинного государства».
Независимость как форма идентичности избегающих государства народов
Для многих горных народов диссимиляция, как процесс проведения четких различий между двумя разными обществами, означала буквальное, то есть пространственное дистанцирование от равнинных государств. В некотором смысле она была сверхдетерминирована, даже тавтологична. Представьте, например, растянувшуюся во времени миграционную волну. Небольшое по численности или слабое в военном отношении сообщество в долине, скажем, терпит поражение или сталкивается с порабощением или, что более вероятно, с тем и другим одновременно. Одна часть этой окруженной со всех сторон группы решает остаться, покоряется своей участи и со временем ассимилируется. Другая часть предпочитает сняться с места и перемещается во внутренние районы страны или в горы, чтобы сохранить независимость, пусть даже за счет изменения образа жизни. Предположим, что наша группа имеет название — пусть это будут «жаворонки». Те из них, кто решит остаться, окажутся поглощены доминирующей равнинной культурой, хотя и оставят в ней отчетливый отпечаток, — они больше не будут «жаворонками», а станут «китайцами», «бирманцами», «сиамцами», «тайцами». Множество решивших сняться с места также очень изменится (возможно, даже радикально!), но останется известно как «жаворонки»; более того, важным аспектом их исторической памяти будет эмиграция из равнинного государства, а для него «жаворонки» станут сбежавшим и скрывающимся народом. Если этот процесс повторяется неоднократно, то уклонение от государственной власти может превратиться в основополагающую характеристику народа.
Схематично именно так ряд этнографов и историков описывают типичную модель поведения мяо/хмонгов, особенно в последние три столетия восстаний и бегств. Николас Тапп называет ее бифуркацией (раздвоением). О одной стороны, существовали «приготовленные» (shu) мяо, или «китайцы-мяо», которые приняли китайскую верховную власть, китайские имена и оседлое земледелие на постоянных полях, — большинство из них со временем были поглощены ханьской культурой. О другой стороны, были «сырые» (sheng) мяо, или «мяо-мяо», которые переместились (или остались) в высокогорьях, занимаясь подсечно-огневым земледелием и набегами на почтительном расстоянии от китайского государства[467]. Другой исследователь истории мяо/хмонгов полагает, что, «когда хмонги страдали от нехватки земли, отсутствия леса, чрезмерных или несправедливых налогов и злоупотреблений различных чиновников и землевладельцев, большинство из них пытались приспособиться к новой ситуации. Некоторые восставали и были готовы бороться, а другие предпочитали переместиться в иной административный район или даже страну. Подобные миграции затронули лишь часть хмонгского населения — подавляющее большинство все же решало остаться на месте и приспособиться»[468]. По этой причине беглые безгосударственные хмонги, на жизнь которых наложили неизгладимый отпечаток их постоянное бегство и отказ «быть помещенными на карту» — некий пережиток прошлого. Большинство из тех, кого в историческом прошлом мы идентифицируем как хмонгов, были поглощены ханьским государством в качестве своих граждан и потому исчезли как особая группа. Если мы также примем во внимание тот факт, что другие восстававшие и бежавшие вместе с ними народы вливались в ряды хмонгов, то этот пережиток будет иметь мало общего с хмонгами с генеалогической точки зрения, не говоря уже о генетической. Суть «хмонгскости» может в большей степени определяться общей историей мятежей и бегств, чем какими бы то ни было претензиями на исконные кровные узы.
Схожую идентификационную модель можно проследить у большинства (но не всех) горных народов Вомии. Ва, акха, лаху, лису, кхаму, палаунги, падаунги, ламеты и некоторые карены имеют схожую историю, в которой, часто после восстания, часть народа осталась, а часть сбежала в недоступные для государства места, по пути поглощая других мигрантов. Шаншан Ду убежден, что за последние три столетия лаху участвовали примерно в двадцати мятежах, после которых многие «остались на территориях ханьского имперского контроля, а часть мигрировала на юг в окраинные и горные районы после жестокого подавления восстаний»[469]. Сложная история каренов, особенно пво-каренов, имеет много аналогий. Объединившись с монами и, после падения Пегу в середине XVIII века, с сиамцами, карены нередко поглощались монскими, сиамскими, шанскими и бирманскими государственными образованиями. Многие из тех, кого мы сегодня знаем как каренов, — это те, кто решил скрыться или остаться в горах и вести жизнь безгосударственного, пусть и слабо защищенного, но свободного народа[470]. Большинство из считавших прежде себя каренами, лаху и хмонгами в историческом прошлом ассимилировались в сложносоставных равнинных обществах в качестве подданных государств, а их скрывшиеся потомки сохранили свою особую идентичность, для чего сконструировали истории бегства и безгосударственности[471].
Наиболее тщательно исследованный пример того, что можно обозначить как «бегство от государства как идентичность», — народ акха, описанный Лео Альтингом фон Гойзау. Насчитывая от силы 2,5 миллиона человек, включая хани (На Шп) на севере Вьетнама, акха говорят на тибето-бирманском наречии и в прошлом считались «черной костью» («сырыми», sheng), некитаизированными и-лоло. Сегодня они проживают на юге провинции Юньнань (Оишуанбаньна) и соседних территориях Лаоса, Бирмы и Таиланда. За последние два столетия их вытесняли все дальше на юг войны, рабство и поиск новых земель для подсечно-огневого земледелия. Два равнинных государства, с которыми они вступали во взаимодействие, — ханьское и тайское, хотя ханьги оказали более глубокое влияние на их культурные практики и верования.
Для нас самое главное, что акха воспроизводят сложные детальные (пусть и недостоверные) генеалогии, сохраняя свою историю с помощью сказителей (phima). Часть этой истории была записана. Зафиксированная или нет, она важна для понимания самооценки народа, для которого бегство и безгосударственность — определяющие характеристики. Акха верят, что первоначально они были горным народом, который постепенно перебрался на равнины и стал заниматься рисоводством, хотя, видимо, не в качестве подданных государства. Затем на юг провинции Юньнань прибыли тайские военные группировки, носители государственной власти, поглотили часть акха и вынудили остальных бежать в горы вместе с палаунгами и другими народами. Фон Гойзау утверждает, что эта версия согласуется с историей создания первого города-государства (муанга) воином тай-лю Ба Чжэном в конце XII века, что привело к массовому оттоку с этой территории ее исконных жителей. Позже последовали монгольские вторжения, правление династии Юань в середине XIII века и экспансия государственной власти. О этого момента акха считают себя избегающим государства народом, выбирающим место жительства и повседневные практики таким образом, чтобы «не стать легкой добычей солдат, бандитов и сборщиков налогов»[472]. Но, несмотря на свое постоянное бегство, акха не стремились к генетической изоляции. Придерживаясь нежестких правил заимствования иного опыта и творчески относясь к конструированию генеалогий, они, как считает фон Гойзау, вобрали в себя тайцев и хань-китайцев наряду с другими горными народами, такими как лаху, палаунги, кхаму и ва.
Бегства и безгосударственность акха нормативно закодированы в их истории и космологии. Ключевая фигура их легенд — предполагаемый король акха XIII века Дзяубанг — провел перепись населения (знаковый для налоговой системы и государственного строительства ход!) и был умерщвлен собственным народом. Его сын Ванг Дзюи (по сути, аналог Икара) подлетел на волшебной лошади с крыльями, сделанными с использованием пчелиного воска, слишком близко к солнцу и погиб. Обе истории — формы предостережения относительно иерархии и формирования государства. Типичные шаманские целительные ритуалы, призванные вернуть странствующую душу в ее телесную оболочку, морально оправдывают уклонение от государства: «Путешествие в этот мир [духов], состоящий из девяти слоев, описывается как спуск с гор на равнины, где душа человека содержится в плену „в лабиринте дракона“ и приговорена пожизненно отрабатывать барщину или пребывать в рабстве. Чтобы вернуть человеку душу, шаманы должны были предложить свинью или другое крупное животное, например буйвола… что характерно для работорговли»[473]. Если мы обратимся к тому, что можно назвать религией акха, то здесь будет доминировать тот же принцип. Уважая профессионалов, обладателей длинной родословной и кузнецов, акха настаивают, что не верят ни в каких высших богов и в прямом смысле слова не склоняют голову ни перед кем. Сложно представить себе иной народ, чья устная история, жизненные практики и космология представляют собой столь продуманный и абсолютный отказ от государства и устойчивых иерархий.
Глава 6. Бегство от государства и предотвращение государства. Роль культуры и сельского хозяйства
Представим еще раз, что вы юго-восточно-азиатский «эквивалент» Жан-Батиста Кольбера. Но теперь ваша задача не создать идеальное для пополнения резервов государственное пространство, а сделать нечто совершенно противоположное. Как бы вы поступили, если бы вам нужно было спроектировать топографию, жизненные практики и социальную структуру, настолько устойчивые к формированию государства и захвату им новых территорий, насколько это в принципе возможно?
Большинство из доступных вам стратегий, как я полагаю, окажется полной противоположностью тому, как создавались рисовые государства. Вместо плоской, сравнительно удобной аллювиальной равнины вы вообразили бы себе горный пейзаж, где «сопротивление ландшафта» запредельно высоко. Вместо концентрации вызревающих одновременно зерновых культур — кочевое, многообразное, рассеянное в пространстве выращивание неравномерно вызревающих корнеплодов. Вместо постоянных поселений и стабильной политической власти — разбросанные по местности, мобильные формы поселений с подвижной социальной структурой без верховной власти, способные легко распадаться на элементы и возникать вновь с иными их сочетаниями.
В общих чертах именно это наблюдается повсеместно в Вомни, где типы расселения, сельскохозяйственной деятельности и социальной структуры призваны «отвергать государственность». Иными словами, Вомия представляет собой совокупность агроэкологических условий, исключительно неблагоприятных для реализации свойственных государству стратегий концентрации рабочей силы и зерна. Здешняя обстановка препятствует формированию государственности двумя разными способами. Первый и наиболее очевидный состоит в том, что уже существующие государства не решаются поглощать подобные территории, поскольку предполагаемый выигрыш в рабочей силе и зерне с высокой вероятностью не покроет даже административные и военные затраты на присоединение новых земель. Вероятно, более оправдано в данном случае обложение данью, но никак не прямое управление. Вторая противостоящая формированию государственности характеристика подобного социального ландшафта заключается в том, что он обеспечивает чрезвычайно малую вероятность возникновения собственного государства коренных народов, поскольку в нем отсутствует критическая масса концентрированной рабочей силы, богатств и зерна, на которой только и может базироваться государство. Кроме того, как выясняется, свойственные подобному пространству демография и земледелие, не способствующие его поглощению государством, оберегают его и от других форм порабощения, в частности от набегов. Охотники за рабами, мародерствующие армии, бандиты, голодающие бродяги в поисках продовольствия, как и государства, считали «государственные пространства» более прибыльными для разграбления, понимая, сколь скудную поживу им обещают нападения на рассеянные, мобильные, выращивающие корнеплодные культуры сообщества без постоянных структур власти. В этом смысле горные народы не только отвергают государственность, но и устойчивы ко всем формам порабощения в целом.
Я использовал прием со стратегом Кольбером и идею «проекта» совершенно намеренно. Большая часть истории и этнографии горных народов в материковой части Юго-Восточной Азии стремится, явно или неявно, натурализовать их местоположение, особенности поселений и сельскохозяйственных занятий, социальную структуру, трактуя таковые как данности, якобы детерминированные традициями и экологическими ограничениями. Не отрицая наличия ряда сдерживающих факторов, я все же хочу подчеркнуть значение сознательного исторического и стратегического выбора. Что поражает в любой отдаленной исторической перспективе, так это удивительная подвижность и разнообразие жизненных практик в горах и на равнинах, присущих им моделей социальной структуры, форм сельского хозяйства и этнической идентичности. Те из них, что на первый взгляд могут показаться статичными, даже вневременными, демонстрируют феноменальную гибкость, стоит только немного отступить в прошлое и раздвинуть исторические рамки всего на несколько поколений, не говоря уже о сотне лет или тысячелетии. Существующие доказательства, на мой взгляд, требуют, чтобы мы рассматривали горные сообщества — их местоположение, жизненные практики, сельскохозяйственные технологии, системы родства и политическую организацию — как в значительной степени результат обдуманных социальных и исторических решений, призванных четко позиционировать их по отношению к равнинным государствам и другим горным народам, в соседстве с которыми они жили.
Предельный случай: «скрывающиеся деревни» каренов
Предельный случай способен, по причине своей исключительности, показать основополагающую динамику социального процесса. Драконовские меры бирманских военных правителей в борьбе с повстанцами в районах, населенных преимущественно каренами, — как раз такой вариант. Здесь «государственное пространство» вокруг военной базы было не столько подконтрольной ей территорией, сколько полноценным концентрационным лагерем. И наоборот, «безгосударственное пространство» было не просто территорией за пределами эффективного контроля сборщиков налогов, а зоной бегства, куда люди устремлялись в надежде спасти свою жизнь[474].
В духе оруэлловских эвфемизмов бирманская армия называла контролируемые ею гражданские зоны на каренской территории мирными деревнями, а районы, где укрывались сбежавшие от нее жители, — скрывающимися деревнями. Официально определение «мирные деревни» означало, что это сельские поселения, чьи старосты согласились не помогать мятежникам и обеспечивать военному лагерю бесплатную рабочую силу на регулярной основе; в обмен жители деревни получали обещание, что их дома не будут сожжены, а они не будут насильно переселены. На самом деле мирные деревни нередко принудительно переносились на окраины военного лагеря, служа постоянным источником работников и заложников. Их жители проходили процедуру регистрации и получали удостоверения личности, а их земли сельскохозяйственного назначения, бетелевые пальмы и кусты кардамона тщательно оценивались в целях военного налогообложения и реквизиций. Подобные военные базы были миниатюрной — и военизированной — версией центров рисовых государств, которые мы рассмотрели в третьей главе, и их командиры, как правило, получали большую часть необходимого им труда, денежных средств и продовольствия благодаря мирным деревням, наиболее близко расположенным к их штаб-квартирам. Жители деревень подспудно понимали взаимосвязь концентрации населения и принудительного труда. Документально зафиксирован один из множества случаев, когда семь деревень были принудительно объединены в два поселения — Клер Лах и Тей Ко Дер — около казарм. Как сказал один житель деревни: «Когда они не могут найти себе носильщиков, они забирают всех людей из Клер Лах и Тей Ко Дер. Им все равно, мужчина перед ними или женщина, — они угоняют всех… ГОМР [Государственный совет мира и развития, правительство] вынудил нас переселиться туда в 1998 году. Вот почему нас так легко заставить принудительно работать или стать носильщиком [раз уж все живут в одном месте]»[475]. В аналогичной зоне переселения другой наш сельский собеседник отметил, что концентрация деревень вблизи военной базы позволяла эксплуатировать их жителей. «По-моему, они попросили жителей деревень переместиться на эти территории, чтобы у них была возможность заставлять их работать… Когда люди живут в одном месте, бирманцам проще принуждать их работать»[476].
Заставляя обеспечивать себя продовольствием, занимаясь грабежами и погрязнув в коррупции, воинские подразделения превращали районы переселений в зоны гиперэксплуатации. «Идеальный тип» военного пространства — ровная открытая местность (никаких засад!) вдоль главной транспортной артерии, окруженная подотчетным, перемещенным гражданским населением, выращивающим сельскохозяйственные культуры на легко контролируемых полях и служащим живым щитом, заложником, а также источником рабочей силы, денег и продовольствия. Являясь фактически более жесткой версией рисового государства, бирманская армия столь жестоко эксплуатировала рабочую силу и ресурсы захваченного населения, что значительная его часть со временем в отчаянии сбегала[477].
Как поглощенные военной базой деревни с их жителями представляют собой некую пародию на государственное пространство, так и приемы ускользания от государства, которые использовались убегающими от его тягот сельскими жителями, — некоторое преувеличение тех стратегий сохранения безгосударственного состояния, что будут рассмотрены в данной главе. Если вкратце, то последние включают в себя бегство в недоступные районы, рассеяние, разделение на мелкие группы и формирование жизненных практик, которые невидимы посторонним и позволяют вести неприметную жизнь.
Наиболее быстро достижимые убежища от государства обычно располагались в верховьях рек и высоко в горах. «Когда нам приходится бежать, мы бежим высоко в горы», — сообщил сельский староста из каренов. Если беглецов преследовали, то они отступали всё дальше и дальше вверх по течению реки или по склону горы. «Когда они пришли искать нас, мы ушли выше по течению». А «когда они пришли в третий раз, мы бежали сюда»[478]. Преимущество подобных укрытий состоит в том, что по прямой они расположены не очень далеко от деревень и полей беглецов, но при этом на значительном отдалении от любых дорог и потому практически недоступны. По мере нарастания военного давления так называемые скрывающиеся деревни (ywa poun) начинали распадаться на части. В то время как небольшие деревни, от которых они откололись, обычно включали в себя от пятнадцати до двадцати пяти домохозяйств, скрывающиеся деревни редко состояли более чем из семи, а в случае сохранения угрозы могли разделиться на небольшие семейные группы. Чем больше раз происходило разукрупнение, тем более невидимой становилась конкретная отколовшаяся группа, а потому снижалась и вероятность ее преследования, захвата и уничтожения. В конечном счете в подобной ситуации крестьяне могли решиться и на рискованный поход к тайской границе в один из расположенных здесь лагерей беженцев, то есть за пределы юрисдикции бирманского государства.
Те, кто предпочел укрыться в горах, разрабатывали хозяйственные стратегии, призванные помочь им избежать обнаружения и максимизировать их пространственную мобильность, если они будут вынуждены мгновенно сняться с места. Собирательство лесных продуктов обеспечивает исключительно неприметное существование, поскольку не оставляет следов за исключением проходов для собирателей. Но только собирательства редко оказывается достаточно[479]. Как объяснил представитель скрытой в горах деревни, «ее жители вынуждены питаться корнями и листьями растений, и я точно так же питался в лесу. Иногда в течение четырех-пяти дней мне приходилось есть одни только корни и листья… Один год я прожил в лесу в хижине, потому что слишком боялся оставаться в деревне. Я сажал банановые деревья и ел корни и некоторые овощи»[480]. Многие спасающиеся бегством в лесах приносили с собой столько риса, сколько могли, и прятали его небольшими порциями в разных местах. Но те, кто оставался здесь длительное время, расчищали крохотные участки земли, чтобы выращивать кукурузу, маниоку, сладкий картофель и несколько кустов кардамона. Общим правилом была расчистка множества небольших, расположенных далеко друг от друга, неприметных участков: те же принципы пространственного рассеяния и ускользания из поля зрения, что управляли поведением беглецов, определяли и выбор ими сельскохозяйственных занятий. Везде, где было возможно, они начинали выращивать неприхотливые культуры, которые быстро вызревали, а также корнеплоды, которые нелегко было уничтожить или конфисковать и можно было собирать в свободное время. Все и вся — люди, поля и выращиваемые культуры — были ориентированы на избегание захвата. Крестьяне прекрасно понимали, чем им приходилось жертвовать в целях выживания. Сельские ритуалы, школьное обучение, спортивные занятия, торговля и религиозные обряды были существенно сокращены, если не уничтожены полностью, чтобы избежать всех тех тягот, что составляли суть военной и крепостной зависимости на гиперогосударственном пространстве.
Способы бегства от государства, которых придерживались отчаявшиеся жители каренских деревень, представляют собой предельную форму тех стратегий, что характеризуют большую часть истории и социальной организации Вомии в целом. В основном то, что мы сегодня считаем «горным» сельским хозяйством, «горной» социальной структурой и «горным» образом жизни как таковым, как мне кажется, в значительной степени результат усилий по ускользанию от государства (и предотвращению его формирования). Подобные стратегии проектировались и совершенствовались в течение многих столетий в постоянном «диалоге» с рисовыми государствами на равнинах, включая и колониальные режимы[481]. Этот диалог во многих отношениях сыграл основополагающую роль в становлении как горных сообществ, так и их собеседников — рисовых государств. Каждая сторона диалога выработала особые хозяйственные практики, социальную организацию и властные формы; каждая выступает «тенью» другой в сложных взаимоотношениях одновременно мимикрии и противостояния. Горные сообщества живут в тени равнинных государств. Аналогичным образом равнинные государства Юго-Восточной Азии прошли весь свой жизненный путь в окружении относительно свободных сообществ, населявших горы, болота и водные лабиринты, которые представляли собой одновременно угрозу, зону «варварства», искушение, убежище и источник ценных продуктов.
Размещение, размещение, еще раз размещение и мобильность
Недоступность и рассеяние — враги захвата. А для армии в пути, как и для государства, захват — ключ к выживанию. «Вся армия продолжала преследовать улетающего [так в оригинале] короля, но каждый очередной марш-бросок осуществлялся, скорее, по принуждению, деревень по дороге встречалось мало и на больших расстояниях друг от друга на этом малонаселенном тракте, поэтому невозможно было обеспечить достаточно пропитания для армии мужчин и животных, в итоге они были утомлены постоянными маршами, а из-за нехватки регулярного питания им приходилось идти впроголодь. Многие умерли от болезней и истощения, но преследование упорно продолжалось»[482].
Первый принцип бегства от государства — размещение. Благодаря сопротивлению ландшафта существуют районы, которые почти недоступны даже для ближайших (по прямой) государств. Конечно, можно рассчитать что-то вроде градиента относительной недоступности различных территорий для конкретного рисового государства. Подобный расчет неявно присутствует в описании Клиффордом Гирцем зоны досягаемости так называемого государства-театра на Вали. Он отмечает, что «горные правители», поскольку их владения размещались на сложной пересеченной местности, «обладали природным преимуществом в противостоянии военному давлению»[483]. Еще дальше в горах, «на самых больших высотах, можно было встретить несколько обычно занимающихся богарным земледелием сообществ, проживающих вообще за пределами досягаемости каких бы то ни было правителей». Внутри Вомии практически весь юго-запад провинции Гуйчжоу представлял собой, видимо, самую неприступную и недоступную зону с чисто географической точки зрения. Расхожее высказывание о Гуйчжоу гласит, что здесь «не бывает трех ясных дней подряд, не встретишь ровной поверхности даже в три квадратных фута и ни у кого нет больше трех центов в кармане». Путешественник конца XIX века отметил, что не смог увидеть ни одной повозки за все время своего пребывания в Гуйчжоу — вся торговля, «как она есть, ведется со спин двуногих и четвероногих». Многие районы, считавшиеся доступными только для обезьян, на самом деле были зонами бегства бандитов и мятежников[484]. В заданном контексте местоположение оказывается не чем иным, как одним из способов выражения своей маргинальности по отношению к государственной власти. Как мы увидим далее, пространственная мобильность, хозяйственные практики, социальная организация и особенности поселений могут использоваться, нередко в различных сочетаниях, чтобы максимально дистанцировать сообщество от возможных попыток государственного поглощения.
В любой длительной исторической перспективе размещение на периферии государства следует рассматривать как осознанный социальный выбор, а не культурно или экологически детерминированную данность. Размещение, так же как жизненные практики и социальная организация, — величина переменная: ее изменения нередко наблюдались в истории и были документально зафиксированы. В большинстве случаев подобные сдвиги представляют собой позиционирование относительно существующих форм государственной власти.
Так, последние научные исследования позволили опровергнуть натуралистическую трактовку таких «безгосударственных» народов, как оранг-асли («коренные жители») Малайзии. Прежде их считали потомками пришедших с первыми волнами миграции, менее технологически развитыми, чем австронезийское население, которое сформировалось позже и преобладало на полуострове. Однако генетические данные не подтвердили теорию о различных волнах миграции. Оранг-асли (скажем, семангов, темуанов, джакунов, оранг-лаутов), с одной стороны, и малайцев — с другой корректнее рассматривать не как эволюционную, а как политическую последовательность. Данная концепция была убедительно обоснована в работах Джеффри Веньямина[485]. По его мнению, родоплеменной строй в заданном контексте — просто обозначение стратегии бегства от государства; ее полной противоположностью выступает крестьянство, понимаемое как система сельскохозяйственной деятельности, встроенная в жизнь государства. В трактовке Веньямина большинство «племенных» оранг-асли — на самом деле та часть полуостровного населения, что отказалась от государства. Каждое «племя» в рамках оранг-асли — семанги, сенои и малайские племена (темуаны, оранг-лауты, джакуны) — олицетворяет несколько отличающуюся от других стратегию уклонения от государства, поэтому тот, кто ее придерживается, автоматически превращается в семанга, сенои и т. д. Аналогичным образом все подобные безгосударственные народы всегда, вплоть до прихода ислама, имели возможность стать малайцами. Многие не преминули ей воспользоваться, и малайскость несет на себе отпечаток этих поглощений. В то же время оранг-асли были и остаются тесно связаны с равнинными рынками отношениями обмена и торговли.
Для нашего исследования важно, что периферийное размещение — целенаправленная политическая стратегия. Вот как ее характеризует Веньямин:
Во-первых… родоплеменной строй в значительной степени является результатом сознательного выбора, во-вторых… этот выбор существенным образом учитывал наличие основанной на государственности цивилизации (как в современном, так и в досовременном мире)… Значит, тем больше у нас причин помнить, что многие племенные народы жили в географически отдаленных регионах по собственному желанию, и это было частью стратегии по удержанию государства подальше от себя[486].
Второй принцип избегания государства — мобильность, способность менять свое местоположение. Недосягаемость сообщества усиливается, если, вдобавок к размещению на периферии государственной власти, оно может легко перемещаться в более удаленные и выгодные для себя районы. Ровно так же как существует градиент удаленности от центров государств, можно представить и шкалу мобильности — от относительно безграничной способности менять свое местоположение до практически полного ее отсутствия. Классический пример пространственной мобильности — это, конечно, кочевое скотоводство. Перемещаясь со своими стадами на протяжении большей части года, кочевники ограничены лишь наличием пастбищ, поэтому не имеют себе равных в способности передвигаться быстро и на большие расстояния. Их мобильность в то же время прекрасно подходит для набегов на государства и оседлые народы. И действительно, кочевые скотоводы, объединившись в «племенные» конфедерации, нередко представляли серьезнейшую военную угрозу для оседлых, производящих зерно государств[487]. Впрочем, для нас более интересны и важны стратегии избегания государственной власти, возможные благодаря кочевому образу жизни. Так, например, туркмены-йомуды, населявшие окраины Персидского государства, использовали свое кочевничество и чтобы грабить выращивающие зерно сообщества, и чтобы избегать воинских повинностей и уплаты налогов персидским властям. Когда против них организовывались широкомасштабные военные кампании, они отступали в пустынно-степные зоны, недосягаемые для персидской власти вместе со своим скотом и семьями. «Таким образом, мобильность обеспечивала им максимальную защиту от любых попыток персидского правительства установить над ними политический контроль»[488]. Даже там, где легко можно было использовать иные хозяйственные практики, они всегда предпочитали сохранять кочевой образ жизни по причине его стратегических преимуществ: гарантируемой политической автономии, возможности совершать набеги и скрываться от сборщиков налогов и армейских вербовщиков.
В горных районах Юго-Восточной Азии, по экологическим причинам, не сформировались крупные группы скотоводческих народов. Ближайший их эквивалент с точки зрения скорости передвижения — кочевые собиратели. Большинство горных народов ведут образ жизни, в котором присутствуют некоторые элементы собирательства и охоты, а потому, в случае крайней необходимости, они могут переключиться на них. Те группы, что в основном занимаются собирательством, проживают в районах, отдаленных от центров государственной власти, их образ жизни требует высокой пространственной мобильности — эта привычка оказывается исключительно полезной в случае опасности. Историки и население равнинных государств обычно считают подобные группы остатками различных и в эволюционном отношении примитивных «племен». Современная наука опровергла это предположение. Собирательство в нынешнюю эпоху отнюдь не является стратегией выживания отсталых народов — это в значительной степени политический выбор или модель адаптации, оберегающая от захвата государством. Терри Рамбо, описывая занимающихся собирательством семангов Малайского полуострова, четко проговаривает достигнутый в рамках научного знания консенсус: «Итак, семанги кажутся нам примитивными не потому, что являются сохранившейся со времен палеолита группой, вытесненной в изолированное, маргинальное укрытие, но скорее потому что кочевое собирательство как форма адаптации — самая выгодная и надежная стратегия для слабой в оборонительном смысле, численно незначительной этнической группы, проживающей вблизи мощных в военном отношении и нередко враждебных земледельческих обществ… С точки зрения безопасности подобная адаптация также имеет смысл потому, что кочевников намного сложнее поймать, чем оседлых земледельцев»[489].
Однако из этого не следует, что крайние формы пространственного рассеяния гарантируют максимальную безопасность. Наоборот, существует минимальный размер группы, сокращение которого грозит ей новыми опасностями и сложностями. Во-первых, очевидна необходимость защиты от набегов, особенно работорговцев, для чего требуется небольшое сообщество. Отдельное, изолированное поле подсечно-огневых земледельцев более подвержено нападениям вредителей, птиц и прочих диких животных, чем несколько полей, засеянных одновременно вызревающими культурами. Сочетание рисков заболеваний, несчастных случаев, смертей и нехватки продовольствия также говорит в пользу некоторого минимально целесообразного размера группы. Соответственно, атомизация сообщества каренских беженцев, спасающихся от бирманских военных, была предельным средством, действенным лишь в течение очень короткого времени. Даже бродячие народы в целях долговременной самозащиты нуждались в формировании групп хотя бы из нескольких семей.
Если мы рассматриваем жизненные стратегии как результат политического выбора из целого ряда вариантов образа жизни, то должны обязательно учитывать и тот тип мобильности, который обеспечивает каждая конкретная стратегия. Собирательство, наряду с кочевым скотоводством, гарантирует высочайшую мобильность группам, которые желают держаться от государства как можно дальше. Кочевое (подсечно-огневое) земледелие предполагает меньшую мобильность, чем собирательство, но большую, чем оседлое земледелие на постоянных полях, не говоря уже о поливном рисоводстве. Для архитекторов государственного пространства любой значительный отход от поливного рисоводства в центре страны в сторону собирательства, характерного для отдаленных периферийных районов, был угрозой для концентрации рабочей силы и продовольствия, на которой и базировалась государственная власть.
Таким образом, нет поводов полагать, что горные подсечно-огневые земледельцы вели обособленную жизнь в горах, будучи их коренными жителями или по причине своей отсталости. Наоборот, мы располагаем достаточными основаниями утверждать, что они жили там, где хотели, и делали ровно то, что считали нужным. По сути, это был исторический выбор многих бывших равнинных жителей, которые спасались в горах от гнета разорительных налогов или угроз порабощения более сильными народами. Их намерения явно просматриваются в их жизненных практиках — они отказались ассимилироваться в обществах равнинных государств. Одним из намерений, очевидно, было желание избежать захвата в качестве рабов или подданных государствами и их агентами. Уже в IX веке китайский чиновник на юго-западе страны отметил, что было невозможно расселить «варваров» вокруг центров ханьской государственной власти: они были рассеяны по лесам и ущельям, а «потому им удавалось избегать захвата»[490]. Также не следует упускать из виду привлекательность автономии и относительно эгалитарных социальных отношений, преобладающих в горах, что было такой же важной причиной бегства, как и уклонение от барщины и налогов.
Впрочем, и стремление к независимости не исчерпывает положительных мотивов предпочтения горными народами своей жизненной ситуации любым иным альтернативам. Нам известно из современных и археологических данных, что собиратели повсеместно, но прежде всего в самых неблагоприятных природных условиях, оказываются более крепкими и здоровыми, намного реже болеют, особенно эпидемическими зоонозными заболеваниями, чем жители густонаселенных оседлых сообществ. В целом складывается впечатление, что сельское хозяйство с момента своего возникновения снижало уровень человеческого благополучия, а не повышало его[491]. Тогда как в широком смысле кочевое земледелие, благодаря своему разнообразию и обеспечиваемому рассеянию населения, скорее, способствует улучшению здоровья, до тех пор пока имеется достаточно земель. Образ жизни в горах может быть весьма привлекательным из соображений сохранения здоровья и наличия свободного времени. Описанный Марком Элвином запрет раннекитайского государства своим подданным заниматься собирательством и подсечно-огневым земледелием может свидетельствовать о подобной привлекательности, как и широко распространенное убеждение горных народов, что жизнь на равнинах вредна для организма. Эта уверенность явно базируется на чем-то большем, чем тот факт, что комаров — переносчиков малярии крайне редко обнаруживали на территориях выше девятисот метров над уровнем моря.
Досовременное население, несмотря на незнание механизмов и векторов распространения болезней, понимало, что его шансы выжить повышались в случае рассеяния. В своем «Дневнике чумного года» Даниэль Дефо рассказывает, что все люди со средствами уехали из Лондона в сельскую местность при первых же признаках черной чумы. Оксфордский и Кембриджский университеты отослали своих студентов в прибежища в деревнях, как только разразилась эпидемия. Фактически по тем же причинам, как считал Вильям Генри Окотт, в Северном Лусоне и жители долин, и «покоренные» игороты бежали в горы и рассеивались, чтобы укрыться от эпидемий. Оказавшись в горах, игороты знали, что должны рассредоточиться по местности и перекрыть все проходы в горы, чтобы избежать заражения[492].
Иными словами, у нас есть все основания полагать, что в перечень угроз со стороны равнинных государств помимо набегов работорговцев и сбора дани стоит включить невидимых глазу микробов. Это еще одна веская причина для выбора жизни за пределами рисового государства.
Сельское хозяйство беглецов
Не выращивай зерно — будешь привязан к земле.
Лови верблюдов, паси овец.
Наступит день — будет на твоей главе царский венец.
— Из поэмы кочевников
Перспективы Нового Света
Любые попытки рассмотреть историю становления социальной структуры и хозяйственных практик как принятие осознанных политических решений мгновенно наталкиваются на сопротивление доминирующего цивилизационного нарратива. Он представляет собой описание хронологически последовательных этапов экономического, социального и культурного развития. О точки зрения стратегий обеспечения средствами существования последовательность от наиболее примитивной к самой развитой стадии состояния общества выглядит следующим образом: собирательство/охота-собирательство, кочевое скотоводство, садоводство/подсечно-огневое земледелие, оседлое сельское хозяйство на постоянных полях, ирригационное плужное земледелие, промышленное сельскохозяйственное производство. О учетом трансформаций социальной структуры от самых примитивных до современных ее форм исторические этапы развития таковы: небольшие группы в лесах и на равнинах, деревушки, села, малые города, крупные города, мегаполисы. Конечно, речь идет, по сути, о двух аналогичных эволюционных последовательностях, которые фиксируют все возрастающую концентрацию сельскохозяйственного производства (урожайность на единицу площади земли) и населения в крупных агломерациях. Будучи впервые оформлен Джамбаттиста Вико в начале XVIII века, данный нарратив обрел свой доминирующий статус благодаря не только соответствию социальному дарвинизму, но и тому факту, что он прекрасно вписался в те истории, что большинство государств и цивилизаций рассказывает о себе. Лежащая в его основе модель предполагает движение лишь в одном-единственном направлении — все большей концентрации населения и интенсивного зернового производства, никаких откатов назад не допускается, каждый новый шаг по пути прогресса считается необратимым.
Как эмпирическое описание тенденций демографического и сельскохозяйственного развития в теперь уже индустриальном мире последних двух столетий (и пятидесяти лет в беднейших странах) эта модель имеет множество подтверждений. В Европе безгосударственные («племенные») группы по чисто практическим соображениям исчезли уже к началу XVIII века, а в беднейших странах они сокращаются и находятся в тяжелом политико-экономическом положении.
Однако как эмпирическое описание досовременной Европы или большинства беднейших стран до начала XX века, а также горных районов в материковой части Юго-Восточной Азии (Вомни) описанный нарратив совершенно не соответствует действительности. Лежащая в его основе модель исторического процесса не просто предлагает его самодовольное нормативное изображение, но и утверждает неуклонное продвижение к всеобъемлющему поглощению мира государственными структурами. Поэтому здесь стадии цивилизационного развития в то же время фиксируют все сокращающуюся автономию и свободу. Вплоть до недавнего времени множество обществ и групп отказывались от оседлого земледелия в пользу подсечно-огневого и собирательства. Точно также они изменяли свои системы родства и социальную структуру и распадались на всё меньшие и меньшие рассеянные поселения. Археологические находки в полуостровной части Юго-Восточной Азии говорят о постоянных колебаниях в долгосрочной исторической перспективе от собирательства к земледелию и обратно, видимо, в зависимости от обстоятельств[493]. То, что Вико счел бы прискорбным регрессом и упадком, для ряда групп и обществ выступало стратегическим решением проблемы избегания множества тягот жизни в подчинении государственной власти.
Лишь совсем недавно мы пришли к пониманию того, в какой степени весьма примитивные народы сознательно отказывались от оседлого сельского хозяйства и политического подчинения, чтобы вести свободную жизнь. Как уже было отмечено, многие оранг-асли в Малайзии — яркий пример того, о чем идет речь. Впрочем, и в истории Нового Света после Конкисты документально зафиксировано несколько куда более поразительных случаев. Французский антрополог Пьер Кластр первым отметил, что многие «племена» охотников и собирателей в Южной Америке ни в коем случае нельзя считать отсталыми, поскольку прежде они жили в государственных образованиях и занимались оседлым сельским хозяйством. Они целенаправленно отказались от таковых, чтобы избежать порабощения[494]. Кластр утверждает, что они были способны производить большие экономические излишки и создавать крупномасштабные политические структуры, но решили не делать этого, чтобы жить за пределами государственных систем. Испанцы презрительно называли их народами «без бога, закона и короля» (в отличие от инков, майя и ацтеков), но, по мнению Кластра, это были народы, решившие создать относительно эгалитарный социальный порядок, в котором вожди имели незначительную власть или вообще не имели никакого влияния.
Точные причины, почему подобные группы перешли к собирательству и жизни небольшими поселениями, до сих пор являются предметом споров. Видимо, несколько факторов сыграли тут свою роль. Во-первых и прежде всего, это катастрофический демографический коллапс — порядка 90 % коренного населения умерло от завезенных европейцами болезней. Это означало не только разрушение прежних социальных структур на опустошенных землях, но и то, что выжившие получили в свое распоряжение просторные территории для собирательства и подсечно-огневого земледелия[495]. В то же время многие бежали из печально известных испанских reducciones, призванных превратить их в наемных работников, а также от эпидемий, характерных для подобных концентраций населения.
Хрестоматийный пример — индейское племя сирионо в восточной Боливии, впервые описанное Алленом Холмбергом в его классической антропологической работе «Кочевники с длинными луками». Очевидно, не способные получать огонь и изготавливать ткани, живущие в грубых убежищах, не знающие основ математики и точных наук, не имеющие домашних животных и не создавшие развитой космологии, они, по мнению Холмберга, были потомками населения палеолита, сохранившими свое естественное природное состояние[496]. Сегодня мы знаем, и в том не может быть никаких сомнений, что сирионо жили в селах и выращивали сельскохозяйственные культуры примерно до 1920 года, когда эпидемии гриппа и оспы прокатились по их деревням и уничтожили большую часть населения. Будучи атакованы численно превосходящими их народами и спасаясь от грозящего им рабства, сирионо, видимо, оставили свои поля, поскольку были слишком малочисленны и не могли защитить их. Чтобы сохранить независимость и выжить в сложившихся обстоятельствах, им пришлось разделиться на небольшие группы, занимающиеся собирательством и оставляющие свои поселения в случае опасности. Время от времени они нападали на деревни оседлых земледельцев, чтобы разжиться тесаками, топорами и мачете, но очень боялись после набегов принести с собой болезни. Сирионо сознательно отказались от оседлого образа жизни — чтобы уберечь себя от эпидемий и захватов[497].
Кластр рассматривает множество подобных примеров, когда прежде оседлые народы, сталкиваясь с угрозой рабства, принудительного труда и эпидемий, переходили к кочевым жизненным практикам, чтобы держаться подальше от опасностей. Совершенно ясно, что группа особенно многочисленных индейских земледельческих народов тупи-гуарани в XVII веке десятками тысяч спасалась от тройной угрозы — иезуитских reducciones, набегов за рабами португальцев и метисов, намеренных отправить их работать на прибрежные плантации, и эпидемий[498]. Лишенному исторического воображения взгляду позже они стали казаться отсталым, технологически неразвитым народом — остатками аборигенных племен. На самом же деле они адаптировались к более мобильному образу жизни как способу избежать рабства и болезней, навязываемых им цивилизацией.
В нашем распоряжении есть и другой пример создания сельского хозяйства беглецами от государства в Новом Свете. Это сообщества маронов — африканских беглых рабов, которые основывали поселения в местах, недосягаемых для рабовладельцев. Эти сообщества различались своими размерами — от Пальмареса в Бразилии с примерно двадцатью тысячами жителей и нидерландской Гвианы (Суринам) с той же или большей численностью населения до небольших поселений беглецов по всему Карибскому бассейну (на Ямайке, Кубе, в Мексике, Оан-Доминго), а также во Флориде и на границе штатов Виргиния и Северная Каролина в районе Великого мрачного болота. Позже я обращусь к теории «сельского хозяйства беглецов», пока же просто подчеркну повсеместность сельскохозяйственных стратегий, использовавшихся сообществами маронов[499]. В описаниях народов высокогорий Юго-Восточной Азии мы столкнемся с хозяйственными практиками, демонстрирующими родственное сходство с теми, которых придерживались мароны.
Беглые рабы сосредоточивались именно в тех труднодоступных районах, где их было сложно обнаружить, — на болотах, в скалистых горах, глухих лесах и бездорожных пустошах. Если имелась такая возможность, они предпочитали защищенные, хорошо обороняемые места с ведущей к ним одной-единственной дорогой или проходом, за которыми было легко наблюдать и которые в случае опасности можно было перекрывать колючим кустарником или ловушками. Как и бандиты, мароны готовили пути отхода на случай своего обнаружения и неспособности отбить нападение. Подсечно-огневое земледелие, дополненное собирательством, торговлей и воровством, было самым распространенным способом выживания маронов. Они предпочитали высаживать корнеплодные культуры (например, маниоку/кассаву, ямс и сладкий картофель), поскольку те были неприметны и их можно было оставить в земле и собрать урожай в удобное время. В зависимости от степени безопасности конкретного местоположения мароны могли высаживать и более постоянные культуры, такие как бананы, плантайны, суходольный рис, кукурузу, арахис, тыкву и овощи, но их урожай легче было украсть или уничтожить. Одни сообщества маронов оказались недолговечны, другие сохранялись на протяжении поколений. Находясь по определению вне рамок закона, многие из них частично выживали за счет грабежей ближайших поселений и плантаций. Вряд ли хотя бы одно сообщество маронов было самодостаточным. Занимая только те агроэкологические зоны, где они могли получать ценные продукты, многие поселения маронов оказались глубоко интегрированы в крупные экономические сети подпольной и открытой торговли.
Подсечно-огневое земледелие как форма «сельского хозяйства беглецов»
Вряд ли оно было продиктовано лишь экономической необходимостью — подсечно-огневое земледелие, скорее, было частью особого политического пути.
— Аджай С’кариа. Истории гибридизации, 1999
Подсечно-огневое земледелие — самый распространенный вид сельскохозяйственных занятий в горах материковой Юго-Восточной Азии. Но его использование редко рассматривается как осознанный выбор, тем более политический. Скорее, чиновники равнинных государств, включая ответственных за программы развития горных районов, считают подсечно-огневое земледелие примитивным и экологически вредным. Соответственно, те, кто им занимается, объявляются отсталыми. Неявная посылка здесь такова: учитывая имеющиеся в их распоряжении навыки и возможности, эти «отсталые» люди должны были давно отказаться от подобной технологии и перейти к оседлому образу жизни в постоянных поселениях и обработке одних и тех же полей (желательно выращивая поливной рис). И опять мы сталкиваемся с тем, что переход от подсечно-огневого земледелия к поливному рисоводству рассматривается как однонаправленный и эволюционный.
В противовес этой точке зрения я утверждаю, что выбор подсечно-огневого земледелия — преимущественно политическое решение. Я отнюдь не первый, кто предположил подобное, поэтому в следующих параграфах буду отталкиваться от работ того значительного числа историков и этнографов, которые детально исследовали интересующую меня проблематику. Выдающийся китайский специалист по технологиям подсечно-огневого земледелия и практикующим его народам в провинции Юньнань однозначно отверг утверждение, будто первоначальные и более примитивные технологии земледелия неизбежно оказывались в прошлом, как только крестьяне осваивали методы ирригации: «Необходимо подчеркнуть, что совершенно неверно рассматривать подсечно-огневое земледелие в провинции Юньнань как пример примитивного „этапа“ в истории сельского хозяйства. В провинции Юньнань подсечно-огневые практики, ножи и топоры сосуществуют с мотыгами и плугами и по-разному применяются и функционируют. Сложно сказать, что возникло раньше, а что позже… Суть в том, что нет никаких оснований считать наше „чисто“ подсечно-огневое земледелие исходным состоянием сельского хозяйства»[500].
Выбор подсечно-огневого земледелия или, если уж на то пошло, собирательства и кочевого скотоводства означал решение жить за пределами государственного пространства. Это решение в исторической перспективе было краеугольным камнем свободы простого народа в Юго-Восточной Азии. У подданных мелких тайских городов-государств (муангов) в горах, как считает Ричард О’Коннор, всегда было две альтернативы. Первая: сменить место жительства и подданство, перебравшись в другой муанг с более благоприятными условиями жизни. «Второй: сбежать, чтобы заниматься сельским хозяйством в горах, а не на рисовых полях». О’Коннор подчеркивает, что «в горах у крестьянина не было барщинных повинностей»[501]. В целом подсечно-огневое земледелие способствует пространственной мобильности и уже только на одном этом основании, как полагает Жан Мишо, может «использоваться как стратегия бегства или выживания теми группами, которые вынуждены, как, например, хмонги или лоло, мигрировать из Китая… Эти прежде оседлые группы начинали вести кочевой образ жизни вследствие превратностей судьбы, войн, климатических изменений или демографического давления, делавшего их пребывание на родине невыносимым»[502]. Подсечно-огневое земледелие было недосягаемо для налоговой и мобилизационной структур даже самых мелких государств. По этой причине представители всех государств в истории материковой Юго-Восточной Азии единодушно утверждали необходимость препятствовать подсечно-огневому земледелию и осуждать его. Оно было совершенно недоступным для налогообложения видом сельскохозяйственной деятельности: разнообразным, пространственно рассеянным, сложным для контроля, сбора налогов и изъятия его продуктов. Занимавшиеся им крестьяне также были разбросаны, неподконтрольны, неуловимы для отработки барщинного труда и набора на воинскую службу. Именно те характеристики подсечно-огневого земледелия, что превратили его в проклятие для государств, сделали его привлекательным для ускользающих от них народов[503].
Поливное рисоводство и подсечно-огневое земледелие не составляют временную, эволюционную последовательность, как и не являются взаимоисключающими альтернативами[504]. Многие горные народы практиковали и то и другое одновременно, регулируя их соотношение в зависимости от политических и экономических выгод. Аналогичным образом население равнин в прошлом имеет опыт замены поливного рисоводства подсечно-огневым земледелием, особенно в ситуациях, когда эпидемии или миграции резко увеличивали размеры доступных земель. В огромном количестве географических районов можно заниматься и подсечно-огневым земледелием, и выращиванием суходольного и поливного риса. О помощью террасирования при условии наличия надежных постоянных водных потоков и ручьев можно заниматься поливным рисоводством даже на относительно больших высотах и крутых склонах. Искусно возведенные рисовые террасы народа хани в верховьях Красной реки во Вьетнаме и ифугао в Северном Лусоне — яркие тому примеры. Подпитываемые ручьями и родниками террасированные рисовые поля можно встретить у каренов и акха. Древнейшие археологические доказательства выращивания риса на островах Ява и Вали были найдены не на равнинах, а на не очень крутых склонах гор и вулканов, где постоянные водные потоки и ярко выраженный сухой сезон оправдывали занятия рисоводством[505].
Чиновники равнинных государств — как колониальных, так и современных — считали подсечно-огневое земледелие не просто примитивным, но и неэффективным с точки зрения неоклассической экономики. В некоторой степени это совершенно необоснованный вывод, следующий из очевидной неупорядоченности и разнообразия подсечно-огневого земледелия, если сравнивать его с монокультурным рисовым производством. Но, по сути, речь идет о неверной трактовке понятия эффективности. Несомненно, поливное рисоводство намного продуктивнее в расчете на единицу земли, чем подсечно-огневое земледелие, но, как правило, менее продуктивно в расчете на единицу труда. Какой из двух видов сельскохозяйственной деятельности окажется более эффективен, зависит, в первую очередь, от того, недостаток какого именно фактора производства — земли или труда — наблюдается в конкретной местности. Там, где отмечено относительное изобилие земли и дефицит рабочей силы, чем исторически характеризовалось большинство регионов материковой Юго-Восточной Азии, подсечно-огневое земледелие оказывалось более трудосберегающей технологией, а потому более эффективной. Важность рабства для процессов государственного строительства, в свою очередь, свидетельствует о необходимости применять насилие, чтобы захватывать подсечно-огневых земледельцев и перемещать их в трудоинтенсивные рисоводческие районы, где с них можно было взимать налоги. Относительная эффективность каждой сельскохозяйственной технологии зависела не только от демографических, но и от агроэкологических условий. В районах, где ежегодные разливы рек оставляли после себя плодородный ил, который легко было засаживать, поливное рисоводство на периодически затапливаемых землях было менее трудоинтенсивным, чем тогда, когда требовалось проведение сложных ирригационных работ и строительство прудов (и каналов). И наоборот, на крутых склонах с ненадежной системой водоснабжения трудозатраты на выращивание поливного риса были непомерно высокими. Впрочем, подобные оценки относительной эффективности сельскохозяйственной деятельности с точки зрения факторных издержек совершенно не принимают во внимание определяющей роли политического контекста. Несмотря на огромное количество труда, необходимого для их реализации и сохранения, в горах реализовывались сложные проекты террасирования для поливного рисоводства вопреки всем рациональным постулатам неоклассической логики. Видимо, тому есть прежде всего политические причины. Эдмунд Лич заинтересовался террасированием в горных районах, где проживали качины, и пришел к выводу, что оно проводилось из военных соображений: чтобы защитить основной проход и контролировать торговлю и сбор пошлин, необходим был многочисленный и обеспечивающий себя самостоятельно продовольствием военный гарнизон[506]. Этот пример иллюстрирует попытки создавать в горах миниатюрные агроэкологические пространства, которые могли бы поддерживать мелкие государственные образования. В других случаях террасирование, как и возведение укрепленных частоколов вокруг поселений, о чем сообщали первые колониальные путешественники, предпринималось в целях защиты от набегов равнинных государств и от экспедиций за рабами, удовлетворявших потребность этих государств в рабочей силе. И здесь мы опять сталкиваемся с политическими, а не экономическими соображениями. Чтобы успешно противостоять нападениям работорговцев, требовалось одновременно относительно труднодоступное местоположение и критическая масса собравшихся в нем защитников, которые могли бы одолеть почти любого врага, за исключением самых крупных и решительных противников[507]. Мишо предполагает, что высокогорные террасы для выращивания поливного риса у хани в северном Вьетнаме — результат труда людей, которые хотели вести оседлый образ жизни, но на достаточном отдалении от центров государственной власти[508].
В большинстве случаев подсечно-огневое земледелие выступало самой распространенной агрополитической стратегией противодействия набегам, процессам государственного строительства и захватам. Если оправданно считать, что пересеченная местность увеличивает сопротивление ландшафта, то имеет смысл рассматривать подсечно-огневое земледелие как стратегию затруднения захвата. Это решающее преимущество, присущее данной сельскохозяйственной технологии, ее политический козырь, который, в свою очередь, приносит и экономические дивиденды.
Чтобы проиллюстрировать политические возможности подсечно-огневого земледелия, давайте представим демографические и агроэкологические условия, в которых возможна не только данная сельскохозяйственная технология, но и поливное рисоводство и в которых ни одна из указанных технологий не обладает значимыми преимуществами с точки зрения эффективности. В этом случае выбор какой бы то ни было из них становится политически и социокультурно детерминирован. Важные политические достоинства подсечно-огневого земледелия — рассеяние населения (предпочитает бегство, а не сопротивление), поликультурное сельское хозяйство, разные сроки вызревания урожая и акцент на корнеплодах, которые могут некоторое время оставаться в земле, прежде чем будут собраны. Государству или занимающейся набегами стороне в результате доставались сельскохозяйственные излишки и население, которое сложно подсчитать и тем более захватить[509]. Именно эта сельскохозяйственная технология, если не принимать во внимание собирательство, максимизирует сопротивляемость поглощению государством. Если же, наоборот, население решит выращивать поливной рис, то станет легкой добычей государства (или бандитов), которое знает, где найти земледельцев и их урожай, телеги, рабочий скот и имущество. В таком случае вероятность, что тебя или твою собственность украдут или уничтожат, значительно возрастает, а сопротивляемость захвату снижается.
Таким образом, даже чисто экономическая оценка подсечно-огневого земледелия должна учитывать гарантируемые им политические преимущества — уклонение от уплаты налогов и отработки барщины и снижение эффективности набегов. Если валовой доход от поливного рисоводства и подсечно-огневого земледелия оказывался более или менее одинаковым, то чистая прибыль первого все равно была меньше, потому что выращивающий поливной рис крестьянин должен был оплачивать «аренду» земли своим трудом и зерном. Соответственно, у подсечно-огневого земледелия есть два преимущества: оно обеспечивает относительную независимость и свободу (хотя здесь есть свои опасности) и позволяет крестьянам распоряжаться своим трудом и его плодами. По сути, это политические преимущества.
Заниматься земледелием в горах означало выбирать социальную и политическую жизнь за пределами государства[510]. Элемент сознательного политического выбора выразительно подчеркнут в анализе устройства яванских государств и сельского хозяйства, проведенном Майклом Доувом: «Ровно так же как расчищенные земли стали ассоциироваться со становлением яванских государств и их культур, так и леса начали связывать с нецивилизованными, неподконтрольными и пугающими силами… Исторический фундамент подобных страхов был вполне реален: подсечно-огневые земледельцы древней Явы не были частью правящей придворной культуры и — что более важно — никогда ею не контролировались»[511]. Можно предположить (как это сделал Хьёрлифур Йонссон в исследовании народа яо/мьен, проживающего на тайско-китайской границе), что использование подсечно-огневого земледелия в значительной степени объяснялось тем, что оно позволяло находиться за пределами досягаемости государства. Йонссон считает, что отождествление государства с поливным рисоводством определило политический вес выбора той или иной сельскохозяйственной технологии, который иначе был бы политически нейтрален. «Два сельскохозяйственных метода в исторической перспективе могли использоваться и совместно, но задача контроля со стороны государства заставляет его жителей заниматься поливным рисоводством, становиться ремесленниками, солдатами и кем-то еще, или же они существуют без государства, как подсечно-огневые земледельцы»[512].
Весьма показательны в заданном контексте хмонги/мяо. Обычно их рассматривают как типичный пример горной этнической группы, живущей выше девятисот метров над уровнем моря за счет подсечно-огневой технологии выращивания опия, кукурузы, проса, корнеплодов, гречихи и других высокогорных культур. Но на самом деле хмонги используют множество разнообразных сельскохозяйственных технологий. Как сказал один крестьянин, «мы — хмонги, некоторые из нас возделывают только [суходольный] рис, некоторые выращивают только поливной рис, а некоторые делают и то и другое»[513]. Судя по всему, хмонги постоянно принимают политические решения о том, какова должна быть дистанция между их сообществом и государством. Если последнее рассматривается как прямая и явная угроза или, что случается реже, выступает как непреодолимое искушение, то решение о выборе сельскохозяйственной технологии оказывается крайне политически нагруженным. Если государство грозно детерминирует выбор с культурной и политической точек зрения, то решение о приоритетности конкретной сельскохозяйственной технологии отражает решимость стать подданным государства, «горным племенем» или же, что грозит более неустойчивым положением, балансировать между двумя альтернативами. Из всех хозяйственных практик, доступных земледельцам, подсечно-огневое сельское хозяйство, благодаря тем препятствиям (сопротивлению), что оно ставит на пути государственного захвата, оказалось самой распространенной стратегией избегания государства.
Подбор культур в сельском хозяйстве беглецов
Логика формирования сельского хозяйства беглецов и сопротивления захвату государством применима не только в целом к технологическому комплексу, объясняя, например, предпочтение подсечно-огневого земледелия, но и к выбору конкретных культур. Роль подсечно-огневого земледелия в противодействии государственному захвату обусловлена его использованием в горных районах, рассеянием населения и тем ботаническим разнообразием, что оно обеспечивает. Для подсечно-огневых земледельцев не редкость выращивание шестидесяти и более сортов, а также стремление и призывы к подобному разнообразию. Представьте себе, со сколь невообразимо сложной задачей сталкивались даже самые энергичные сборщики налогов, которые пытались каталогизировать объекты налогообложения, не говоря уже об их оценке и сборе налогов в подобных условиях[514]. Именно по этой причине, как отметил Дж. Дж. Скотт, горные народы «не принимались в расчет, независимо от типа государства» и «в глазах чиновников попытки подсчитать количество домов или даже деревень этих людей были пустой тратой сил»[515]. Прибавьте сюда тот факт, что большинство подсечно-огневых земледельцев также занимались охотой, рыбной ловлей и собирательством в ближайших лесах. Используя столь внушительный набор стратегий выживания, они распределяли риски, обеспечивали себе разнообразный и питательный рацион и представляли почти неразрешимую проблему для любого государства, которое хотело их поглотить[516]. Вот почему большинство юго-восточно-азиатских государств ограничивались захватом подсечно-огневых земледельцев и насильственным расселением их на заранее обустроенном государственном пространстве[517].
Сельскохозяйственные культуры имеют характеристики, которые в большей или меньшей степени усложняют государственное присвоение. Те из них, что не могут долго храниться и быстро портятся, как свежие фрукты и овощи, или те, чья цена за единицу веса и объема низка, как у большинства тыквенных, корнеплодных и клубневых культур, не оправдывают затраченных сборщиком налогов усилий.
В целом корнеплоды и клубневые растения, такие как ямс, сладкий и обычный картофель и кассава/маниока/юкка, практически полностью защищены от захвата. Когда они созревают, их можно смело оставлять в земле на срок до двух лет и выкапывать понемногу по мере необходимости. Соответственно, здесь не нужны овощехранилища, которые можно разграбить. Если армия или сборщики налогов хотят изъять, например ваш картофель, им придется выкапывать его клубень за клубнем. Измученные неурожаями и разорительными закупочными ценами на культуры, рекомендованные бирманским военным правительством в 1980-е годы, многие крестьяне тайно выращивали сладкий картофель, что было строжайше запрещено. Выбор этого растения был обусловлен тем, что его урожай легче скрыть и практически невозможно изъять[518]. Ирландцы в начале XIX века выращивали картофель не только потому, что таким образом можно было обеспечить себе калорийное питание с небольших наделов доставшейся крестьянам земли: его нельзя было конфисковать или сжечь, его выращивали на небольших холмах, и [английский] всадник рисковал переломать своей лошади ноги, если бы пустил ее галопом через картофельное поле. К сожалению, в распоряжении ирландцев была лишь мизерная доля доступного в Новом Свете генетического разнообразия картофеля, поэтому они выживали фактически только за счет картофеля и молока.
Опора на корнеплоды, особенно картофель, может оградить и государства, и безгосударственные народы от хищнических военных разграблений и присвоений урожая. Вильям Макнил связывает расцвет Пруссии в начале XVIII века с картофелем. Вражеские армии могли захватить или уничтожить зерновые поля, сельскохозяйственных животных и растущие над землей кормовые культуры, но были бессильны против скромного картофеля, культуры, которую столь энергично пропагандировали Фридрих Вильгельм I и Фридрих II после него. Именно картофель обеспечил Пруссии ее уникальную неуязвимость перед лицом иностранных вторжений. В то время как выращивающему зерновые культуры населению, чьи запасы зерна и урожай конфисковывались или уничтожались, не оставалось ничего иного, как разбежаться и умереть с голоду, специализирующееся на клубневых культурах крестьянство могло вернуться домой сразу после того, как военная угроза миновала, и выкопать свой главный в ту эпоху пищевой продукт[519].
При прочих равных условиях сельскохозяйственные культуры, которые можно возделывать на приграничных территориях или больших высотах (например кукуруза), способствуют бегству от государства, потому что предоставляют земледельцам больше возможностей для рассеяния и спасения. Культурные сорта, которые неприхотливы и/или быстро вызревают, также помогают ускользать от государства, поскольку гарантируют большую мобильность, чем трудоинтенсивные и долго вызревающие растения[520]. Незаметные низкорослые культуры, которые сливаются с окружающей природной растительностью, государствам сложно заметить, а потому и присвоить. Чем шире разбросана культура по местности, тем труднее ее изъять, как и сложно захватить рассеянное население. В той степени, в какой подобные культуры формируют сельскохозяйственный набор подсечно-огневых земледельцев, последние оказываются недоступны для налогообложения государствами и разграбления бандитами и считаются «не заслуживающими внимания», то есть живущими на безгосударственном пространстве.
Подсечно-огневое земледелие Юго-Восточной Азии как форма бегства от государства
Мы опровергли ошибочное утверждение, что подсечно-огневое земледелие неизбежно является историческим предшественником оседлого земледелия, а потому более примитивным и менее эффективным по сравнению с последним, но мы должны развеять еще одну иллюзию. Она состоит в том, что подсечно-огневое земледелие рассматривается как относительно неизменная сельскохозяйственная технология, которая практически не претерпела изменений за последнее тысячелетие. Напротив, следует признать, что подсечно-огневое земледелие и, если уж на то пошло, собирательство куда более серьезно переменились за этот период, чем поливное рисоводство. Некоторые ученые утверждают, что знакомое нам подсечно-огневое земледелие возникло, по сути, в результате изобретения железных, а позже и стальных лезвий, которые радикально сократили трудозатраты на вырубку лесов и расчистку полей[521]. Несомненно одно: стальной топор превратил подсечно-огневое земледелие в способ бегства от государства даже в прежде сложных для расчистки полей районах и в целом облегчил использование этой сельскохозяйственной технологии.
По крайней мере еще два других исторических фактора обусловили трансформации подсечно-огневого земледелия. Во-первых, международная торговля ценными товарами, которая с УШ века связывала подсечно-огневых земледельцев и собирателей с мировым рынком. Перец, самый дорогой товар международной торговли с 1450 по 1650 год, не говоря уже о золоте и, видимо, рабах, — яркий тому пример. И прежде лекарственные растения, смолы, органы животных, перья, слоновая кость и ароматическая древесина пользовались высоким спросом в торговле с Китаем. Специалист с Борнео даже утверждал, что собственно целью подсечно-огневого земледелия была поддержка торговцев, которые прочесывали леса в поисках ценных товаров[522]. Последним фактором, изменившим подсечно-огневое земледелие, стало прибытие из Нового Света с начала XVI века целого ряда растений, которые значительно увеличили масштабы и упростили занятие данным видом сельского хозяйства. Независимо от обеспечивавшейся подсечно-огневым земледелием политической автономии, его явные экономические преимущества по сравнению с поливным рисоводством лишь возрастали с XVI по XIX век, гарантируя при этом постоянный доступ на международный торговый рынок.
Трудно сказать, насколько решающее значение имели перечисленные факторы для массового бегства и перехода к подсечно-огневому земледелию бирманцев, живших прежде в центральных районах страны, в первые годы XIX столетия. Тем не менее это событие очень важно для нашего исследования. Обычно подсечно-огневое земледелие рассматривается как типичная хозяйственная практика этнических меньшинств. Здесь же, однако, мы видим, что к ней обратилось, предположительно, население бирманского рисового государства. Обстоятельства его оттока из центра страны, видимо, представляют собой предельный случай чрезмерно обременительных налогов и барщинных отработок. Как уже было отмечено в пятой главе, амбициозные проекты короля Водопайи, связанные с завоевательными войнами, строительством пагод и общественными работами, привели к массовому обнищанию его подданных — последовали восстания, бандитские разбои и прежде всего стремительное бегство земледельцев. В результате центр страны настолько обезлюдел, что чиновники зафиксировали появление огромных участков заброшенных сельскохозяйственных земель. «Под давлением государственных поборов многие семьи сбежали в менее доступные сельские районы», что и привело, как отмечает Вильям Кёниг, к широкомасштабному «переходу к подсечно-огневому земледелию»[523]. В результате массового перераспределения населения беглые подданные короля оказались за пределами досягаемости государственной власти и/или стали использовать сельскохозяйственные технологии, продукцию которых было сложно изъять.
У нас есть все основания полагать, что значительная часть монов, прежде оседлых, исповедовавших буддизм Тхеравады, занимавшихся поливным рисоводством, оставила свои рисовые поля после целого ряда войн и восстаний против бирманского двора в Аве в середине XVIII столетия. Их бегство, вместе с союзниками-каренами, от хаоса и военных поражений, видимо, сопровождалось возвращением к подсечно-огневому земледелию, в том числе и для защиты своих продовольственных запасов[524].
Бегство и подсечно-огневое земледелие были весьма распространенным ответом и на чрезмерные требования колониальных властей. Жорж Кондоминас отмечает, что французские колониальные чиновники в Лаосе часто жаловались на «перемещение целых деревень, когда возлагаемые на них обязанности оказывались слишком обременительными; например, если деревня была расположена вблизи дороги, за состоянием которой она должна была постоянно следить»[525]. Подобные миграции обычно сопровождались переходом к подсечно-огневому земледелию, поскольку лаосское, тайское и вьетнамское крестьянство понимало, что в этом случае государству сложнее подсчитать производимые продукты, а потому их проще утаить.
Обращение к подсечно-огневому земледелию и собирательству как способ избежать смертельных опасностей войны — далеко не архаический предмет научного интереса. В годы Второй мировой войны и последовавших за ней военных подавлений восстаний в Юго-Восточной Азии отступление в верховья рек и подальше от тягот военного времени было широко распространенным явлением. Пунаны-лусонги в Оараваке начали выращивать рис задолго до 1940 года, но после японского вторжения вернулись в леса как собиратели и подсечно-огневые земледельцы, возобновив занятия оседлым сельским хозяйством лишь в 1961 году.
В этом они были схожи со своими соседями — крестьянами кеная и себоп, которые в какой-то момент могли рассеяться в лесах на два-три года, выживая благодаря саговым пальмам и дичи. Причем подобная адаптационная стратегия совершенно необязательно означала нищенское существование: хотя во время войны обычные торговые возможности утрачивались, саговая пальма обеспечивала по крайней мере вдвое более калорийным питанием, чем подсечно-огневая технология выращивания риса в горах[526]. На полуострове в Западной Малайзии джакуны (малайские оранг-асли) укрывались в верховьях Сушей Лингуи (реки Лингуи), чтобы избежать пленения или столкновений с японскими войсками. Они были известны хорошим знанием лесов, поэтому их часто использовали как проводников и носильщиков на службе японской, а затем, в годы Малайского чрезвычайного положения, британской армии и коммунистических повстанцев. Будучи в бегах, джакуны выживали благодаря кассаве, сладкому картофелю, бананам, нескольким видам овощей и небольшому количеству риса, предназначавшегося только пожилым и детям. Они съедали крикливых петухов, чтобы те своим кукареканьем не выдали их местонахождение[527].
Сельскохозяйственные культуры беглецов в Юго-Восточной Азии
«Сельскохозяйственными культурами беглецов» мы называем те, что обладали одной или несколькими характеристиками, позволявшими уберечь их от присвоения государством и бандитами. В большинстве случаев они просто-напросто хорошо произрастали в тех экологических нишах, которые трудно нанести на карту и контролировать: на высоких скалистых горах, в болотах, в дельтах рек, на мангровых берегах и т. д. Если к тому же они вызревают в разное время, быстро растут, их легко спрятать среди естественной растительности, они неприхотливы, их цена невысока в расчете на единицу веса и объема, их плоды созревают под землей, то они обретают принципиально важное значение для бегства. Многие подобные культуры идеально подходят для подсечно-огневого земледелия, что еще больше повышает их ценность как факторов, способствующих ускользанию от набегов[528].
До завоза сельскохозяйственных культур из Нового Света возможности для бегства и маневра жаждущим независимости от государства обеспечивали несколько произрастающих на больших высотах зерновых. Овес, ячмень, быстрорастущее просо и гречиха, как и капуста с репой, хорошо переносили скудность почв, большие высоты и короткий вегетационный период, что позволяло селиться на более высоких горных склонах, чем в случае занятий рисоводством. Корнеплодные и клубневые культуры Старого Света, таро и ямс, как и саговая пальма, тоже благоприятствовали расселению безгосударственных народов[529]. Таро можно было выращивать на относительно больших высотах, хотя оно требует влажных плодородных почв. Его можно было высаживать в любое время года, клубни быстро созревали; эта культура требовала незначительного ухода и обработки перед употреблением в пищу; после вызревания клубни можно было надолго оставить в земле и выкапывать по мере необходимости. Ямс, также произраставший в дикой природе, обладал схожими и дополнительными достоинствами. Хотя ямс требует больше труда и его следует высаживать только в конце сезона дождей, он менее восприимчив к вредителям и синей гнили, может произрастать в более разнообразных природных условиях, и его можно продавать на рынке. До начала эпохи доминирования культур Нового Света ямс начал теснить таро, потому что, как полагает Петер Вумгаард, практически все земли, пригодные для выращивания таро, оказались заняты поливным рисоводством, а ямс хорошо себя чувствует и на засушливых склонах гор. Саговая пальма (на самом деле это не пальма) и порошкообразный крахмал, получаемый из ее ствола (ствол разрубают, сердцевину дробят, разминают, промывают и просеивают), также упрощали бегство от государства. Саговая пальма распространена в дикой природе и быстро растет, требует меньше труда, чем суходольный рис и даже кассава, выживает даже на болотистых почвах. Получаемый из ядра ствола саговой пальмы крахмал можно продать и обменять, как и ямс, но она не произрастает выше девятисот метров над уровнем моря[530]. Все названные культуры известны как «голодные продукты». От них часто зависело даже выживание выращивавших поливной рис земледельцев — в течение голодного периода, предшествовавшего сбору нового урожая. Для других крестьян они были основой рациона, который оберегал их от государственного поглощения.
Сельское хозяйство беглецов претерпело радикальные изменения с начала XVI века после завоза растений из Нового Света. Кукуруза и маниока сыграли здесь столь важную роль, что каждое из этих растений заслуживает особого рассмотрения. Однако можно выделить и ряд общих черт сельскохозяйственных культур Нового Света. Прежде всего, как и многим другим «экзотическим» растениям, перенесенным в абсолютно новые экологические условия, первоначально им не угрожали вредители и болезни, от которых они страдали в своих домашних природных нишах, поэтому они стали буйно разрастаться. Это преимущество, наравне с другими, объясняет, почему эти культуры с таким рвением стали возделывать в большинстве регионов Юго-Восточной Азии, и особенно те земледельцы, которые стремились жить в недосягаемых для государства местах. Сладкий картофель — другой показательный пример. Георг Эберхард Румф, великий голландский ботаник и естествоиспытатель, с удивлением обнаружил, что эта культура быстро распространилась по всей голландской Ост-Индии к 1670 году. Этому способствовали такие ее достоинства, как высокая урожайность, устойчивость к болезням, питательная ценность и хороший вкус. Но значение сладкого картофеля как сельскохозяйственной культуры бегства определялось тремя другими характеристиками: он быстро вызревал, был более калорийным в пересчете на затраты труда, чем местные сорта съедобных корнеплодов и клубневых культур, и, что сыграло решающую роль, его можно было выращивать на больших высотах, чем ямс и таро. Вумгаард полагает, что сладкий картофель способствовал бегству от государства тем, что повысил численность населения в высокогорных районах, где его выращивание часто (как и в Новой Гвинее) сочеталось со свиноводством. Сладкий картофель стали культивировать даже кочевые и полуоседлые народы в таких труднодоступных районах, как остров Буру[531]. Его значение как сельскохозяйственной культуры беглецов оказалось еще более очевидно на Филиппинах, где испанцы видели в нем причину кочевого образа жизни игоротов, которых они не могли ни сосчитать, ни заставить вести оседлую жизнь: «[Они перемещаются] с места на места по малейшему поводу, и ничто не может остановить их, поскольку своим домом, который мог бы составить предмет их заботы, они считают брошенную в любом месте охапку сена; они передвигаются с места на место, унося с собой урожай ямса и батата [сладкого картофеля], благодаря которому могут жить без особых хлопот, выкапывая клубни и увозя их с собой, потому что могут высадить их в любом месте, где захотят устроить поселение»[532]. Любая сельскохозяйственная культура, которая позволяет людям перемещаться в прежде недоступные районы и гарантирует их выживание там, по определению стигматизируется государством.
Продолжая анализировать продовольственные культуры, важно не забывать о том, что сколь бы обособленную жизнь ни вели горные народы или сообщества маронов, они никогда не могли полностью обеспечить себя всем необходимым. Практически все эти группы выращивали, собирали или охотились на ценные продукты, которые можно было обменять или продать на рынках равнинных государств. Они стремились использовать все возможности торговли и обменов, сохраняя при этом политическую независимость. В исторической перспективе в список подобных ценных товаров входили хлопок, кофе, табак, чай и прежде всего опий. Эти культуры требовали значительного труда и некоторой степени оседлости, но вполне сочетались с политической автономией, если выращивающие их сообщества были недоступны для государства.
Для любой сельскохозяйственной культуры можно примерно рассчитать ее пригодность для бегства от государства. В таблице 3 показаны различия продовольственных культур по этому критерию (в нее также включены опий и хлопок)[533]. Построить порядковую шкалу по критерию «способствования бегству» вряд ли возможно, поскольку такие показатели, как трудоинтенсивность, зимостойкость и срок сохранности, не поддаются однозначной оценке. Однако, учитывая особенности конкретной агроэкологической ниши, можно провести некоторое условное сравнение. Анализ того, почему две сельскохозяйственные культуры, кукуруза и кассава (также известная как маниока или юкка), обе завезенные из Нового Света, стали цениться за их способствующие бегству от государства характеристики, задаст исторический контекст для тех глобальных сопоставлений, которые по определению невозможно было включить в таблицу.
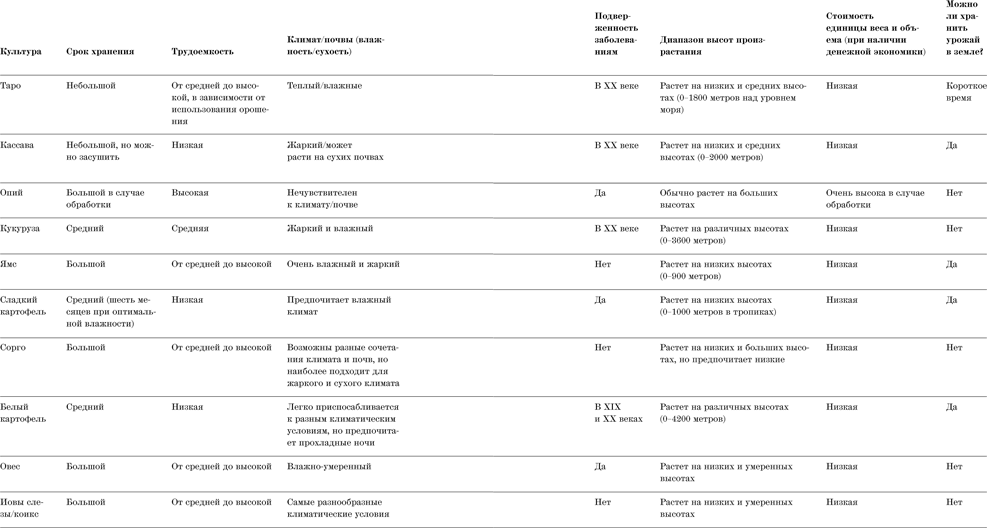
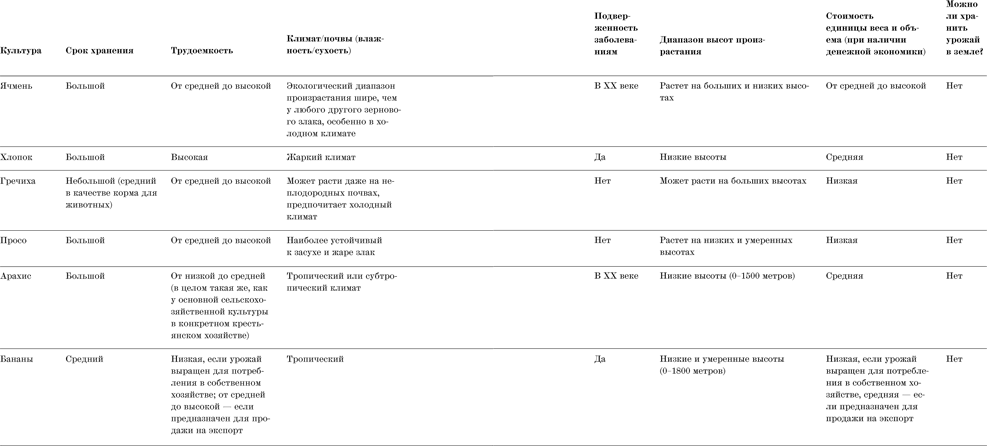
Источники: Briggs D. F. Barky. Lone/on; Chapman and Hall, 1978; Coursey D. G. Yams: An Account of the Nature, Origins, Cultivation, and Utilisation of the Useful Members of the Dioscoreaceae. London: Longman’s, 1967; Hobhouse H. Seeds of Change: Five Plants That Transformed Mankind. New York-Harper and Row, 1965; Kapoor L. D. Opium Poppy: Botany, Chemistry, and Pharmacology. New York Haworth, 1995; CRC Handbook of Tropical Food Crops / Ed. by F.W. Martin. Boca Raton: CRC Press, 1984; Prentice A. N. Cotton, with Special Reference to Africa. London: Longman’s, 1970; Purdue University, New Crop Online Research Program [www.hort.purdue.edu/newcrop/default.html]; Sauer J. D. Historical Geography of Crop Plants: A Select Roster. New York: Lewis, 1993; Simmonds W. Bananas. London: Longman’s, 1959; United Nations Food and Agriculture Organization. The World Cassava Economy: Facts, Trends, and Outlook. New York: UNFAO, 2000.
Кукуруза
Будучи завезена португальцами в Юго-Восточную Азию в XV столетии, кукуруза быстро распространилась по всему региону[534]. Она завоевала прочные позиции во всех прибрежных районах Юго-Восточной Азии к концу XVII века и к 1930-м годам составляла почти четверть сельскохозяйственной продукции мелких домохозяйств. Кукуруза распространилась столь повсеместно, что даже вошла в местные космологические верования и, наряду с перцем чили, также завезенным из Нового Света, стала считаться исконной местной культурой большинством жителей Юго-Восточной Азии.
Если бы вам было нужно придумать сельскохозяйственную культуру беглецов, вряд ли вам в голову могло прийти что-то более подходящее. Кукуруза по многим показателям превосходит горный рис. Она не только обеспечивает большую калорийность урожая в пересчете на единицу вложенного труда и возделываемой земли, чем горный рис, но и дает более стабильные урожаи, выдерживая более сложные погодные условия. Кукурузу можно высаживать среди других культур, она быстро вызревает, ее можно использовать в кормовых целях; будучи высушена, она хорошо хранится и по питательным свойствам превосходит горный рис. Самое главное для нас, что кукурузу «можно выращивать в районах, которые расположены слишком высоко, на слишком крутых склонах, на слишком засушливых и непригодных для горного риса почвах»[535]. Эти характеристики позволяли и горным народам, и жителям равнин осваивать новые территории, которые прежде считались непригодными для проживания. Теперь можно было селиться в самых верховьях рек, на высоте тысяча двести метров и выше, получив в свое распоряжение надежную продовольственную культуру. В труднодоступных местах, где сопротивление расстояния обеспечивало некоторую сохранность поселений, кукуруза позволяла вести почти оседлый образ жизни вне зоны досягаемости государства. На плоскогорьях, где прежде в течение длительного времени сообщества занимались поливным рисоводством, они получили возможность осваивать близлежащие холмы за пределами центра рисового государства.
Благодаря кукурузе свободная жизнь вне рисового государства внезапно стала намного проще и заманчивее. Неожиданно возникшей возможностью воспользовалось такое количество людей, что произошло значительное перераспределение населения. Вот как Вумгаард описывает ситуацию: «Кукуруза предоставила шанс тем группам и индивидам, кто по политическим, религиозным, экономическим соображениям или же из стремления к здоровому образу жизни хотел покинуть населенные пунктах на равнинах или деревни в горах, выжить и даже вести благополучную жизнь в прежде малонаселенных горных районах»[536]. Выло даже высказано предположение, что кукуруза сыграла важную роль в формировании высокогорных безгосударственных сообществ. В случае с исповедовавшими индуизм яванцами, жившими в горах Тенгер Восточной Явы, в чем убежден Роберт Хефнер, кукуруза «способствовала медленному отступлению индуистских крестьян все выше вверх по склонам, во все менее доступные районы гор Тенгер, после завоевания мусульманами индуистского города Маджапахит»[537]. Практически повсеместно кукуруза и другие высокогорные сельскохозяйственные культуры (картофель, кассава) имели решающее значение для формирования горных сообществ и маркирования их политических и культурных отличий от равнинных государств. Причины оставления государственных пространств могли быть совершенно различны: религиозная рознь, война, барщина, технологии земледелия, насильно навязываемые колониальными властями, эпидемии, рабство, — но во всех случаях кукуруза оказывалась новой и ценной культурой для потенциальных беглецов[538].
Горные хмонги, жившие вблизи или непосредственно в Таиланде и Лаосе, в течение последних двух столетий постоянно бежали — от ханьской военной экспансии, от последствий неудачных восстаний против ханьской, а затем и французской власти в Тонкине. Их поселения обычно располагались выше тысячи метров над уровнем моря, они выращивали кукурузу, бобы, корнеплоды, тыкву и опийный мак, а потому могут считаться безгосударственным народом. Именно кукуруза прежде всего сыграла решающую роль в успешности их бегства. Горный рис в принципе не растет выше тысячи метров; с другой стороны, опийный мак цветет только выше девятисот метров. Если бы хмонги рассчитывали только на горный рис и опий как на основные сельскохозяйственные культуры, то были бы вынуждены селиться в узком диапазоне высот между девятьюстами и тысячей метров над уровнем моря. Но благодаря кукурузе они получили в свое распоряжение еще триста метров, где прекрасно растут и кукуруза, и опийный мак и где вероятность привлечь внимание государства незначительна.
Кассава/маниока/юкка
Несомненно, чемпионом среди сельскохозяйственных культур беглецов Нового Света была кассава[539]. Как и кукуруза, она быстро распространилась по всей морской и материковой Юго-Восточной Азии. Она может расти практически везде в поражающих своим разнообразием условиях. Этот крупный корнеплод столь вынослив и самодостаточен, что сдержать его распространение сложнее, чем культивировать[540]. Кассава идеальна для открытия новых земель, устойчива к засухам, может произрастать на почвах, на которых не выживают никакие иные культуры. Как и у других завезенных из Нового Света растений, у нее мало природных врагов; в отличие от таро и сладкого картофеля, ее не любят дикие свиньи[541]. Недостаток у кассавы один — она не растет на больших высотах, в отличие от кукурузы и картофеля, но никаким другим образом не ограничивает возможности расселения и территориальной мобильности кочевого народа.
Кассава обладает всеми характеристиками корнеплодных и клубнеплодных сельскохозяйственных культур беглецов. Хотя она не созревает так же быстро, как, скажем, сладкий картофель, ее можно оставить дозревать в земле и выкапывать по мере необходимости. Повсеместность произрастания и выносливость в сочетании с тем фактом, что только надземная часть кассавы может быть уничтожена огнем, снискали ей звание farina de guerra — «продукт/мука войны» — в испаноговорящем мире: партизаны в данном случае представляют собой предельный случай бегущего от государства мобильного населения. Еще одно важное достоинство кассавы — после сбора урожая ее можно переработать в некое подобие муки (тапиоку) и хранить некоторое время. И сами клубни, и муку можно продавать на рынке.
Впрочем, самым удивительным свойством кассавы, видимо, является ее общепризнанный статус сельскохозяйственной культуры, для получения максимального урожая которой нужно минимальное количество труда. По этой причине ее очень ценили кочевые народы, которые могли высадить кассаву, уехать, а затем вернуться практически в любое время через год или два и выкопать урожай. В то же время у кассавы и листья съедобны. Она позволяет земледельцам занять практически любую экологическую нишу, по собственному усмотрению вести более или менее кочевой образ жизни и обходиться без огромных трудовых затрат. Благодаря своим удивительным достоинствам кассава стала самым распространенным корнеплодом, вытеснив сладкий картофель, который, в свою очередь, ранее пришел на смену ямсу.
Для рисовых государств — как доколониальных, так и колониальных — подобная общедоступная и трудосберегающая сельскохозяйственная культура, хотя и ценимая в тяжелые времена как «голодный продукт», представляла явную угрозу. Интересам политической власти наилучшим образом отвечало максимальное расширение рисовых полей или, если это было невозможно, выращивание иных важных с финансовой точки зрения экспортных культур, таких как хлопок, индиго, сахарный тростник и каучук, нередко с использованием рабского труда. Сельскохозяйственные культуры беглецов, завезенные из Нового Света, сделали экономическую сторону безгосударственной жизни столь же соблазнительной, какой была и политическая. Колониальные чиновники стремились всячески стигматизировать кассаву и кукурузу как сельскохозяйственные культуры ленивых туземцев, любыми способами увиливающих от работы. И в Новом Свете те, чья задача состояла в вовлечении населения в систему наемного труда и его сгоне на плантации, клеймили те культуры, что позволяли свободному крестьянству сохранить независимость. Владельцы асьенд [имений] в Центральной Америке утверждали, что благодаря кассаве единственное, в чем еще нуждался крестьянин, — ружье и рыболовный крючок, и тогда он переставал регулярно работать по найму[542].
Кассава, как и многие другие корнеплодные культуры, оказывает серьезное влияние на социальную структуру, которая, в свою очередь, способствует ускользанию от государства. Этот эффект поразительным образом противоположен тому влиянию, что оказывают зерновые культуры в целом и поливное рисоводство в частности[543]. Специализирующиеся на выращивании поливного риса сообщества живут в одном ритме: посадка, пересадка и сбор урожая и связанные с ними ритуалы, как и контроль уровня воды требуют четкой координации усилий.
Сотрудничество в налаживании ирригации, наблюдение за вызреванием урожая и совместный труд всегда приносят плоды, но только в том случае, если не являются обязательно-принудительными. Иначе обстоит дело с корнеплодами, например сладким картофелем и кассавой. Посадка и сбор урожая производятся в таком случае на более или менее постоянной основе в соответствии с решениями и потребностями семейного домохозяйства. Агрономические особенности этих культур если и требуют взаимодействия земледельцев, то незначительного. Сообщество, которое выращивает корнеплодные и клубнеплодные культуры, может рассеиваться на больших территориях и нуждается в меньшем уровне взаимодействия, чем зерновые земледельцы, а потому в первом случае возникает социальная структура, весьма устойчивая к поглощению государством и, видимо, к формированию иерархий и отношений подчинения.
Социальная структура беглых сообществ
Рисовые государства способствуют формированию необходимого для их существования упорядоченного пространства рисовых полей и соответствующей высокой плотности населения. Такой тип хозяйствования и такую демографическую специфику можно определить как пространство, доступное для апроприации. Ровно так же как существуют пространства, позволяющие осуществлять в них контроль и завладевать их продукцией, возникают и социальные структуры, хорошо поддающиеся контролю, захвату и подчинению. Впрочем, обратное тоже верно: как мы уже видели, ряд сельскохозяйственных технологий и урожай некоторых культур довольно сложно присвоить, а потому они способствуют ускользанию от государства. Аналогичным образом можно назвать модели социальной и политической организации, которые сопротивляются надзору и подчинению. Как подсечно-огневое земледелие и выращивание кассавы представляют собой «позиционирование» относительно политической власти, так и различные формы социальной организации оказываются стратегиями взаимодействия с государством. Социальная структура, как и сельскохозяйственные технологии, не является данностью — это всегда выбор, особенно в исторической перспективе. В значительной степени этот выбор, в широком смысле слова, является и политическим. Здесь необходимо вспомнить о диалектической природе социальной организации. Периферийные политические структуры в материковой части Юго-Восточной Азии всегда приспосабливались к государственным системам в своем ближайшем окружении. При определенных условиях эти структуры, вернее, составлявшие их живые акторы, могли регулировать свое взаимодействие с окружающими государствами таким образом, чтобы облегчить заключение союзов с одними из них или свое поглощение другими. В иных случаях периферийные политические структуры могли делать все возможное, чтобы избавиться от необходимости платить дань соседним государствам и выйти из их подчинения.
В заданном контексте социальную структуру следует рассматривать не как неизменную характеристику конкретного сообщества, но, скорее, как переменную величину, одна из задач которой — регулирование взаимоотношений с окружающим властным полем. Никто не смог обозначить эту ситуацию четче, чем Ф. К. Лиман (известный как Чит Хлаинг) в исследовании народа кая на востоке Бирмы. Отметив, как и Лич до него, маятниковый характер изменений социальной структуры с течением времени, он обратил внимание на правила, которые проясняли логику этих трансформаций: «На самом деле невозможно понять смысл поведения кая или любого другого горного народа в Юго-Восточной Азии, не учитывая в анализе его социальной структуры всего сказанного выше. Похоже, это неотъемлемая черта подобных обществ: они меняют свою социальную структуру, а иногда и свою „этническую“ идентичность в ответ на периодические изменения своих взаимоотношений с соседними цивилизациями»[544].
В целом, если общество или его часть принимает решение избежать поглощения или захвата, то оно трансформируется в более простые, меньшие по размерам и более пространственно рассеянные социальные единицы, то есть к тому, что мы ранее назвали элементарными формами социальной организации. Самые устойчивые к поглощению социальные структуры, пусть и не способствующие коллективным действиям любого рода, — небольшие группы домохозяйств без руководящей верхушки («обезглавленные»). Подобные формы социальной организации, наряду со столь же устойчивыми к захвату видами сельского хозяйства и расселения, неизбежно расцениваются равнинными рисовыми «цивилизациями» как «варварские», «примитивные» и «отсталые». Неслучайно оценка сельского хозяйства или социальной организации как более или менее цивилизованных точно отражает их пригодность, соответственно, к захвату и подчинению.
«Родоплеменной строй»
Отношения государств с племенами, хотя таковыми был озабочен еще Рим со всеми своими легионами, давным-давно пропали из европейской историографии. Один за другим последние европейские независимые народы, ведущие племенной образ жизни, — швейцарцы, валлийцы, шотландцы, ирландцы, черногорцы и кочевники южнорусских степей — были поглощены мощными государствами и господствующими в них религиями и культурами. Проблема взаимодействия племен и государств, впрочем, все еще актуальна на Ближнем Востоке. Поэтому наше исследование мы начнем с этнографических и исторических работ, посвященных взаимоотношениям племен и государств в этом регионе.
Их авторы единодушны в том, что племена и государства — конституирующие друг друга сущности. Нет и не может быть никакой эволюционной последовательности, племена не являются предшествующими государствам формами — скорее, это социальные образования, суть которых определяли их взаимоотношения с государством. «Если правители Ближнего Востока были озабочены „проблемой племен“… то племена, видимо, были озабочены вечной „проблемой государств“»[545].
Одна из причин, почему племена часто оказываются стабильными, долговременными, генетически и культурно устойчивыми образованиями, заключается в том, что государства обычно заинтересованы в них и со временем во все большей степени влияют на их базовые характеристики. Племя может внезапно возникнуть как результат политической предприимчивости или формирования политических идентичностей и «миграционных траекторий», которые государство регулирует, распределяя награды и наказания. В любом случае существование племени зависит от его взаимоотношений с государством. Правители и институты государства нуждаются в стабильной, надежной, иерархической, «постижимой» социальной структуре, договороспособной и управляемой. Им необходим собеседник, партнер, которого можно использовать в собственных интересах, от кого можно требовать верности, через кого можно транслировать свои распоряжения, кого можно назначить ответственным за политический порядок, кто может поставлять им зерно и дань. Поскольку племенные народы по определению находятся вне прямого контроля государства, ими следовало управлять, если это в принципе было возможно, через их лидеров, которые могли выступать от лица своих племен и, в случае необходимости, стать заложниками. Те образования, что мы называем «племенами», редко обладают той устойчивостью, которую им приписывает государственническое воображение. Это искажение действительности обусловлено не только официальными моделями идентичности, изготавливаемыми государством, но и стремлением этнографов и историков получить в свое распоряжение социальные идентичности как внутренне согласованный объект описания и анализа. Очень сложно всесторонне охарактеризовать, не говоря уже о том, чтобы им управлять, социальный организм, который все время то попадает в фокус, то исчезает из него.
Когда безгосударственные народы (известные также как племена) сталкиваются с принуждением к политическому и социальному инкорпорированию в государственную систему, их реакции могут разниться. Племя или его отдельная часть могут быть мягко или жестко поглощены в качестве данника с назначенным лидером (косвенное управление). Конечно, племя может бороться за независимость, особенно если речь идет о военизированных скотоводах. Племя может самоустраниться. И наконец, оно способно посредством разделения, рассеяния и/или изменения своих жизненных практик стать невидимым или непривлекательным для поглощения объектом.
Последние три стратегии — формы сопротивления и уклонения от государства. Вариант военного противостояния крайне редко, за рядом исключений, был доступен безгосударственным народам Юго-Восточной Азии[546]. Самоустранение, часто предполагавшее переход к подсечно-огневому земледелию или собирательству, было рассмотрено выше. Нам остается изучить лишь одну последнюю стратегию социальной реорганизации. Она предполагает разделение на минимальные единицы, чаще всего домохозяйства, и нередко сопровождается использованием хозяйственных практик, оптимальных для выживания небольших рассеянных групп. Эрнест Геллнер характеризует подобный осознанный выбор берберов с помощью девиза «Разделяйся, чтобы не подчиняться». Этот блестящий афоризм показывает, что римский лозунг «Разделяй и властвуй» перестает срабатывать при определенном уровне атомизации. Описывающий ту же стратегию уклонения от государства термин Малкольма Яппа «медузообразные племена» столь же удачен: он подчеркивает, что в результате разукрупнений потенциальный правитель получал в свое распоряжение аморфную и неструктурированную человеческую массу, в которой отсутствовали точки воздействия и рычаги управления[547]. Османы полагали, что легче иметь дело со структурированными общинами, пусть даже христианскими и иудейскими, чем с еретическими сектами, не обладающими властной верхушкой и четкой организационной структурой. Наибольшие их опасения вызывали такие формы автономии и инакомыслия, как, например, мистические дервишеские ордена, которые, видимо, совершенно целенаправленно избегали любых коллективных поселений и однозначно идентифицируемого лидерства, чтобы ускользать от османского полицейского контроля[548]. Сталкиваясь с подобными ситуациями, государство, как правило, стремится найти союзника и создать институт вождей. Хотя обычно кто-то заинтересованный обязательно использовал эту возможность в своих интересах, как мы увидим позже, ничто не могло помешать потенциальным подданным его игнорировать.
Элементы племенной структуры похожи на кирпичи: они могут быть разбросаны или лежать кучами без малейших признаков структуры, а могут быть соединены вместе, чтобы образовать крупную, иногда огромную племенную конфедерацию. Лоис Век, рассмотревший эти процессы в мельчайших деталях у кашкайцев Ирана, утверждает, что «племенные группы разрастались и сокращались; некоторые входили в состав более крупных групп, когда, например, государство пыталось ограничить их доступ к ресурсам или иностранная держава посылала свои войска против них. Крупные племенные группы распадались на меньшие, чтобы скрыться из поля зрения государства и сферы его контроля. Межплеменная мобильность [изменчивая этническая идентичность] была распространенным явлением и частью процессов формирования и исчезновения племен». В ближневосточной версии аргументов, сформулированных Пьером Кластром относительно Латинской Америки, Век указывает на земледельцев, которые превратились в кочевников, и считает, что социальная организация и хозяйственные стратегии являются результатом политических решений, благодаря которым иногда создается внешне совершенно хаотичная картина. «Формы, которые многие люди воспринимают как примитивные и традиционные, часто были реакцией, реже зеркальным отображением сложных социальных систем». Век добавляет: «Подобные локальные формы адаптировались, бросали вызов или дистанцировались от тех систем, что стремились доминировать над ними»[549]. Иными словами, социальная структура в значительной степени является одновременно эффектом государства и политическим выбором, и один из возможных его вариантов — формирование невидимой и/или непонятной для государственных органов социальной структуры.
Проблема изменений социального облика хорошо обозначена в описаниях кочевых народов и сообществ собирателей. Аморфный характер монгольской социальной структуры и отсутствие в ней «нервных центров» рассматривались Оуэном Латтимором как факторы, предотвратившие китайскую колонизацию[550]. Проведенный Ричардом Уайтом скрупулезный анализ индейской политики в колониальной Северной Америке подчеркивает радикальную нестабильность племенной структуры и идентичности, автономность местных групп и их способность быстро перебираться на новые территории и переходить на иные жизненные стратегии[551]. В рассмотренных Уайтом этнических, миграционных осколочных зонах, которые характерны для большей части Вомни, идентичности действительно многообразны. Местное население не столько постоянно меняло свою идентичность, сколько подчеркивало тот или иной аспект культурного и лингвистического самоопределения, который допускал формирование различных идентичностей. Неопределенность, множественность и взаимозаменяемость идентичностей и социальных единиц обладали рядом явных политических преимуществ, допуская разнообразные форматы взаимодействия и дистанцирования от государств и других народов[552]. Исследования кочевых скотоводческих групп, таких как туркмены на иранско-российской границе или калмыки в России, подтверждают их способность распадаться на части или небольшие независимые элементы, если вдруг это может оказаться выгодно[553]. Историк калмыцкого народа цитирует описание племенных сообществ, предложенное Маршаллом Оалинсом: «Их политическая форма может сохранить черты примитивного организма — будучи защищена экзо-скелетом верховной власти, она остается под этим прикрытием простейшей и сегментированной»[554].
Ряд характеристик подобных сообществ, видимо, способствовал, а в некоторых случаях и требовал создания социальной структуры, которая могла быть разбита на множество элементов, а затем вновь собрана воедино. Наличие такой общественной собственности, как пастбища, охотничьи угодья и пригодные для подсечно-огневого земледелия территории, позволяло группам выживать и в то же время препятствовало формированию крупных и устойчивых различий в уровне благосостояния и статусных позициях, характерных для наследуемой частной собственности. Столь же важен был и пестрый набор хозяйственных стратегий — собирательство, подсечно-огневое земледелие, охота, торговля, разведение домашнего скота и оседлое сельское хозяйство. Каждая из них порождала конкретные формы социального взаимодействия, определяла численность групп и свойства поселений. В совокупности эти стратегии обеспечивали особый тип практического опыта или устойчивый порядок целого ряда вариантов социальной организации. Смешанный набор хозяйственных технологий порождал и смешанный набор социальных структур, которые легко актуализировались, если гарантировали политическую, как, впрочем, и экономическую выгоду[555].
Отказ от государственности и устойчивых иерархий
Любые государственные структуры, стремящиеся контролировать части Вомии, — ханьские чиновники в провинциях Юньнань и Гуйчжоу, тайский двор в Аюттхае и бирманский в Аве, шанские князья (собва), британский колониальный режим и независимые национальные правительства — стремились заручиться поддержкой местных вождей или же, в случае отсутствия таковых, сформировать институт вождей, с которыми они могли иметь дело. Как отмечает Лич, британцы в Бирме повсеместно предпочитали автократические «племенные» формы правления в компактных географических зонах, с которыми могли вести переговоры; и наоборот, они испытывали явную неприязнь к анархическим, эгалитарным народам, у которых не было явного лидера. «Во многих горных районах, где проживали качины… а также в других регионах с низкой плотностью населения преобладают маленькие автономные деревни, староста каждой из которых претендует на статус независимого лидера du baw… Этот неоднократно зафиксированный факт примечателен тем, что британская администрация упорно противостояла подобному фрагментированному формату расселений»[556]. Британский чиновник на рубеже веков советовал наблюдателям не воспринимать серьезно якобы подчинение мелких качинских вождей: «За этим номинальным подчинением скрываются претензии каждой деревни на независимость и признание ею только собственного вождя». Он подчеркивает, предвосхищая утверждения Лича, что подобная автономность отличает даже мельчайшие социальные единицы, «распространяется вплоть до уровня домохозяйств и каждого главы семьи — если вдруг тот не сможет договориться со старостой деревни, то покинет ее и обустроит себе жилище где-то еще, как сам себе собва»[557]. Соответственно, британский колониальный режим, как и другие государства, как правило, навешивал на демократичные, анархические народы ярлыки «диких», «примитивных», «сырых» (yain) в противовес их «покоренным», «приготовленным», «культурным» аристократическим соседям, даже если последние говорили на том же языке и имели схожую культуру. Устойчивое косвенное управление анархическими «медузообразными» племенами было практически невозможно. Даже усмирение их было задачей сложной и никогда полностью не решаемой. Главный комиссар Британской Бирмы с 1887 по 1890 год отмечал, что завоевание территорий качинов и палаунгов происходило «холм за холмом», поскольку эти народы «никогда не подчинялись какому бы то ни было централизованному контролю». Чины для него стали столь же большим разочарованием. «Единственной их системой управления были старосты деревень или в лучшем случае небольшой группы деревень, вследствие чего переговоры с чинами как народом были невозможны»[558].
Опасаясь непокорных и ненадежных чинов, британцы начали вводить институт вождей в «демократических» чинских районах, полагаясь на них как на гарантов выполнения своих распоряжений. Колониальная поддержка позволяла вождям организовывать роскошные общинные празднества, которые в подобных «обществах пиршеств» подкрепляли их относительно высокий статус по сравнению с остальными. В результате возник новый синкретический культ, который отверг прежние общие праздники, но развил традицию индивидуальных пиршеств, призванных повышать личный статус, хотя и не только его. Культ Пау Чин Хау за короткое время распространился по всему Ванниату (демократичной племенной зоне), охватив более четверти чинского населения в этом административном районе[559]. В этом примере, как и во множестве других, видно, что независимый статус, то есть дистанцирование от государства и схожих с ним политических образований, «ценился намного выше, чем экономическое процветание»[560].
Ва, считавшиеся самым жестоким горным народом с репутацией похитителей голов, как и «демократичные» чины и качины со своей системой гумлао, обладали исключительно эгалитарной социальной структурой. Они подчеркивали равенство прав на участие в состязательных пиршествах и конкурентную борьбу за статусы, запрещая тем, кто уже достиг почета или богатства, приносить дальнейшие жертвы, за исключением случая, когда человек добивался позиции вождя. Как отмечает Магнус Фискесьё, подобный эгалитаризм целенаправленно конструировался как стратегия ускользания от государства: «Эгалитаризм ва, ошибочно истолковываемый как свойство „примитивного“ общества в китайской и иных эволюционных моделях, следует воспринимать как способ избежать краха собственной автономии под давлением угроз со стороны великих держав, возникших на горизонте: тех (того) государств(а), которые стремились обложить ва данью или налогами, что уже было сделано ими в промежуточной буферной зоне (играла роль „антиварварской“ оборонительной стены, которые распространены повсеместно в Китае)»[561].
Другим возможным ответом на принуждение к политическому структурированию, посредством которого государство могло осуществлять контроль и управление, было лицемерие — внешнее соответствие требованиям, создание подобия верховной власти, которая по сути таковой не являлась. Видимо, именно так поступили лису в Северном Таиланде. Потемкинский характер института управления здесь очевиден благодаря тому факту, что старостой в деревне неизменно оказывался человек без какой-либо реальной власти, а не уважаемый пожилой мужчина, богатый и обладающий способностями вождя[562]. Схожая ситуация неоднократно фиксировалась и в горных деревнях колониального Лаоса, где фиктивные местные чиновники и знать «предоставлялись» колониальной администрации по первому требованию, а уважаемые в сообществе фигуры продолжали решать все местные вопросы, включая и назначение фиктивных чиновников![563] В этом случае речь идет не столько о «социальной структуре избегания государства» как социальном изобретении, предназначенном для ускользания от него, сколько о сохранении существующей эгалитарной системы посредством сложного театрализованного действа, изображающего якобы наличие властной иерархии.
Самое знаменитое этнографическое описание жизни горных народов по всей Вомии представлено в работе Эдмунда Лича, посвященной качинам, — «Политические системы высокогорной Бирмы». Эта книга подверглась беспрецедентной по своим масштабам критике со стороны фактически двух поколений ученых. Очевидно, что Лич намеренно оставил за рамками рассмотрения крупные политические и экономические изменения (в частности, британское имперское правление и становление опиумной экономики), сосредоточившись на социальной организации качинов, чтобы подтвердить свою структуралистскую идею о шатком равновесии[564]. Видимо, он совершенно неверно истолковал характерные для качинов условия заключения брачных альянсов и их влияние на устойчивость системы социального неравенства, основанной на критериях происхождения. Тщательный разбор аналитической работы Лича современными этнографами представлен в недавно вышедшей книге под редакцией Франсуа Робинна и Мэнди Садан[565].
Однако в этих замечательных критических работах остались без внимания причины существенных различий в относительной открытости и степени эгалитарности социальных систем начинов, а также возникновения среди них в конце прошлого века движения, нацеленного на убийства, свержение или бегство от самых автократичных вождей. По сути, в центре этнографического анализа Лича находится социальная структура беглецов — форма социальной организации, призванная помешать своему захвату и поглощению как шанскими княжествами, так и мелкими качинскими вождями дува (duwa), пытающимися имитировать шанс кие властные и иерархические модели. Лич утверждает, если изложить его аргументацию кратко и схематично, что на территориях качинов сложилось три типа политической организации: шанская, гумса (gumsa) и гумлао (gumlao). Шанская модель предполагала схожую с государственной структуру собственности и социальной иерархии, во главе которой стоял наследный (в теории) вождь и которая базировалась на систематическом налогообложении и барщинном труде. Абсолютно противоположна шанской модель гумлао: она в целом отвергала наследственный характер власти и классовых различий, но не отрицала его в случае индивидуальных статусных позиций. Деревни гумлао не признавались англичанами, были независимы, обычно обладали ритуальной организацией и верили в божеств-охранителей, поддерживающих социальное равенство и автономию. По мнению Лича, эти две модели — шанская и гумлао — были относительно стабильны. Причем принципиально важно подчеркнуть, что речь не идет об этнических различиях, понимаемых Личем как феноменологические данности. Продвижение в «шанском» направлении предполагало более четкую иерархическую и ритуальную структуру и все большее сходство с государственными формами социальности. Предпочтение модели гумлао, наоборот, означало не что иное, как дистанцирование от шанского государства и его практик. В прошлом зафиксированы постоянные перемещения людей между двумя этими моделями и встроенными в них социальными кодификациями.
Третья социальная форма — гумса — представляла собой некий смягченный вариант крайне жестких и стратифицированных типов передачи социального статуса по наследству, где берущий женщину в жены род считался социально и ритуально превосходящим род, отдающий ее в жены, что и определяло разделение на простолюдинов и аристократов[566]. Лич убежден, что эта модель особенно нестабильна[567]. Глава самого знатного рода в системе гумса фактически всегда был готов превратиться в мелкого шанского правителя[568]. В то же время его усилия по приданию своему правящему статусу постоянства и превращению низкостатусных кланов в своих слуг могли породить восстания и бегство населения, а потому гумса была склонна трансформироваться в направлении свойственного гумлао равенства[569].
Для целей нашего исследования важно, что сделанное. Ничем этнографическое описание качинов демонстрирует модель эгалитарной социальной организации, которая в любой момент готова не допустить или избежать формирования государства. Лич пишет о постоянных колебаниях и переходах между описанными им тремя моделями как неотъемлемой черте качинского общества. И все же гумлао — частично результат особой исторической революции. «Географический справочник Верхней Бирмы» сообщает, что «бунт» гумлао начался, когда два претендента на руку дочери вождя (дува) получили отказ (согласие подняло бы их статус и престиж их родов)[570]. Они убили вождя и мужа его дочери. Вместе со своими последователями они продолжили начатое — свергли многих дува, и лишь некоторые из них избежали смерти или изгнания, отказавшись от всех своих титулов и привилегий. Эта история вполне согласуется с точкой зрения Лича, согласно которой социальная структура гумса, в силу ее стратифицированной иерархии, блокирует властные притязания мужчин из низкостатусных родов, позволяя им реализовываться только в рамках пиршественных состязаний[571]. Лич подробно и со всеми нюансами рассматривает возможные причины мятежа, но суть их сводится к отказу отрабатывать барщину, плоды которой, как и бедренные части убойных животных, получал исключительно вождь[572].
Деревни гумлао возникали двумя способами. Во-первых, как было сказано выше, в результате небольших по масштабам, основанных на идее социального равенства революций, которые порождали карликовые республики социально равных друг ДРУГУ простых людей. Вторым и, вероятно, наиболее распространенным способом появления деревень гумлао была миграция семей и родов из стратифицированных деревень и основание ими новых, более эгалитарных поселений. Мифы о возникновении деревень гумлао обычно сфокусированы на какой-то одной из двух версий. Лич полагает, что деревни гумлао нестабильны, поскольку, по мере нарастания социальных различий, жители, находящиеся в самом благополучном положении, будут изо всех сил стремиться легитимировать и кодифицировать свои преимущества, используя внешнюю атрибутику гумса. Возможна и иная модель: сообщества гумлао обычно воспроизводятся посредством деления на части, когда небольшие группы из нескольких семей равного социального статуса откалываются от деревни, чтобы вести самостоятельную жизнь, если сложившаяся в поселении система социальной дифференциации кажется им удушающей. Распад на части, как и мелкомасштабная революция, в значительной степени детерминирован демографической ситуацией и процессами во внешнем мире. Социальное неравенство могло усилиться, если британское давление сводило на нет пошлинные сборы с караванов и прибыль от работорговли. Границы начинали все сильнее манить беглецов, если разрастался рынок опия. В ситуации незначительного демографического давления и, соответственно, наличия свободных территорий для ведения подсечно-огневого земледелия распад на части был намного более вероятен, чем мятеж[573].
Земли гумлао были проклятием для государства. Первые британские описания качинских районов противопоставляли легкость прохода через деревни с благодушно настроенными наследственными вождями трудностям перемещения «по деревням гумлао, которые, по сути, представляли собой небольшие республики во главе со старостой; однако сколь бы благодушно настроен тот ни был, он совершенно не мог контролировать действия любого враждебно настроенного жителя деревни»[574]. Социальная организация гумлао способствовала ускользанию от государства по нескольким причинам. Ее идеология отвергала потенциальных наследственных вождей с феодальными притязаниями и даже допускала их убийство. Она позволяла не платить дань и не подчиняться соседним шанским княжествам. И наконец, на землях гумлао утвердилась почти непреодолимая анархия эгалитарных карликовых республик, которые сложно было усмирить, не говоря уже о контроле и управлении.
Я уделил столь значительное внимание деревням гумлао как способствующей уклонению от государства социальной структуре не только потому, что таковая хорошо задокументирована благодаря Личу. Существует немало доказательств того, что множество, если не большинство, горных народов использовали одновременно две или даже три модели социальной организации: одна копировала качинские деревни гумлао, другая, скорее, походила на стратифицированную гумса, иногда возникали и аналоги мелких шанских княжеств. Лич полагал, что «противоречивые сочетания подобных типов управления существовали повсеместно в приграничных районах Бирмы и Ассама», и ссылался на исследования чинов, сема, коняков и нага[575]. К этому списку можно добавить более современные работы, посвященные каренам и ва[576]. Складывается впечатление, что горные народы в материковой части Юго-Восточной Азии не только имели в своем распоряжении сельскохозяйственные культуры и технологии, способствующие бегству от государства, но и, как правило, включали в свой политический репертуар социальные модели, исключавшие возможность становления государственности.
В тени государства, в тени холмов
Незадолго до обретения Бирмой независимости было проведено исследование, в котором приняли участие представители всех племен. Вождя монгмонов в отдаленном северном штате ва спросили, какой тип управления он предпочитает. Он ответил вполне разумно: «Мы об этом никогда не думали, потому что мы дикий народ»[577]. Вождь, в отличие от вопрошавших его чиновников, понимал, что суть принадлежности к народу ва — именно неподчинение кому бы то ни было.
Это показательное недопонимание подчеркивает тот основополагающий факт, что большинство горных народов создали «теневые», или «зеркальные» по отношению к государствам социальные системы. Я имею в виду, что форматы их политического, культурного, экономического, а часто и религиозного позиционирования совершенно сознательно конструировались как полная противоположность институциям и ценностям похожих на государственные образования соседей. По мнению Лича, подобное противостояние имело свою экономическую цену. Он полагал, что «качины обычно ценили независимость намного выше, чем экономическую прибыль»[578]. В то же время те, кто мигрировал в равнинные государства и ассимилировался, а в исторической перспективе таковых было очень много, пополняли низшие социальные позиции. В краткосрочной статусной перспективе, как объясняет Лиман, чин, ставший частью бирманского общества, имел только одну альтернативу — считаться ему неполноценным бирманцем или успешным чином[579].
Идентичность в горах — всегда результат внутреннего диалога и споров по поводу того, как нужно жить. Собеседниками горных народов выступают противостоящие им цивилизации, их ближайшие соседи. Для таких народов, как мяо/хмонги, чья устная история соткана из событий непрекращающейся борьбы с китайским/ханьским государством, именно подобные собеседники прежде всего определяют выбор собственной идентичности. Вот почему история, которую хмонги рассказывают о своем народе, выполняет функции защиты и самопозиционирования в споре с ханьцами и их государством. Некоторые важные для хмонгов постулаты спора таковы: у ханьцев есть императоры, а мы все (номинально) равны; ханьцы платят налоги своим господам, а мы никому ничего не платим; у ханьцев есть письменность и книги, а мы утратили свои, скрываясь от государства; ханьцы живут скученно в центрах равнинных государств, а мы живем просторно, рассеявшись по горам; ханьцы — рабы, а мы свободны.
Представленное описание хмонгов подталкивает к выводу о том, что «идеология» горных народов полностью производна от идеологий равнинных государств. Считать так было бы ошибкой по двум причинам. Во-первых, горная идеология конструируется в диалоге не только с жителями долин, но и с соседними горными народами, а также испытывает воздействие других значимых факторов — генеалогии, поклонения духам, происхождения тех или иных народов, — которые обычно мало подвержены влиянию неявного диалога с равнинными центрами. Во-вторых, что, видимо, намного важнее, если мы утверждаем, что идеологии горных народов полностью определяются равнинными государствами, то следует признать и обратное — аналогичное воздействие горных идеологий на жизнь в долинах. Фактически равнинные государства представляют собой исторически сложившиеся социальные агрегаты, вобравшие в себя самые разнообразные народы и стремящиеся доказать окружающему миру, сколь велико превосходство их «цивилизации» над «дикими» соседями.
В соответствии с этим можно выделить по крайней мере три идеи, вновь и вновь повторяющиеся в нарративе горных народов и их представлении о себе. Их можно обозначить, соответственно, как равенство, автономию и мобильность, но ни одна из этих тем не имеет однозначной трактовки, хотя, конечно, все три закодированы в материальной жизни в горах — в расположении поселений достаточно далеко от равнинных государств, в рассеянии населения, в общественной собственности, в подсечно-огневом земледелии и выборе сельскохозяйственных культур. Как подчеркивает Лиман, горные народы целенаправленно «создавали экономику, для эксплуатации которой бирманские [государственные] институты просто-напросто не были приспособлены, а потому никогда не воспринимали таковую как часть бирманского королевства»[580]. Ровно так же как «поливное рисоводство подразумевало подданство в рамках конкретного государственного образования, так и занятия подсечно-огневым земледелием в некоторой степени представляли собой политическое самопозиционирование внутри раздвоенной региональной культуры, состоявшей из универсализирующих все вокруг политических систем и лесных окраин»[581].
Как мы уже увидели, формирование гумлао качинов связано с поддержанием эгалитарных социальных отношений посредством свержений или убийств превысивших свои полномочия вождей. Можно предположить, что исторические нарративы качинов — своего рода предостерегающие назидательные истории, призванные отрезвлять наследственных вождей с автократическими амбициями. Целые районы на территориях каренов, кая и качинов известны своими традициями мятежей[582]. Даже если у качинов появлялись вожди, их нередко совершенно игнорировали и никак не чествовали. Другие народы имели схожие традиции. Лису «ненавидят напористых и автократичных старост»; «историй, в которых лису рассказывают об убийствах старост, бесчисленное количество»[583]. Строгая достоверность подобных историй менее важна, чем провозглашаемые в них нормы властных взаимоотношений[584]. Аналогичные нарративы характерны и для лаху. Один этнограф описывает их общество как «предельно эгалитарное», другой утверждает, что с тендерной точки зрения они столь же эгалитарны, как любой другой народ в мире[585]. В свою очередь акха подкрепляют эгалитарные практики мифологией, в которой рассказывается о вожде и его сыне: у сына был волшебный конь с крыльями, промазанными пчелиным воском, взлетевший слишком высоко в небо. Как и в мифе об Икаре, крылья расплавляются и герой погибает. «Преувеличенно пышный слог» истории «явно говорит об отвращении к иерархической системе власти и государственным структурам»[586].
Свобода горных народов от устойчивых внутренних иерархий и процессов формирования государственности полностью зависела от пространственной мобильности. А потому восстания гумлао были исключением, которое лишь подтверждало правило. Бегство, а не бунт, было фундаментом свободы в горах; куда больше эгалитарных поселений было основано беглецами, чем революционерами. Как отмечает Лич, «если речь идет о шанах, то их крестьяне привязаны к своим [рисовым] полям; для шанов это капиталовложение. Качины не вкладываются в taungya [подсечно-огневое, буквально „горное земледелие“]. Если качину не нравится его вождь, он может переселиться куда-то еще»[587]. Именно эта способность и реальная практика перемещений горных народов без колебаний и по малейшему поводу сводили с ума колониальные режимы и независимые государства в Юго-Восточной Азии. Хотя большую часть Вомии можно справедливо охарактеризовать как огромную зону спасения от процессов государственного строительства, внутри нее постоянно происходили миграции из стратифицированных и похожих на государства районов к более эгалитарным пространствам.
Горные карены — как раз такой случай. Часть или все их небольшие поселения могли переместиться в новое место, не только чтобы расчистить поле для подсечно-огневого земледелия, но и по множеству не связанных с сельским хозяйством причин. Дурной знак, серия заболеваний или смертей, политический раскол, принуждение платить дань, зарвавшийся староста, мечта, призыв почитаемого религиозного лидера — любой из названных поводов мог породить миграционные процессы. Многочисленные попытки государства заставить каренов вести оседлый образ жизни и использовать их в своих интересах заканчивались неудачей, поскольку их поселения постоянно распадались на все более мелкие и меняли свое местоположение. В середине XIX века, когда многие карены, наряду со своими союзниками-монами, сбежали из Бирмы и признали тайскую власть, они не основали постоянных поселений, как того хотели тайские чиновники[588]. Англичане пытались расселить каренов в финансируемых ими «лесных деревнях» в Пегу-Йома, где бы те в ограниченных масштабах занимались подсечно-огневым земледелием и при этом охраняли ценные тиковые леса, как планировалось британской администрацией. Схема не сработала — карены сопротивлялись ей и покидали деревни[589]. Все, что мы знаем о горных каренах, — их исторически обусловленный страх попасть в рабство, их самопозиционирование как преследуемых сирот — позволяет предположить, что их социальная организация и подсечно-огневое земледелие были предназначены для того, чтобы удержаться на безопасном расстоянии от любых попыток захвата. Безопасность также требовала формирования подвижных социальных структур. Обычно горных каренов описывают как народ, создавший независимое и слабо стратифицированное общество, которое легко распадалось на части по экономическим, социальным, политическим или религиозным основаниям[590].
Сложно переоценить исключительную пластичность социальной организации, свойственной наиболее демократичным безгосударственным горным народам. Изменения социальной структуры, распад на части, разукрупнение, пространственная мобильность, восстановление прежнего облика, трансформация хозяйственных практик здесь так головокружительны, что само существование столь любимых антропологами социальных единиц — сел, родов, племен и деревушек — можно поставить под сомнение. Те социальные элементы, на которых историк, антрополог или, если уж на то пошло, чиновник должны фокусировать свое внимание, обретают почти метафизический характер. Видимо, особенно полиморфны низкостатусные горные народы. Они используют широкий спектр языковых и культурных практик, позволяющих им быстро адаптироваться ко множеству разнообразных ситуаций[591]. Энтони Уолкер, этнограф, изучавший лаху ньи (красных лаху), пишет о деревнях, которые делятся, перемещаются, совсем исчезают, рассеиваются по другим населенным пунктам и поглощают вновь прибывших, а также о внезапно возникающих новых поселениях[592]. Ничто не существует здесь настолько долго, чтобы это можно было детально зафиксировать. Элементарной единицей в сообществе красных лаху не является деревня в каком бы то ни было смысле этого слова. «Сельская община лаху ньи представляет собой, по сути, группу домохозяйств, члены которых в данный конкретный момент сочли удобным для себя жить сообща на определенной территории под руководством общего старосты, более или менее устраивающего их». Как пишет Уолкер, староста фактически стоит во главе «скопления ревностно оберегающих свою независимость домохозяйств»[593].
Таким образом, мы имеем дело не только с «медузообразными» племенами, но и с «медугообразными» системами родства, деревнями, институтами вождей и, в некоторой степени, «медузообразными» домохозяйствами. Вместе с кочевым земледелием этот полиморфизм прекрасно позволял избежать от поглощения государственными структурами. Подобные горные сообщества редко отваживались бросить вызов государству, но в то же время не давали ему шансов легко себя поглотить или обрести рычаги воздействия. В случае опасности горные сообщества отступали, рассеивались, растекались, как мельчайшие капли ртути, будто действительно следуя правилу «разделяйся, чтобы не подчиняться».
Глава 6½. Устная традиция, письменность и тексты
Поэзия — родной язык человеческого рода; точно так же и сад старше поля, рисунок старше письма, песня старше декламации, притчи старше умозаключений, а обмен старше торговли…
— Брюс Чатвин. Тропы песен
Ибо во всей своей суровости закон есть письменным документ.
Письменность на, стороне закона, он живет в ней; знание письменности означает невозможность незнания закона… письменность напрямую определяет власть закона — будь он выгравирован в камне, изображен на, шкурах животных или записан на папирусе.
— Пьер Кластр. Общество против государства
Основополагающий признак варварства с точки зрения равнинных элит — неграмотность. Самой известной из цивилизационных стигм, навешанных на горные народы, является общая безграмотность (неумение читать и писать). Дарование дописьменным народам набора букв и системы формального образования — безусловно, смысл существования цивилизованного государства.
Но что, если в длительной исторической перспективе многие народы на самом деле не письменные, а, используя определение Лео Альтинга фон Гойзау, теосдашисьменные?[594] Что, если вследствие бегства от государства, изменений в социальной структуре и жизненных практиках они просто отказались от текстов и письменности? И что, если, исходя из самой радикальной версии развития событий, подобное оставление мира текстов и грамотности было целенаправленным и имело под собой стратегические соображения? Доказательства последнего предположения почти всегда носят косвенный характер. По этой причине и, возможно, из-за недостатка мужества я вынес обсуждение этого вопроса за рамки анализа сельского хозяйства и социальной структуры, характерных для ситуации бегства от государства, хотя они со «стратегическим» поддержанием (если не созданием) неграмотности — одного поля ягоды. Как подсечно-огневое земледелие и пространственное рассеяние представляют собой способы воспрепятствовать поглощению государством, а социальная фрагментация и отсутствие властной верхушки — это инструменты противодействия инкорпорированию в ткань государства, так и отсутствие письменности и текстов обеспечивает свободу маневра в форматировании истории, составлении генеалогий и трактовках происходящего, что грубо нарушает рутину государственной жизни. Если эгалитарные мобильные поселения подсечно-огневых земледельцев представляют собой выскальзывающие из лап государства «медузообразные» экономические и социальные формы, то приверженность устной традиции выступает аналогичным непрочным и мимолетным, как медуза, видом культуры. В этом смысле поддержание устной традиции во многих случаях — сознательное «самопозиционирование» по отношению к государственному строительству и верховной власти. Так же как сельское хозяйство и особенности поселенческих практик могут в течение времени значимо варьировать, отражая стратегические жизненные приоритеты, грамотность и тексты могут то считаться неотъемлемой частью культуры, то полностью из нее исключаться, а затем вновь завоевывать свои позиции ровно по тем же соображениям. Я осознанно использую понятия «неграмотность» и «устная традиция», предпочитая их «безграмотности», чтобы привлечь внимание к приверженности устной традиции как особому и потенциально позитивному формату культурной жизни, который не сводится лишь к отсутствию письменности. Тот тип «устной традиции», о котором идет речь, следует отличать от так называемой первоначальной неграмотности — ситуации, когда социальное поле впервые сталкивается с письменностью. Бесписьменные народы в горных массивах Юго-Восточной Азии, наоборот, уже в течение более чем двух тысячелетий жили в постоянном контакте с одним или несколькими государствами, в которых существовали небольшие грамотные группы, тексты и письменные записи: горным народам пришлось как-то позиционировать себя по отношению к данным государствам. Наконец, само собой разумеется, что вплоть до недавнего времени грамотные элиты равнинных государств представляли собой лишь крошечное меньшинство в общей численности подданных. Даже в долинах подавляющее большинство населения жило в устной культуре, хотя она и изменялась под воздействием письменности и текстов.
Устные истории об утрате письменности
Понимая, насколько равнинные государства и колонизаторы стигматизируют их бесписьменное состояние, большинство горных народов создали устные легенды, «объясняющие» отсутствие письменности. Удивляет поразительное сходство подобных легенд, которое не ограничивается лишь материковой частью Юго-Восточной Азии, а прослеживается в малайском мире и, если уж на то пошло, даже в Европе. Все эти легенды изображают народы как когда-то давно имевшие письменность, но утратившие ее вследствие собственной неосмотрительности, или же как способные ее иметь, если бы она не была вероломно украдена. Подобные истории, как и этническая идентичность, выполняют функцию стратегического самопозиционирования по отношению к другим группам. У нас есть все основания полагать, что и легенды, и этническая идентичность корректировались в случае значительного изменения внешних обстоятельств. То, что эти легенды имеют практически семейное сходство друг с другом, вероятно, в большей степени обусловлено общим для горных народов стратегическим расположением по отношению к крупным равнинным царствам, чем какой бы то ни было культурной инерцией.
Одна из распространенных версий того, как акха «утратили» письменность, достаточно типична для описываемого жанра устных историй. Акха утверждают, что в давние времена выращивали рис, жили в долинах и были подданными государств. Вынужденные бежать, как утверждает большинство легенд, под давлением тайского военного превосходства, акха рассеялись в нескольких направлениях. Продвигаясь по маршрутам бегства, «будучи голодны, акха съели свои книги, сделанные из шкур буйволов, и таким образом утратили систему письменности»[595]. Лаху, горные соседи акха по Бирме и тай — по китайской границе, рассказывают, что потеряли свои системы письменности, когда съели пироги, на которых их божество Гуй-ши написал буквы алфавита[596]. У народа ва есть схожая история: когда-то давно у них была система письменности, зафиксированная на воловьей шкуре. Когда им было нечего есть, они просто съели эту шкуру и утратили свою систему письма. Другая история ва повествует, что в древности среди их народа жил великий обманщик Глиех Hex, который отправил всех мужчин на войну, а сам остался и занимался любовью с их женщинами. Будучи пойман и приговорен к смерти, Глиех Hex попросил, чтобы его утопили в гробу вместе с музыкальными инструментами. Брошенный на произвол судьбы, он играл так волшебно, что жившие в низовьях реки существа помогли ему освободиться. В благодарность он обучил жителей равнин всем своим искусствам, включая письмо, а народ ва остался безграмотным. Поэтому письменность ассоциируется у ва с мошенничеством; мир письма для них схож с миром торговли и наполнен обманом и жульничеством[597]. У каренов существует множество версий легенды, согласно которой каждому из трех братьев (карену, бирманцу и ханьцу/европейцу) была дарована система письма. Бирманец и ханец сохранили их, тогда как карен оставил свою, зафиксированную на шкуре, на пне дерева, пока занимался подсечно-огневым земледелием, и ее сожрали дикие (или домашние) животные. Историй подобного типа насчитывается бесчисленное множество; достаточно развернутый обзор вариаций данной темы в группе народов каренни представлен в работе Жан-Марка Растдорфера, посвященной кая и их идентичности[598]. Лаху рассказывают, что когда-то давно умели писать, и ссылаются на утраченную книгу. Они действительно известны тем, что обладали некими свитками с иероглифическими знаками, которые не могли прочесть[599]. Впечатление, что появление подобных историй в значительной степени обусловлено скрытым в них обращением к более сильным группам с развитой государственностью и системой письменности, подкрепляется тем, что таковые встречаются и за пределами региона[600].
Легенды о предательстве столь же распространены, как и рассказы о небрежности. Отдельные этнические группы располагают обеими версиями, видимо, используя каждую из них для соответствующих слушателей и ситуаций. В одном из рассказов об утрате каренами письменности вина возложена на бирманских королей, которые якобы продолжали захватывать и казнить всех грамотных каренов до тех пор, пока не осталось ни одного, кто мог бы научить писать остальных. Легенда народа кхму (ламет) в Лаосе связывает утрату им письменности с попаданием в политическую зависимость. Семь деревень решили вместе заниматься подсечно-огневым земледелием на одной горе и поклялись совместно противостоять своему тайскому повелителю. Они записали свою клятву на ребре буйвола, которое было торжественно погребено на вершине горы. Но позже ребро было выкопано и украдено, и «в тот день утратили мы свое знание письменности и с тех пор страдали от власти своего lam [тайского господина]»[601]. История чинов, ставшая известной в начале XX столетия, объясняет безграмотность народа бирманским обманом. Чины, как и другие племена, появились из 101 яйца. Будучи рождены последними, чины были самым любимым народом, но к моменту их рождения земля уже была поделена, поэтому им достались незанятые горы и населяющие их животные. Назначенный им бирманский опекун обманул чинов, лишив их слонов (символа королевской власти) и показав пустую оборотную сторону грифельной доски, чтобы они никогда не узнали ни одной буквы[602]. Репертуар историй об утрате письменности белыми хмонгами включает в себя рассказы и о небрежности, и о предательстве. По одной версии хмонги, убегая от ханьцев, заснули и лошади сожрали их тексты; или же тексты по ошибке попали в рагу и были съедены. Вторая и более зловещая версия гласит, что ханьцы, вытесняя хмонгов из долин, забрали все их тексты и сожгли. Образованные хмонги укрылись в горах, а когда они умерли, у народа не осталось письменности[603].
В некоторых группах, например у хмонгов и мьенов, утрата письменности прочно ассоциируется с общим восприятием истории как свойственной живущим в долинах и обладающим государственностью народам. Эти группы утверждают, что прежде чем их вытеснили с равнин, у них были короли и письменность, они занимались поливным рисоводством, то есть обладали всеми элементами, за отсутствие которых они сегодня стигматизируются. В этом контексте грамотность и письменные тексты не являются для горных народов чем-то новым и неизведанным — скорее, это возвращение прежде утраченного или украденного. Неудивительно поэтому, что прибытие миссионеров с библиями и системами письменности для племенных диалектов часто воспринималось как восстановление утерянной культурной ценности и даже приветствовалось, поскольку не имело отношения к бирманцам или ханьцам.
Почему нам важны все эти легенды об утраченной грамотности? Вполне вероятно, если мы рассмотрим их в длительной исторической перспективе, то увидим, что они содержат в себе долю исторической правды. Тай, хмонги/мяо и яо/мьен, судя по тому, что говорят реконструкции их прошлых миграционных перемещений, изначально жили в долинах и вполне могли когда-то давно быть подданными рисовых государств или, в случае многочисленных тайских групп, сами заниматься государственным строительством[604]. Многие другие горные народы в далеком и относительно недавнем прошлом были тесно связаны (даже если не были ими поглощены) с равнинными королевствами и их грамотными элитами. Соответственно, можно предположить, что те из народов, что перебирались из долин в горные районы, включали в себя по крайней мере незначительное грамотное меньшинство. Легенда хмонгов о вымирании такового, видимо, содержит в себе зерно истины, хотя и не объясняет, почему знания не были переданы. В разные моменты своей истории карены поддерживали тесные связи с рядом владеющих письменностью рисовых государств — монским Пегу, тайским Наньчжао, бирманскими и тайскими культурными традициями, — и подобные контакты не могли не породить хотя бы небольшой класс грамотных. Гананы, сегодня бесписьменный народ, проживающий в верховьях реки My, почти наверняка были частью имевших письменность королевства (королевств) Пиу до того, как укрылись в своих укреплениях в горах. Как и подавляющее большинство других горных народов, гананы и хмонги сохраняют множество культурных практик и верований тех жителей долин, с которыми когда-то поддерживали отношения. Если, как я полагаю, многие, возможно даже, большинство современных горных народов действительно имели «равнинное» прошлое, то подобная культурная преемственность не должна вызывать удивления. Но почему же тогда практически повсеместно горные народы не заимствовали у долин грамотность и систему письма?
Ограничения грамотности и прецеденты ее утраты
В общепринятых цивилизационных нарративах нет места утрате или отказу от грамотности. Обретение письменности рассматривается как путешествие в один конец, наравне с переходом от кочевого земледелия к поливному рисоводству и от лесных поселений к деревням, малым и крупным городам. И все же грамотность в досовременных обществах в лучшем случае была уделом мизерной доли населения, составлявшей, вероятно, менее одного процента от его общей численности. Грамотность была социальным маркером писцов, получивших хорошее образование религиозных деятелей и очень тонкой прослойки ученой аристократии, если речь идет о ханьцах. Поэтому предполагать, что какое-то государственное образование или народ полностью были грамотными, некорректно; во всех досовременных обществах подавляющее большинство населения было безграмотным и жило в рамках устной культуры, пусть и пронизанной и изменяемой текстами. Во многих случаях не будет преувеличением сказать, что с демографической точки зрения судьба грамотности и письменности нередко висела на волоске. Они были уделом крохотной элиты, и их социальное значение, в свою очередь, определялось государственной бюрократией, организованным духовенством и спецификой социальной пирамиды, в которой умение писать могло быть средством продвижения вверх по социальной лестнице и признаком социального статуса. Любое событие, которое угрожало элементам этой институциональной структуры, угрожало и грамотности.
Некий институциональный коллапс, видимо, стал причиной четырехсотлетних греческих Темных веков, продлившихся примерно с 1100 года до н. э. (времен Троянской войны) до 700 года. До этого периода микенские греки, по крайней мере какая-то небольшая их часть, вели записи с использованием крайне сложного для понимания письма (линейного слогового письма В), заимствованного у минойцев в целях прежде всего учета дворцовых административных решений и налоговых поступлений. По причинам, которые до сих пор не вполне ясны, — дорийское нашествие с севера, гражданская война, экологический кризис или голод — дворцы и города Пелопоннеса были разграблены, сожжены и заброшены, что привело к краху международной торговли и породило потоки беженцев и в целом миграцию населения. Эта эпоха получила название «Темные века» именно потому, что о ней не сохранилось никаких письменных свидетельств, вероятно, вследствие утраты линейного письма В в хаосе и рассеянии, в которых пребывало население в тот период. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» и устные сказания, передававшиеся от поэта к поэту и только значительно позже записанные, — единственные дошедшие до нас культурные артефакты Темных веков. Примерно в 750 году до н. э., в достаточно мирное время, греки возродили письменность, на этот раз позаимствовав у финикийцев их древнейшую алфавитную систему, позволявшую графически отображать звуки речи. Этот исторический эпизод — один из ярчайших имеющихся в нашем распоряжении примеров того, как система письменности была утрачена, а позже обретена вновь[605].
Другой пример, в котором, правда, письменность была не полностью утрачена, — эпоха, последовавшая за крахом потрепанных жизнью осколков Римской империи в 600-е годы н. э. Знание латыни, которое прежде было столь же дорогостоящим, сколь и обязательным атрибутом невоенной карьеры в Римской империи, теперь ничего не давало, за исключением, пожалуй, своеобразного украшения. Способом защитить себя и обрести власть для элит стала военная служба местному царю. Грамотность настолько упала в цене, что считалась необходимой лишь духовенству даже в районах Галлии, прежде полностью латинизированных. В отдаленной Британии внешний лоск римской культуры и образования испарился. Именно Римское государство и его институты поддерживали контекст, в котором письменность и грамотность были «основополагающим компонентом элитарности», ровно так же как микенский социальный порядок обеспечивал существование более ограниченного по масштабам использования линейного слогового письма В в Древней Греции. Когда разрушалось институциональное ядро системы, исчезал и социальный фундамент письменности и грамотности[606].
Предположим, что многие современные горные народы в тот или иной момент своей истории проживали вблизи или внутри равнинных государств, характеризовавшихся некоторой степенью грамотности. Предположим далее, поскольку это вполне разумно, что небольшая доля собственных элит горных народов становилась грамотной, например используя китайскую систему письма. В таком случае как же можно объяснить последующую утрату ими письменности? Здесь вновь первое, о чем нам следует помнить, — насколько тонка была грамотная прослойка ханьского общества, не говоря уже о тех народах, которые ханьское государство поглощало по мере расширения своих границ. По сути, мы говорим о небольшой горстке грамотных людей. Во-вторых, те, кто владел системой письменности равнинных государств, скорее всего, составляли элиту, и их бикультурные навыки превращали их в наиболее выгодных равнинному государству союзников и должностных лиц, которые, если сами того желали, могли встать на путь ассимиляции. Значит, как считает большинство историков, крупные сегменты малочисленных сегодня горных народов в прошлом были поглощены ханьской экспансией: можно предположить, что их образованные меньшинства остались в долинах и ассимилировались, поскольку поступить подобным образом им было исключительно выгодно. Соответственно, народы, эмигрировавшие или покидавшие центры равнинных государств, видимо, оставляли в них большую часть, если не всю свою образованную прослойку. Следуя этой логике рассуждений, можно предположить, что несколько грамотных людей, влившихся в ряды сопротивляющихся поглощению государства и бегущих от него, неоднозначно воспринимались своими соплеменниками: они были искусны в письме, считавшемся отличительной чертой государства, от которого бежала группа; их знания могли, с одной стороны, считаться полезными, с другой — их могли воспринимать как потенциальную пятую колонну. В последнем случае грамотные могли предпочесть утратить свой образованный статус и отказывались обучать письменности других.
Иное возможное объяснение утраты письменности заключается в том, что это явление стало логическим следствием фрагментации, мобильности и распада социальной структуры, обусловленных миграцией в горы. Уход из равнинных центров государственности означал отказ от сложной социальной структуры ради мобильности. В подобной ситуации письменность и тексты больше не были нужны и отмирали как практическая деятельность, хотя и сохранялись как память[607]. Как и в Римской империи, распространение грамотности и текстов напрямую зависело от существования конкретного государства и его бюрократических процедур: государственные документы, кодексы законов, летописи, в целом искусство ведения записей, налоги и экономические сделки и прежде всего модели распределения постов и иерархии, принятые в государстве, превращали умение читать и писать в желаемое и престижное свойство. Как только эта структура распадалась, социальные стимулы к обретению грамотности и механизмы ее распространения стремительно исчезали.
Ограничения письменности и преимущества устной традиции
До сих пор причины утраты письменности мы сводили к исчезновению грамотных людей, а также контекстов, которые определяли высокую ценность их услуг. Однако, как мне кажется, значительно важнее позитивные последствия перехода к устной культуре. Аргументы в пользу таковых базируются в первую очередь на очевидных по сравнению с письменной традицией преимуществах устной культуры — социальной гибкости и адаптации.
Для обоснования своей точки зрения я выношу за скобки те случаи, когда секретные виды письма и надписи считались обладающими волшебной силой[608]. Магические письмена и знаки широко распространены по всему региону и используются так же, как волшебные заклинания и заговоры, призванные символически «воздействовать на мир»; их изображают на талисманах и вытатуировывают на теле, монахи и шаманы благословляют их и ручаются за их способность охранять своего владельца, а потому эти письмена выполняют функцию мощных фетишей. Хотя магические письмена свидетельствуют о символической власти письма и сами по себе заслуживают отдельного рассмотрения, они не формируют систему письменности в том смысле, в каком я ее понимаю. Я также выношу за рамки своего исследования те обнаруживаемые по всему региону письмена, роль которых сводится исключительно к памятным пометкам на службе устной культуры. Так, например, считается, что яо/мьен на юге провинции Хунань в доханьские времена имели простейшую систему письменности, помогавшую им запоминать похоронные песни — они могли быть даже вышиты на одежде. Подобную ограниченную форму письменности — без постоянных текстов, литературы и документов — мы также оставим без внимания, сколь бы ни завораживала попытка использовать систему письма в, по сути, устной культуре (это как если бы Гомер разработал систему знаков, чтобы запоминать и декламировать сложные строфы «Одиссеи»)[609].
Существование особых, с ограниченной сферой применения моделей письменности — полезное напоминание о том, что тексты в широком смысле слова могут иметь разные обличья, из которых книги и документы — всего лишь два из множества возможных. Я осмелюсь предположить, что все иерархии, претендующие на межпоколенческую долговечность, производят как нечто само собой разумеющееся «тексты», которые подтверждают их претензии на власть и господство. Подобные тексты до появления письменности могли существовать в виде материальных объектов — корон, гербов, трофеев, мантий, головных уборов, королевских цветов, фетишей, реликвий, стел, монументов и т. д. Государство, как самый амбициозный претендент на власть, бесконечно приумножает эти «тексты», доказывая свое постоянство. Первые государства сочетали вечность каменных скрижалей с письменностью или пиктографией для утверждения притязаний на непреходящую власть.
Основной недостаток монументов и письменных текстов заключается именно в их относительном постоянстве. Несмотря на всю свою условность, будучи возведены/записаны, они превращаются в социальных ископаемых, которые в любой момент могут быть «откопаны» и извлечены на свет в своем неизменном виде. Любой письменный текст порождает возможность ортодоксии — будь то легенда о происхождении, предание о переселении, генеалогия или религиозная книга, как Библия или Коран[610]. Безусловно, ни один текст не обладает совершенно прозрачным смыслом; если же речь идет о множестве конкурирующих текстов, то возможности интерпретации многократно возрастают. Тем не менее текст остается отправной точкой рассуждений; он определяет если не невозможность, то неправдоподобие ряда прочтений. Если есть текст, признаваемый неоспоримой точкой отсчета, то он становится своеобразным мерилом, по которому можно примерно оценить отклонения от первоисточника[611]. Этот процесс обретает наиболее поразительные формы, когда текст признается авторитетным. Предположим, некий текст утверждает, что народ X возник в определенном месте, сбежал от несправедливых налогов конкретного короля равнинного государства, следовал в своих перемещениях некоторым маршрутом, поклонялся особым духам-покровителям и свойственным лишь себе образом хоронил мертвых. Появление подобных текстов влекло за собой серьезные последствия, поскольку упрощало институционализацию некой общепринятой нормативной версии событий. Таковую, собственно, и можно было из них узнать, и этот факт объясняет привилегированное положение грамотных писцов, которые умели читать. Любые последующие трактовки, в зависимости от степени соответствия первоначальному нормативному тексту, порождали различные вариации инакомыслия. В то же время споры в рамках устной культуры о том, какая именно из проговариваемых версий событий заслуживает доверия, нельзя разрешить, апеллируя к авторитету некоего письменного текста.
Письменные тексты, как и все документы, возникают в определенном историческом контексте и его, собственно, и отражают — в этом смысле они всегда «заинтересованные» и исторически детерминированные. В момент создания они вполне могут служить целям презентации истории группы в выгодном для нее свете. Но что, если ситуация принципиальным образом меняется и представленный в тексте образ группы становится ей неудобен? Что, если вчерашние враги сегодня стали союзниками, и наоборот? Если текст достаточно многозначен, то может иначе интерпретироваться, чтобы соответствовать новым реалиям. Если он не полисемичен, то его можно сжечь или выкинуть; в случае монументов с помощью долота приходилось уничтожать выбитые имена и события[612]. Легко заметить, что по прошествии времени зафиксированные версии событий могут с тем же успехом стать ловушкой и препятствием, с каким ранее были инструментом успешной дипломатии[613].
Для горных народов и безгосударственных сообществ в целом мир письменной культуры и текстов неразрывно связан с государством. Равнинные рисовые государства становились центрами письменности не только как культовый оплот мировых религий, но и потому что письмо — ключевая технология административного и государственного управления. Сложно представить себе рисовое государство без кадастровых карт налогооблагаемых земель, реестров отработки барщины, расписок, статистического учета, королевских указов, сводов законов, специальных соглашений, договоров и списков, списков, списков — короче говоря, без системы письменности[614]. Элементарная форма государственного управления — перепись населения и домохозяйств — основа системы налогообложения и воинского призыва. Из всех письменных текстов, сохранившихся от древнего города-государства Урука в Месопотамии, 85 % составляют записи экономического характера[615]. Как отметил Клод Леви-Отросс, «письменность, видимо, необходима централизованному стратифицированному государству, чтобы воспроизводить себя. Письменность — странная вещь… Один феномен, который неизменно ее сопровождает, — формирование городов и империй: интеграция политической системы, то есть включение значительного числа индивидов в иерархию каст и рабов… Такое впечатление, что письменность способствует скорее эксплуатации, чем просвещению человечества»[616].
В общеизвестной истории акха о странствиях («дорогах») этот народ описывается как когда-то прежде выращивавший рис на равнинах и жестоко угнетавшийся правителями и-лоло. Ключевой фигурой прошлого в этом нарративе выступает король Жабьоланг, величайшее преступление которого состояло, по мнению акха, в том, что он ввел ежегодные переписи[617]. Сама идея переписи (jajitjieu) символизирует аппарат государственной власти. Начало колониальной эпохи изобилует восстаниями коренных народов против первых переписей: крестьяне, как и племена, прекрасно понимали, что сбор данных — всегда лишь прелюдия к налогам и барщинным отработкам.
Схожее восприятие систем письменности и учета пронизывает историю колониальных крестьянских восстаний против государства. Основным объектом крестьянского гнева нередко были не столько колониальные чиновники, сколько документы, фиксирующие права собственности на землю, налогооблагаемые объекты и численность населения, посредством которых, по мнению крестьян, чиновники осуществляли управление. Мятежникам казалось, что само по себе сожжение здания с архивной документацией гарантирует им некое освобождение. Но связывание письменности с государственным угнетением не было особенностью колониального мира. Радикальные силы Гражданской войны в Англии (диггеры и левеллеры) считали, что латынь, на которой писались законы и говорило духовенство, призвана дурачить народ, чтобы власти могли его обирать. Сам факт знания человеком букв мгновенно порождал у них подозрения[618].
По большей части первые шаги любого государственного строительства были связаны с называнием тех объектов, которые прежде многократно меняли свои названия или были безымянны, — деревень, округов, родов, племен, вождей, семей и полей. Процесс придумывания названий, будучи встроен в систему административного управления, порождал прежде не существовавших социальных субъектов. Для ханьских чиновников одной из отличительных черт «варваров» было отсутствие отчеств. Существование подобных стабильных имен у самих ханьцев объяснялось их прежними попытками создания государственности. В этом смысле любые элементы идентичности и пространственного размещения, позже обретающие собственную генеалогию и историю, в своем официальном, стабильном формате — эффект государства, неразрывно связанный со становлением письменности.
Для многих безгосударственных до- и постписьменных народов мир грамотности и письменной культуры — не просто напоминание об отсутствии у них власти и знаний и обусловленной этим фактом стигматизации, но одновременно прямая и явная угроза. Письменность, напрямую связанная с государственной властью, легко могла стать инструментом и лишения, и обретения многих прав и возможностей. Отказ обучаться или сохранить систему письменности — одна из множества стратегий, чтобы остаться недоступными для государства, хотя, возможно, более разумно было бы полагаться на «знания, которые позволили бы сопротивляться бюрократической кодификации»[619].
Безгосударственным народам, выбравшим жизнь между мощными равнинными государствами, а потому развившим такие важные навыки выживания, как адаптивность, мимикрия, переформатирование повседневных практик и особые способы обустраивания пространства, устная традиция давала существенные преимущества. В устной культуре невозможна одна-единственная авторитетная модель генеалогии или истории, которая бы служила золотым стандартом общепринятой нормы. В случае наличия двух и более толкований выбор наиболее достоверной версии событий в значительной степени обусловлен репутацией «сказителя» и тем, насколько рассказанная им легенда соответствует интересам и вкусам аудитории.
Во многих отношениях устная традиция намного более демократична, чем письменная, по крайней мере по двум причинам. Во-первых, умение читать и писать обычно не так широко распространено, как способность рассказывать истории[620]. Во-вторых, редко обнаруживается простой способ «вынести решение» о том, как правильно рассказать о том или ином событии, потому что не существует зафиксированного письменного текста, с которым можно сравнивать устные пересказы и оценивать степень их достоверности. Устная коммуникация, даже если речь идет об «официальных» сказителях, по определению ограничена размерами той аудитории, которая собралась услышать историю непосредственно от рассказчика.
Произнесенное слово, как и в целом язык, есть коллективное действие: «Связанные с ним конвенции должны разделяться целыми группами общества, различающимися по своим размерам, прежде чем его „смысл“ станет доступен отдельным членам общества» в момент передачи[621]. О того момента как произнесенный текст (конкретная речевая конструкция) записан и сохраняется как высказывание, он утрачивает большую часть особенностей своего происхождения — интонацию, музыкальное и танцевальное сопровождение, реакции аудитории, телесную экспрессию и мимику, — каждая из которых могла быть принципиально важна для передачи его изначального смысла[622].
На самом деле, если речь идет об устных историях и нарративах, понятие «подлинности» просто теряет смысл[623]. Устная культура существует и поддерживается благодаря единичным уникальным высказываниям — в конкретном месте, в конкретное время, перед заинтересованной аудиторией. Конечно, подобные речевые высказывания не сводятся лишь к проговариванию некоторого набора слов: каждое из них учитывает окружающую обстановку, жесты и выражение лица говорящего (говорящих), реакции аудитории и собственно повод для «выступления». Таким образом, устную культуру отличает непреходящая настоящесть — если бы в ней не было сиюминутной заинтересованности и она не имела бы смысла для данной конкретной аудитории, она просто бы прекратила свое существование. И напротив, письменный источник может более или менее незримо сохраняться в течение тысячелетий, чтобы внезапно быть извлеченным на свет и стать авторитетным документом, на который можно ссылаться.
Устные традиции соотносятся с письменными примерно так же, как подсечно-огневое земледелие — с поливным рисоводством и небольшие, рассеянные родовые объединения — с оседлыми сообществами с высокой концентрацией населения. Устные традиции создают «медузообразные», изменчивые, гибкие формы обычаев, истории и права. Они допускают определенный «дрейф» в содержании и акцентах с течением времени — стратегически продуманное и целенаправленное переформатирование, скажем, истории группы: одни события в ней забываются, другие подчеркиваются, третьи «вспоминаются». Если группа, все члены которой имеют общее происхождение, распадается на две или более подгрупп и каждая из них начинает самостоятельную жизнь в совершенно новых условиях, можно представить, насколько их устные истории в итоге окажутся различными. Поскольку устные традиции меняются незаметно и независимо друг от друга, невозможно обнаружить общую для них точку отсчета, которую представляет собой общий письменный текст и по которой можно было бы оценить, как далеко и по какой именно траектории каждая традиция отошла от некогда единого жизнеописания. Устные традиции сохраняются только благодаря пересказам, а потому накапливают различные интерпретации по мере своей передачи. Каждое новое воспроизведение неизбежно отражает текущую ситуацию, интересы, политические отношения, восприятие соседних сообществ и родовых объединений. Барбара Андайя, описывая устные традиции Суматры (Джамби и Палембанга), характеризует данный процесс приспособления и трансформаций следующим образом: «О молчаливого согласия всех членов сообщества детали, чуждые его нынешнему состоянию, изымались из легенд, чтобы быть заменены новыми, релевантными, которые позиционировались бы как наследие предков, тем самым не позволяя настоящему утратить преемственность с прошлым, а прошлому — осмысленность»[624].
Устные традиции способны на удивительные подвиги самоотверженного самосохранения и межпоколенческой передачи, если их носители (группы) в этом заинтересованы. Нам многое известно о традициях сказительства благодаря новаторским исследованиям сербского устного народного эпоса и, как следствие, гомеровского эпоса, а потому мы понимаем, что рифма, размер и длительное обучение могут обеспечить высокую точность изустной передачи даже очень длинных фрагментов текста[625]. У акха особая каста пхима (phima) — учителей и чтецов — посредством устной передачи сохраняла довольно сложные и длинные генеалогии, описания основных событий в истории народа и нормы обычного права: они пропевались в торжественных случаях. Тот факт, что широко рассеянные группы акха, говорящие на весьма различающихся диалектах, сумели сохранить почти идентичные устные тексты, свидетельствует об эффективности применяемых для этого методов. Еще более впечатляет то обстоятельство, что акха и хани, разделившиеся более восьмисот лет назад, воспроизводят устные тексты, почти полностью понятные и тем и другим[626].
Я натолкнулся на удивительный современный пример сохранения детальной устной истории в бирманских шанских штатах — в деревне народа пао в двух днях пути на восток от Кало. В конце ужина несколько жителей деревни попросили пожилого мужчину спеть историю У Онг Та, одного из самых известных политиков пао после Второй мировой войны. У Онг Та был убит неизвестными недалеко от Таунджи в 1948 году. Декламация, которую я записал на магнитофон, длилась более двух часов. Как показал перевод, это оказался совсем не героический эпос о бесстрашных подвигах, которого я ожидал, а исключительно приземленный и подробный рассказ о последних днях жизни У Онг Та. Больше всего он напоминал скрупулезный полицейский отчет, детально описывающий, когда Онг Та приехал в деревню и с кем, что было надето на всех прибывших, каков был цвет его джипа; с кем он разговаривал, когда пошел купаться; когда прибыло несколько человек, расспрашивавших о его местонахождении, как они были одеты, на каком джипе приехали и что сказали жене Онг Та; когда было найдено его тело, что на нем было надето, как его опознали по кольну на пальце, каковы были результаты вскрытия и т. д. В конце декламации певец наставлял слушателей «брать пример с этой правдивой истории, чтобы избежать утрат и искажений в истории о чем бы то ни было». Можно было подумать, что всевозможные усилия, прикладываемые вот уже половину столетия для тщательной устной передачи данной информации, осуществлялись для того, чтобы сохранить в первозданном виде все устные свидетельства и значимые факты на случай серьезного полицейского расследования! Я был удивлен, когда узнал, что этому и другим певцам на землях пао платили за декламации истории убийства У Онг Та на свадьбах и праздниках. Несмотря на недостаток театральности и изобилие фактических деталей, это была популярная и почитаемая история[627].
Таким образом, устные традиции способны в определенных ситуациях обеспечивать схожую с зафиксированным письменным текстом дословную неизменность содержания рассказа, гарантируя ему в то же время достаточный для стратегического приспособления и трансформаций потенциал гибкости. Они фактически, и так было всегда, претендуют как на статус изначальных ур-текстов, так и на статус совершенно новых нарративов, причем не существует простых способов оценки справедливости подобных претензий.
Причины стратегических и незапланированных обновлений устных традиций многообразны. Как только наступает окончательное понимание, что любые описания обычаев, генеалогий и историй ситуационно обусловлены и необъективны, их новые версии с течением времени становятся общепризнанной нормой. У качинов рассказывание историй — прерогатива профессиональных групп жрецов и сказителей, и «все истории имеют несколько версий, каждая из которых призвана подкреплять претензии конкретных заинтересованных лиц». В противоборстве качинских родов за относительно высокие статусные позиции и удовлетворение своих аристократических амбиций каждая версия происхождения народа, его истории и пантеона духов, которым качины поклонялись, изображалась таким образом, чтобы соответствовать интересам конкретного рода. Как предупреждает Эдмунд Лич, «не существует „подлинной версии“ традиции народа качин — лишь некий набор историй, в которых представлен более или менее одинаковый перечень мифологических персонажей и используются схожие типы структурного символизма… но которые при этом отличаются друг от друга в ключевых деталях, в зависимости от того, кто именно рассказывает историю»[628]. Подобная ситуация характерна не только для родовых объединений и кланов, но и для более крупных социальных единиц, например этнических групп. Со временем меняются окружающие обстоятельства, а следовательно, интересы групп, их описание собственной истории, обычаев и даже божеств. Можно предположить, что группы каренов, проживавшие в разных условиях — по соседству с монами, тайцами, бирманцами и шанами, — создали несхожие устные традиции, соответствующие каждой конкретной ситуации. Поскольку их неустойчивое политическое положение было подвержено резким и радикальным изменениям, пластичная устная традиция была преимуществом. Если, как утверждает Рональд Ренард, культура каренов может «полностью развернуться на месте» и превосходно адаптирована к перемещениям и изменениям, то их устная традиция способствовала тому в не меньшей степени, чем кочевое земледелие и пространственная мобильность[629].
Речь отнюдь не идет о циничной манипуляции, не говоря уже о сознательном конструировании абсолютно ложной версии событий, — устные традиции изменяются практически незаметно сказителями, которые не считают себя мастерами провозглашать истину. Модификации в основном сводятся к избирательным акцентам и умолчаниям, потому что определенные версии кажутся более важными или соответствующими текущей ситуации. Здесь применимо понятие «бриколаж», поскольку вариативные устные традиции часто состоят из одних и тех же базовых элементов, однако их организация, расстановка акцентов и морально-этическая нагрузка различны[630]. Яркий пример тому — декламации генеалогических историй, посредством которых многие горные народы устанавливали отношения союзничества или вражды. Любую генеалогическую цепочку можно было удлинять бесконечно, потому и не было числа предкам народа. Отсчитав лишь восемь поколений по мужской линии, можно было обнаружить 255 прямых предков, а по линии обоих родителей это число увеличивалось вдвое — до 510. Решение о том, какую именно из множества генеалогических ветвей исключить, отслеживать или акцентировать, в некотором смысле носило произвольный характер. По той или иной генеалогической линии Авраам Линкольн окажется предком большинства американцев. О той же вероятностью они могут обнаружить в своей родословной его убийцу Джона Уилкса Бута, однако не склонны выяснять этот факт и тем более подчеркивать свое родство! Стратегически отбирая и акцентируя внимание на конкретных предках, можно установить такие фактические генеалогические взаимосвязи, которые могут легитимировать нынешние союзы. В этом смысле сложные родословные предлагают огромный выбор возможных взаимосвязей, большинство из которых остаются в тени, хотя в случае необходимости могут быть извлечены на свет. Чем более неустойчива социальная среда, чем чаще группы делятся и воссоединяются, тем выше вероятность того, что множество забытых предков вновь вступит в игру. Считается, что берберы могут раздобыть генеалогическое обоснование практически любого выгодного им политического союза, или получения прав на выпас скота, или на случай войны[631].
Документально зафиксированная генеалогия, наоборот, устанавливает один-единственный вариант рассказывания общепризнанной версии событий, фактически лишая его временного измерения и представляя как раз и навсегда данную и неизменную форму будущим поколениям. Первый письменный политический документ Японии (712 год) представляет собой генеалогическую историю великих родов, которая была очищена от «неправды», запомнена, а затем записана и сохранена как основополагающий текст официальной традиции. Его задачей была кодификация избирательного и политически выгодного сочетания множества нарративов и официальное объявление его единственно верной и неизменной священной историей[632]. Отныне все прочие версии считались инакомыслием. Официальная династическая генеалогия повсеместно возникала непосредственно в момент осуществления политической централизации. Приход к власти Макассара, одного из множества мелких королевств, был, по сути, гарантирован созданием письменной генеалогии, «документально подтвердившей» квазибожественность победившей правящей семьи[633]. Практически всегда письменные генеалогии были призваны обосновать и подкрепить властные притязания, что было невозможно сделать, если они заявлялись только в устной форме. Исследуя первые генеалогии в ранней истории Шотландии, Маргарет Ниек подчеркивает различие устной и письменной форм их фиксации:
В русле традиций устной культуры… подходящие генеалогии создавались относительно легко за счет целенаправленной манипуляции доказательствами, поскольку было крайне мало возможностей внешнего подтверждения каких бы то ни было заявлений… Как только генеалогия получала документальное оформление, она прочно, как никогда прежде и помыслить было нельзя, закрепляла за определенными индивидами и семьями статус должностных лиц. Фабрикация претензий, чтобы оспорить власть и положение подобных индивидов, потребовала, бы получения доступа, к соответствующим документам, которые действительно существовали, а также к технологиям, необходимым, для, производства, альтернативных версий генеалогий[634].
То же самое можно сказать о наборе историй, который имеется в распоряжении группы и из которого она может выбрать подходящий для составления своей родословной сценарий. Возможности отбора, акцентирований и умолчаний здесь также бесчисленны. Возьмем в качестве достаточно банального примера взаимоотношения Соединенных Штатов с Великобританией. Тот факт, что американцы вели две войны против Великобритании (Война за независимость и Англо-американская война 1812 года), обычно замалчивается в свете союзничества двух стран в XX веке в ходе мировых войн и холодной войны. Если бы Соединенные Штаты и сегодня были противником Великобритании, скорее всего, доминировала бы иная, чем сегодня, версия прошлого.
Возможности модификаций, безусловно, столь же богаты в случае письменных историй и генеалогий, как и в случае их устных аналогов. Различие состоит в том, что избирательное забывание и запоминание в рамках устной традиции происходит более незаметно и гладко, поскольку здесь изменения наталкиваются на меньшее количество препятствий и то, что на самом деле является абсолютным новшеством, легко может быть без особых возражений представлено как голос прошлого.
Преимущества жизни без истории
Если устные история и генеалогия предоставляют больше возможностей для маневра, чем их письменные аналоги, то, видимо, самое радикальное из всех возможных решений — утверждать полное отсутствие какой бы то ни было истории и генеалогии. Так, Хьёрлифур Йонссон противопоставляет лису народам луа и мьен. Лису, если не считать постоянные упоминания того, как они убивают слишком напористых вождей, имеют предельно сокращенную версию устной истории. Йонссон утверждает, что «лису забывают столь же упорно, как луа и мьен запоминают». Он полагает, что лису почти полностью отказались от истории, чтобы целенаправленно «лишить социальные структуры выше уровня домохозяйств, такие как деревни или объединения деревень, их активной роли в ритуальной жизни, в социальной организации, в мобилизации общественного внимания, труда и ресурсов»[635].
Стратегия лису принципиальным образом расширяет пространство для маневра в двух отношениях. Во-первых, любая история, любая генеалогия, пусть даже в устной форме, представляет собой некое позиционирование себя относительно других групп, причем это лишь один из множества возможных вариантов. Сделанный выбор может оказаться неудачным; изменить его мгновенно, даже в рамках устной традиции, невозможно. Лису, в результате отказа демонстрировать свою приверженность какой бы то ни было трактовке прошлого, для сохранения своей традиционной автономности ничего не приходится менять — пространство для маневра становится почти безграничным. Но безысторичность лису глубоко радикальна и по другой причине. Абсолютно все они отрицают категорию «лису» как собственную идентичность, за исключением, видимо, тех случаев, когда сталкиваются с чужаками. Отказываясь от истории — не располагая общей трактовкой прошлого и общепризнанной генеалогией, которые определяли бы групповую идентичность народа, — лису фактически устраняют все элементы культурной идентификации, выходящие за пределы индивидуального домохозяйства. Можно сказать, что лису сконструировали абсолютно «медузообразную» культуру и идентичность, отказавшись как бы то ни было себя позиционировать! Подобная стратегия сокращает возможности коллективного сопротивления, но в то же время максимизирует способности адаптации к неустойчивой внешней среде.
Как уже говорилось выше, относительно слабые горные народы могли или счесть выгодным избегание письменной традиции и фиксированных текстов, или же полностью от них отказаться, чтобы расширить себе пространство для культурного маневра. Чем короче генеалогии и история народа, тем меньше ему нужно объяснять и тем больше придумывать не сходя с места. В Европе показателен в этом отношении пример цыган. Будучи повсеместно преследуемым народом, они не создали единой письменности, заменив ее богатой устной традицией, в которой высоко почитаются сказители. У цыган нет общей версии исторического прошлого. Они не рассказывают о своем происхождении или обещанной им земле, куда все они стремятся. У них нет ни святынь, ни гимнов, ни руин, ни памятников. Если когда-либо и существовал народ, которому пришлось скрывать, кто он и откуда пришел, то это были цыгане. Скитаясь из страны в страну и в большинстве из них подвергаясь гонениям, цыгане постоянно вынуждены были модифицировать свои истории и идентичности, чтобы выжить. Цыгане — кочевой скитающийся народ.
Но сколько «истории» нужно или хочется иметь народу? Краткий анализ устной и письменной традиций поднимает более широкий вопрос: какова в конечном итоге та социальная единица, что является носителем исторического сознания, независимо от того, передается оно из поколения в поколение в устной или письменной форме?
В случае формирования централизованного правительства и правящей династии очевидно, что они стремились закрепить свои притязания (даже если таковые и были полностью сфабрикованы) на легитимность и древнее происхождение посредством создания соответствующих родословных, придворных преданий, эпоса и хвалебных гимнов. Сложно представить институциональные претензии на естественность и неизбежность власти, которые бы существенным образом не опирались на историю — устную или письменную. То же самое касается практически любых социальных иерархий. Утверждение, что какой-то конкретный род выше другого или что определенный город обладает привилегированным положением по сравнению с другим, должно было подкрепляться ссылками на историческое прошлое и легенды, чтобы не выглядеть голословным или основанным на грубой силе. Можно даже сказать, что любые заявления о более высоком положении или социальном неравенстве, выходящие за пределы одного поколения, обязательно нуждаются в историческом обосновании. Подобные претензии не требуют устного или письменного закрепления — как это часто случается в горах, они могут базироваться на владении ценными регалиями, гонгами, барабанами, печатями, реликвиями, даже головами, выставление которых на всеобщее обозрение на торжественных церемониях свидетельствует о властных притязаниях их владельцев. Оседлые сообщества, даже если они не жестко социально дифференцированы, склонны не только создавать устойчивые версии своего происхождения и жизненного пути, но и до такой степени историзировать свое право владения полями и жилыми постройками, что те превращаются в ценное имущество.
Но что же тогда нужно тем людям, что живут на окраинах государства, в социально не иерархизированных системах родства и часто меняют местоположение своих сельскохозяйственных занятий, как, например, подсечно-огневые земледельцы? Не следует ли из всего сказанного выше, что подобные группы не только предпочитают устную традицию по причине ее пластичности, но и вообще не особенно нуждаются в какой-либо версии собственной истории? Во-первых, «единица, хранящая историю» и составляющие ее родословные, может быть весьма изменчива и неустойчива. Во-вторых, какой бы ни была подобная единица, если речь идет о подсечно-огневых земледельцах, то она им мало интересна с точки зрения защиты исторически сложившихся привилегий, поскольку у них есть масса стратегически важных причин оставлять свое прошлое открытым для импровизаций.
В своей классической работе по устной истории Ян Вансина, противопоставляя устные традиции соседних Бурунди и Руанды, приводит убедительные примеры, подтверждающие мою аргументацию. У этих двух стран много общего, но Бурунди — менее иерархизированное и централизованное государство, в результате чего, как утверждает Вансина, здесь гораздо меньше устной истории, чем в централизованной Руанде. В Бурунди, в отличие от Руанды, не существует королевской генеалогии, придворных песен и династической поэзии.
Подвижность всей политической системы просто поражает. Здесь нет ничего, что могло бы способствовать формированию детальной устной традиции: ни историй провинций, потому что таковые были нестабильны, ни историй известных семей, потому что помимо королевской семьи [узурпатора с незначительными властными полномочиями] никаких других просто не существовало, ни централизованного правительства, а соответственно, и официальных историков… В общих интересах было забыть прошлое. Прежний старший регент страны рассказал мне, что история не представляла никакого интереса для двора, поэтому у них практически отсутствуют исторические хроники. Политическая система объясняет почему[636].
Письменная и устная культуры не исключают друг друга: невозможна устная традиция, в которой не сложились тексты, как и не существует основанного на текстах общества, в котором отсутствует параллельная письменной и иногда противостоящая ей устная традиция. Как и в случае с поливным рисоводством и подсечно-огневым земледелием или иерархической и эгалитарной социальными формами, видимо, правильнее говорить о колебаниях и переходах от одной традиции к другой. Если преимущества жизни в основанном на текстах государстве множились, то безгосударственные сообщества могли постепенно усваивать письменность и грамотность; как только эти преимущества сходили на нет, безгосударственные народы стремились вернуться или остаться преимущественно в рамках устной традиции.
Отношение народа, родового объединения или сообщества к своей истории позволяет понять его восприятие государственности. Все социальные группы обладают некоей формой истории, рассказа о себе — кто они и как оказались там, где сегодня живут. Но на этом сходства подобных историй заканчиваются. Периферийные группы без руководящей верхушки склонны акцентировать в своих версиях прошлого маршруты передвижений, поражения, миграции и особенности ландшафта. Статусные различия, героическое происхождение и территориальные претензии, наоборот, составляют суть процессов централизации и (потенциального) становления государственности. Различается не только содержание, но и форма осмысления прошлого. Письменная традиция обладает огромной инструментальной ценностью для процессов политической централизации и администрирования. Но при этом устная традиция предоставляет существенные преимущества тем народам, чье благополучие и выживание зависят от скорости адаптации к капризному и опасному политическому окружению. И наконец, прослеживаются различия в том, сколько именно истории предпочитают иметь разные народы. Например, лису и карены, видимо, любят путешествовать налегке и, насколько это возможно, снижают «вес» своего исторического багажа. Как шкиперы трамповых судов, они по своему опыту знают, что нельзя уверенно предсказать, в какой именно порт им придется зайти в следующий раз. Безгосударственные народы обычно стигматизируются окружающими их культурами как «народы без истории», то есть как не обладающие фундаментальной характеристикой цивилизации — историчностью[637]. Во-первых, стигматизация предполагает, что только письменная традиция способна нарративно конструировать идентичность и общее прошлое. Во-вторых, что более важно, незначительный объем истории у народа отнюдь не является индикатором низкой ступени эволюции — это всегда сознательный выбор, отражающий попытку определенным образом самопозиционироваться по отношению к мощным, основанным на письменных текстах соседним культурам.
Глава 7. Этногенез. Случай радикального конструктивизма
Эрнест Ремам был, прав, когда, писал более века, назад:
«Забывание и, я бы даже сказал, ошибочный взгляд на собственную историю — один из факторов формирования нации, а потому прогресс в исторических исследованиях часто оказывается опасен для национальной идентичности». Я убежден, что это прекрасная, задача для историков — быть угрозой для национальных мифов.
— Эрик Хобсбаум. Нации и национализм после 1780 года
Нет ничего более неизменно актуального, чем, поставщики древних идентичностей.
— Чарльз Кинг
Племена никак не поделены по разным колониям — они перемешаны совершенно непостижимым, образом. Более того, в их [качинских] деревнях можно обнаружить палаунгов, «л, а», ва, китайцев и небольшое число шанов.
— Дж. Дж. Скотт. Географический справочник Верхней Бирмы и Шанских штатов
Родоплеменной строй и этническая принадлежность: отсутствие взаимосвязи
Как наследник, вступивший в права управления крупным поместьем, британские колониальные власти, как и любые другие, предприняли попытку провести инвентаризацию своих новых владений в Бирме. Кадастровый учет позволял оценить недвижимое имущество, перепись — подсчитать количество унаследованных в ходе завоеваний жителей новых британских территорий.
Как только чиновники, ответственные за проведение переписи в 1911 и последующие годы, оказывались в горах, то сталкивались с такой причудливо сложной организацией жизни, которая сразу сводила на нет их маниакальное стремление к порядку и классификациям. Что они могли предпринять в ситуации, когда большинство обозначений «племен» были на самом деле придуманными чужаками экзонимами и вообще не использовались местным населением, которое должны были маркировать? Причем и чужаки редко придерживались одних и тех же обозначений. Кроме того, экзонимы либо имели уничижительную коннотацию («рабы», «поедатели собак»), либо носили обобщающий с географической точки зрения характер («горный народ», «жители верховий реки»). Возьмем, например, народность марус, проживавшую на границе Китая в Северных Шанских штатах, описанную Дж. Дж. Скоттом в «Географическом справочнике Верхней Бирмы». Ни сами ее представители, ни «власти» не называли их качинами, однако все соседние народы настаивали, что те были настоящими «качинами». «Они одеваются, как качины, и заключают браки с качинами [джингпо], но их язык ближе к бирманскому, чем к джингпо»[638]. Как в таком случае следовало учитывать их в переписи?
Основанием для определения «расы» в практических целях в переписях 1911 и 1931 годов стал язык. Согласно лингвистическим концепциям того времени было «принято в качестве догмы положение, что говорящие на одном языке образуют уникальную, однозначно определяемую единицу, которая обладает особой культурой и собственной историей»[639]. С приравнивания «племени» и «расы» (два этих понятия использовались как взаимозаменяемые в рамках переписи) к «родному языку» самое интересное только началось. Инструкторы переписчиков вынуждены были обращать их внимание на то, что «родным языком» считался тот, на котором человек «говорил с пеленок», а «совсем не тот, что был принят в повседневном обиходе», — он мог записываться как дополнительный, второстепенный. За исключением обычно моноязычных бирманцев в центрах рисовых государств билингвизм среди небольших горных народов был скорее правилом, чем редкостью. Те, для кого каренский, шанский или другой (не бирманский) язык из тибето-бирманской группы был родным, обычно были билингвальны, а нередко и трилингвальны[640]. Причем подобная картина сохранялась и на уровне микрокосмоса отдельной деревни. В одной «качинской» деревне, состоявшей всего лишь из 130 домохозяйств, было обнаружено не менее шести «родных языков», хотя ее жители использовали джингпо как лингва франка по аналогии с малайским и суахили[641]. Использование родного языка как индикатора племенной принадлежности и исторического пути неявно предполагает, что разговорный язык — та постоянная и неизменная нить, что связывает людей воедино. И все же авторы переписи отклонились от собственной трактовки, признав «исключительную неустойчивость языковых и расовых различий в Бирме». В раздраженном по тону, но поучительном, если не сказать развлекательном, приложении к переписи под названием «Записка о коренных народах Бирмы» Дж. Г. Грин идет еще дальше:
Некоторые расы и «племена» в Бирме меняют свой язык почти столь же часто, как переодеваются. Смена языков происходит в результате завоеваний, поглощений, изоляции и общей склонности переходить на язык соседа, который считается представителем более мощной, более многочисленной и более развитой расы или племени… Расы все больше и больше перемешиваются, и эти клубки все труднее и труднее распутать. Ненадежность языка как критерия идентификации расы стала очевидна в ходе данной переписи[642].
Очевидный для Эдмунда Лича, но не для организаторов переписи факт состоит в том, что языковые группы не формируются по наследственному признаку и не являются стабильными во временном отношении. Обращение к языку, чтобы реконструировать на его основе исторический путь, — совершенно «бессмысленное занятие», и этого убеждения придерживается большинство тщательно исследовавших этот вопрос ученых[643].
Вновь и вновь мы сталкиваемся с разочарованием тех, кто пытался провести перепись народов, но, к своему ужасу, оказывался перед лицом абсолютного хаоса. Чтобы составить аккуратную, объективную, систематическую классификацию племен, нужно было, как казалось, выбрать устойчивую характеристику или ряд черт, которыми бы обладали все члены племени и которых не было у всех прочих народов. Как выяснилось, с этой задачей невозможно справиться ни с помощью как родного языка, так и других характеристик. Выло совершенно очевидно, что существуют «качины», карены и чины, но было непонятно, где начинались одни и заканчивались другие, были ли они качинами, каренами и чинами в прошлых поколениях и собираются ли оставаться таковыми в будущем.
Крупная группа (7,5 миллиона человек только в Китае), известная как мяо, и родственные им хмонги в Таиланде и Лаосе, — яркий тому пример. Они говорят на трех основных языках, и внутри каждого из них сложились диалекты, совершенно непонятные носителю другого диалекта. Кроме того, большинство мужчин и многие женщины мяо говорят на трех и более языках. Существуют группы, идентифицирующие себя как мяо, которые живут в долинах, выращивая поливной рис, и те, что населяют большие высоты и занимаются подсечно-огневым земледелием (выращивая опий, кукурузу, гречиху, овес, картофель), собирательством и охотой. Некоторые мяо в значительной степени заимствовали китайскую манеру одеваться, ритуалы и язык, и те из них, кто проживает в отдаленных, изолированных районах, нередко сохраняют архаичные черты китайской культуры, но категорически дистанцировались от равнинных жизненных практик. На микроуровне отдельной деревни прослеживается та же культурная «хаотичность». Смешанные браки мяо с представителями других групп (кхму, лису, китайцами, каренами, яо и т. д.) чрезвычайно распространены, как и их поглощение[644]. Даже те характеристики, что, по мнению многих мяо, являются их отличительными культурными чертами (например, жертвоприношения крупного рогатого скота и духовой язычковый орган), на самом деле свойственны и другим народам. Немалая доля хаоса обусловлена тем фактом, что во многих районах Китая ханьские чиновники использовали термин «мяо» для обозначения любых групп, поднимавших восстания и отказывавшихся подчиняться ханьской администрации. Со временем это название, благодаря в том числе, и государственным рутинным процедурам управления, закрепилось: мяо стали считаться те, кого так называли обладающие властью, то есть способные навязывать свои категоризации.
Разнообразие каренов обескураживает не меньше. Ни одна характеристика, скажем, религия, манера одеваться, погребальные ритуалы и даже общий, понятный всем язык, не применима по отношению к каренам в целом. Каждая их подгруппа также демонстрирует изумительную неоднородность. Как отмечает Мартин Смит, «понятие „его карены“ сегодня в равной степени применимо и к говорящим на бирманском языке, и к выпускнику Рангунского университета, который родился и вырос в бассейне или дельте реки Иравади, и к неграмотному, исповедующему анимизм члену горного племени, живущему на горе Даун [рядом с тайской границей], который никогда в жизни не встречал этнического бирманца»[645].
У каренов практики ассимиляции членов других этнических групп и заключения с ними браков хотя и несколько менее распространены, чем среди мяо и яо, но тем не менее столь же общеприняты, а потому «каренность» отнюдь не является исключительно этнической идентичностью. По крайней мере в Таиланде, согласно Чарльзу Кису, можно быть «кареном» в своей родной деревне и церковном приходе и в то же время «тайцем — на рынке, в политической сфере и во взаимодействии с тайцами». То же самое, по его мнению, можно сказать о повседневных, регулярных и бесконфликтных сменах тайской и китайской, тайской и кхмерской, тайской и лаосской идентичностей. Карены и многие другие меньшинства часто оказываются этническими амфибиями, способными регулярно сменять несколько идентичностей, не испытывая при этом чувства противоречия. Живя в тесном симбиозе с другим культурным комплексом, этнические амфибии учатся почти виртуозно соответствовать требованиям каждого типа культуры. Кис также упоминает луа/лава, подсечно-огневых земледельцев и анимистов, которые говорят на мон-кхмерском языке дома, но столь искусны в тайском языке, равнинных сельскохозяйственных технологиях и буддийских практиках, что могут превратиться в тайцев буквально за ночь, когда переезжают в долину. Столкнувшись с подобным культурным многообразием каренов, Кис сделал следующий логический шаг на пути минимизации значения культурных черт и заявил, что этническая принадлежность есть результат самопозиционирования. По его мнению, «сама по себе этническая идентичность [то есть ее утверждение] является определяющей культурной характеристикой этнических групп». Тот, кто принимает эту идентичность, при условии что карены признают его, в силу самого этого факта становится кареном[646].
Что совершенно ясно без малейших сомнений, так это то, что основанная на наборе характеристик трактовка этничности не нашла поддержки и в горных районах Юго-Восточной Азии. Сам факт проживания в горах и сопутствующие подсечно-огневое земледелие и рассеяние не считались здесь вполне удовлетворительными критериями. Большинство качинов, мяо и каренов, это правда, воспринимаются как горные народы, занимающиеся подсечно-огневым земледелием. Многие их ритуалы обязаны своим происхождением «огневому хозяйству», а также охоте и собирательству. Но в то же время значительное число людей, самоидентифицирующих себя как качинов, мяо и каренов, заняли иные сельскохозяйственные ниши, включая оседлое земледелие и поливное рисоводство, заимствовали и другие особенности жизни в долинах, включая язык центральных районов рисовых государств.
Основная причина, почему обозначение этнической или племенной идентичности через некий набор характеристик оказалось совершенно невыполнимой задачей в силу неспособности отразить реальные групповые процессы и принадлежность, заключается в том, что горные народы, будучи зависящими от рабочей силы политическими системами, поглощали всех, кого могли. Эта способность и породила удивительное культурное разнообразие горных сообществ. Принятие новых членов, высокая социальная мобильность пленников и генеалогические подтасовки создавали горные системы, которые с культурной точки зрения были весьма гостеприимны и сговорчивы. Даже весьма стратифицированная и сегментированная система родов качинов, впрочем, совсем не жесткая, была призвана способствовать поглощению своих соседей из числа лису и китайцев. Как полагает Франсуа Робинн, это яркий пример полиэтнической инклюзивности[647].
Неспособность отдельного признака или комплекса особенностей обрисовать четкую границу вокруг «племени» находит свое отражение в растерянности тех, кому было поручено создать классификацию народов, подобную линнеевской. Соответственно, колониальные чиновники, столкнувшиеся с разнообразием горного района Нага (сегодня это бирмано-индийская граница), отчаянно стремились «придать хоть какую-то осмысленность тому этнографическому хаосу, что наблюдали вокруг себя: сотни, если не тысячи мелких деревень казались довольно похожими друг на друга, но в то же время были очень разными, не всегда обладали общими обычаями, элементами политической системы, искусством или даже языком»[648]. Путаница была уникальной и дважды двусмысленной. Во-первых, любой конкретный признак обычно имел протяженный характер и иногда представлял собой неразрывный континуум по мере продвижения от одной деревни или группы к другой. В силу отсутствия резких, скачкообразных изменений в ритуальных практиках, верхней одежде, строительных стилях и даже языке любые демаркационные границы носили в горах произвольный характер. Во-вторых, если кому-то на самом деле удавалось тщательнейшим образом изучить и зафиксировать малейшие колебания признака, а затем добросовестно установить его пределы, то возникала другая почти неразрешимая проблема. Границы признаков А, В и О невозможно было обозначить: каждый из них порождал особую демаркационную линию, свою собственную классификацию «этнических групп». Третья и самая фатальная сложность заключалась в том, что ни одна попытка классификации этнических групп на основе некоего набора характеристик по определению не совпадала с феноменологической трактовкой племенных народов, чьи жизненные миры подвергались систематизации. Классификации колониальных этнографов утверждали, что народы различаются по признаку А, но сами эти народы заявляли, что их своеобразие определяется чертой В, и так было всегда. Разве можно было не принимать во внимание это расхождение? Но если даже созданные классификации каким-то чудесным образом выдерживали все эти удары, четвертая сложность, временная, несомненно, оказывалась для них смертельной. Тот, кто обладает хоть каким-то пониманием сути исторических изменений, знает, что рассуждаем мы в координатах модели признаков или самоидентификации: в любом случае А не так давно было В и, что выглядит весьма угрожающе, явно находится в процессе преобразования в О. Соответственно, возникает вопрос: каким образом этнической группе/племени удавалось быть столь радикально нестабильной во времени, но при этом осознавать себя как единый народ?
Исключительная подвижность идентичностей вряд ли должна вызывать бурное удивление по крайней мере по одной причине. Вомия является и всегда была тем, что можно назвать «осколочной зоной» государственного строительства, весьма похожей на Кавказ и Балканы. На протяжении двух последних тысячелетий ее постепенно, волна за волной, заселяли народы, отступавшие и бежавшие из государственных центров — от вторжений, набегов работорговцев, эпидемий и барщины. Здесь, в этой зоне спасения, они сливались с горными народами, которые проживали в географических условиях такой сложности и относительной изоляции, что они порождали смешение диалектов, обычаев и идентичностей. Огромное разнообразие хозяйственных практик, логика формирования которых в значительной степени определялась высотностью проживания, только усугубляло этот этнографический хаос. Добавьте сюда миграции населения внутри горных районов вследствие работорговли, набегов, смешанных браков и поглощений — и проблема многократно усугубится, позволяя понять причины возникновения того лоскутного одеяла из разнообразных народов и культур, сводившего с ума колонизаторов. Вывод, к которому пришли Джеффри Веньямин и Синтия Чу, исследовав аналогичное социокультурное смешение на Малайском полуострове, применим и к Вомии: «Слияние генов, идей и языков было столь интенсивным и разнонаправленным, что делало тщетной любую попытку разграничить „народы“ посредством обнаружения характерного лишь для каждого конкретного из них набора географических, лингвистических, биологических и культурно-исторических особенностей»[649]. Эта идея, подрывающая основы любой работы по систематизации, казалось бы, ставит нас в тупик. Согласно ей, очевидно, просто не существует никаких «племен» в полном смысле этого слова, раз невозможна объективная генеалогическая, генетическая, лингвистическая или культурная формула, сообразно которой можно было бы однозначно отличить одно «племя» от другого. Но мы можем пойти другим путем и задать вопрос: а кто, собственно, сбит с толку и испытывает замешательство? Могут быть озадачены историки и колониальные этнографы. Непонятные деревни на севере Бирмы были «проклятием для аккуратных бюрократов-чиновников», которые вплоть до последнего вздоха империи безуспешно пытались прочертить четкие административные границы между начинами и шанами[650]. Горные же народы никаких затруднений не испытывали — они без малейших сомнений знали, кем являются, а кем нет! Не разделяя маниакальной страсти исследователей и чиновников к взаимоисключающим и исчерпывающим категоризациям, горные народы не впадали в ступор от множественности идентичностей и их временной изменчивости. Наоборот, как мы увидим далее, для них неоднозначность и внутренняя разнородность идентичностей была важным политическим ресурсом.
Безусловно, в жизненном опыте горных народов можно обнаружить «племена» в традиционном понимании этого слова. Идентифицирующие себя как каренов, качинов, хмонгов и др. народы боролись и умирали во имя идентичностей, которые для них имели древнюю и непрерывную историю, хотя, вероятно, их убеждения не выдерживают никакой критики. Подобные мощные идентификации — не менее вымышленные и сконструированные, чем большинство национальных идентичностей современного мира.
Единственная жизнеспособная аналитическая перспектива — воспринимать подобные самоидентификации как точку отсчета. Как было предложено почти сорок лет назад, нам следует рассматривать племенные различия как «по сути своей политически обусловленные». В заданном контексте этническая идентичность — политический проект. Анализируя ситуацию, когда, как отмечает Майкл Мёрман, горные народы Таиланда — карены, тай, лава, палаунги и тьин — оказывались в экологических условиях, которые допускали возможность выбора «основополагающих компонентов и символов этнической принадлежности, [таких как] религия и тип сельского хозяйства, как и других элементов — диалектов, пищевого рациона и манеры одеваться», нам остается ответить на ключевой вопрос: по каким соображениям они делали этот выбор[651].
Предлагаемая и разрабатываемая мной концепция явно укладывается в рамки радикального конструктивизма: я утверждаю, что этнические идентичности в горах мотивированы политически и предназначены для позиционирования одних групп в противовес другим в конкурентной борьбе за власть и ресурсы. В мире, заполненном множеством акторов, большинство из которых, как современные государства, намного сильнее, чем горные народы, свобода изобретательства и маневра жестко ограничена. Поэтому можно сказать, перефразируя Маркса, что горные народы создавали идентичности в заданных, а не выбранных ими обстоятельствах. Рассматриваемое позиционирование ориентировано прежде всего на равнинные государства и другие горные народы — в этом состоит основная функция горных идентичностей. Те, кто в течение многих столетий мигрировал в Вомию, фактически отказывались ассимилироваться в равнинных государствах в качестве крестьян. Перемещаясь в горы, они пополняли ряды населения, которое никогда не было или же очень давно отказалось быть частью государственных образований в долинах. Прибывающим в Вомию, по сути, приходилось делать выбор между безгосударственностью и поглощением. Безусловно, в рамках каждой альтернативы было несколько градаций. Данная концептуальная модель была убедительно обоснована Хьёрлифуром Йонссоном в его важнейшем исследовании мьенов на севере Таиланда, где он описывает, как «народы перемещались между категориями „подданные государства“ и „не подчиняющиеся ему лесные жители“, а также изменяли свой статус автономного населения гор в двух направлениях — попадая в зависимость от государства или же покидая деревни, чтобы в небольших группах вести жизнь собирателей. Это вновь возвращает нас к широко распространенным практикам преобразований социального ландшафта и перемещений людей между категориями благодаря вступлению и выходу из определенных отношений и постоянным изменениям параметров собственных идентичностей, сообществ и историй»[652]. О этой точки зрения то, что чиновники империй и переписчики воспринимали как сводящую с ума и невыносимую неразбериху, следует рассматривать как свидетельство целенаправленного использования повседневных жизненных практик, социальных структур и идентичностей для самопозиционирования по отношению к равнинным государствам.
Этническая и «племенная» идентичность в XIX веке и на протяжении почти всего XX столетия ассоциировалась с национализмом и стремлением к государственности, которое часто оставалось нереализованным. И сегодня абсолютная институциональная гегемония национального государства в политической сфере подталкивает многие этнические группы в Вомии к отстаиванию своих прав на собственную национальную государственность. Новшеством, привнесенным в длинную историю человечества горными народами, стало то, что их этнические и племенные идентичности были призваны обеспечивать не только автономию, но и безгосударственность. Парадокс «антигосударственного национализма», если можно так выразиться, как правило, совершенно упускается из виду. Но именно он был весьма и даже самым распространенным фундаментом самоидентификации вплоть до начала XIX века, когда впервые идея жизни за пределами государств превратилась в неосуществимую мечту. Э. Дж. Хобсбаум в своем проницательном анализе национализма принял все это к сведению: «Именно те народы, что обладали самым сильным и прочным чувством „племени“, не просто оказывали сопротивление навязываемому им извне государству современного типа, национальному или какому-то иному, но очень часто не желали принимать государство как таковое. Примеры легко приходят на ум: пуштуязычные народы в Афганистане и сопредельных странах, шотландские горцы до 1745 года, берберы Атласа и т. д.»[653]
Иные самые значимые примеры, сразу всплывающие в памяти, — конечно, бесчисленные горные народы Вомии, которые избегали всех форм государственности в течение более чем тысячелетия. Вероятно, потому что они сражались и скрывались под таким количеством имен, в столь различных направлениях и противостоя столь многочисленным государствам, традиционным, колониальным и современным, их борьба не обрела единого обозначения, по которому ее легко можно было бы идентифицировать.
Создание государства как космополитический процесс
Основатели первых рисовых государств вынуждены были искать себе подданных на сопредельных и прежде безгосударственных территориях. Если же государство, что весьма часто случалось, распадалось, то государственные деятели вновь сталкивались с необходимостью набирать подданных на осколках прежней государственности, совершая набеги на другие государства или же поглощая безгосударственные горные народы. Ранние теории «волновой» миграции утверждали, что огромное число бирманцев и тайцев обрушилось с севера на аллювиальные долины, пригодные для поливного рисоводства, подчинив или согнав с них прежних обитателей. Эта концепция, сегодня раскритикованная за отсутствие доказательной базы, неявно предполагает, что бирманцы и тайцы пришли в эти районы как организованные сообщества, состоящие из правителей и подданных, чтобы основать здесь свои государства в качестве завоевателей. Но гораздо более вероятной выглядит иная версия событий, согласно которой бирманцы и тайцы представляли собой искусную в военном и политическом отношении элиту, обладавшую навыками организации и контроля центра рисового государства. Соответственно, своих подданных они собирали с окружающих безгосударственных гор и создавали с их помощью центр политической власти, который мы назвали рисовым государством. Если мы рассмотрим этот процесс в длительной исторической перспективе, то окажется, что большинство тех, кого мы сегодня считаем шанами, в прошлом были горными жителями, которые с течением времени были полностью поглощены шанским равнинным государством. Те, кто сегодня называют себя бирманцами, являются потомками — нынешними или в далеком прошлом — небирманского населения как гор, так и долин (шанов, качинов, монов, кхмеров, пиу, чинов, каренов и т. д.). Большая часть тайцев точно таким же образом прежде были горными жителями, а в отдаленной исторической перспективе и сама «ханьскость» должна восприниматься как самый успешный долгосрочный государственный проект собирания подданных. Потребность первых государств в рабочей силе была столь высока, что ни одно из них не могло позволить себе разборчивость в выборе средств заполучения подданных.
Наиболее тщательно изученная и продуманная модель подобного собирания населения представлена в работах, посвященных малайским морским торговым центрам — негери (negeri), в значительной степени благодаря тому, что европейцы начали описывать таковые еще до начала XVI столетия. Задуманные как «промежуточные» города-государства между горными собирателями и международным рынком и стремящиеся защищать свое стратегическое местоположение, негери наращивали демографический потенциал одновременно и принуждая, и соблазняя коммерческими выгодами. Их экспедиции за рабами широкой сетью охватили огромное пространство, и захваченные пленники пополняли ряды жителей негери. Формула окончательного превращения в гражданина морского города-государства была предельно проста: стать вассалом малайского правителя, принять ислам и говорить на малайском — языке торговли на архипелаге. Принадлежность к негери имела не столько этническое, сколько политическое содержание — превращение в члена государства. Превратности торговли и набегов привели к тому, что каждый малайский торговый город-государство обрел особый социокультурный облик, отражавший свойственное лишь ему смешение поглощенных в течение длительного времени народов: минангкабау, батаков, бугисов, ачехов, яванцев, индийских и арабских торговцев и т. д. В свои самые успешные годы негери, например Малакка, притягивали торговцев из очень отдаленных регионов, конкурируя даже с Венецией. Однако чрезмерная зависимость от капризной внешней торговли определяла и исключительную хрупкость негери.
Небольшие тайские и шанские муанги (города-государства), хотя и в меньшей степени зависевшие от торговой удачи, во многих отношениях напоминали негери[654]. Они постоянно соперничали с соседними муангами и более крупными государствами в борьбе за рабочую силу. Они также захватывали или привлекали подданных, невзирая на их происхождение. Они также представляли собой жестко стратифицированные социальные структуры, но поощряли высокую социальную мобильность. Условием полного членства в подобных политических образованиях было исповедание буддизма Тхеравады — одной из универсальных религий, выращивание поливного риса, вассальная верность тайскому правителю и умение говорить на местном тайском наречии.
Карликовые тайские и шанские княжества возникали повсеместно на территориях, протянувшихся с севера Вьетнама через Вомию к северо-востоку Индии. Они были столь многочисленны и малы, что представляют собой прекрасный объект для внимательного наблюдения за большинством процессов, протекавших в рисовых государствах и в исторической перспективе характеризовавших бирманские, тайские (самые успешные из них!) и даже ханьские государства.
Редкий историк или этнограф не отметил, что множество, а иногда и большинство простого люда в тайских и шанских государствах не были, как выражается Лич, «потомками горных племен, которые в недавнем прошлом ассимилировались в утонченных форматах жизни буддийско-шанской культуры»[655]. Жорж Кондоминас существенно позже отмечал, что «особенно в Шанских штатах и тайских княжествах основную массу населения по-прежнему составляли нетайцы»[656]. Благодаря открытости муангов жившее в них нетайское население могло использовать родной язык наравне с тайским и придерживаться собственных обычаев.
Сочетание рабства с текучей социальной мобильностью, а также процессы, превращавшие бывшие горные народы в живущих в долинах шанцев и тайцев (или бирманцев и тайцев), привели к тому, что историки стали тщательно разводить эти формы зависимости и их аналоги в Новом Свете[657]. Лич приводит типичный пример превращения в подданного государства через порабощение. Качины, будь то отдельные люди или группы, поступали на службу к шанам как работники или солдаты, в качестве вознаграждения получая право брать в жены шанских женщин. Переселяясь в долину и принимая ритуалы своего нового местожительства (признавая почитаемых шанской женой местных духов-покровителей или натов), качин прерывал связи со своими качинскими родственниками и оказывался на нижних ступенях шанской системы социальной стратификации. Шанские обозначения качинов обычно включали в себя префикс «кха» (kha), обозначавший крепостного, и Лич полагает, что «практически все низшие классы шанского общества» в качинских горах состояли из «рабов [пленников] или простолюдинов качинского происхождения»[658]. Несколько расширяя временные рамки анализа, Кондоминас приходит к выводу, что бывшие горные народы, поглощавшиеся тайскими государствами в качестве рабов, вскоре становились простолюдинами наравне с тайцами. Если же в ходе борьбы за власть кому-то из качинов удавалось ее захватить, то он получал благородное тайское имя, а его генеалогия переписывалась таким образом, чтобы его происхождение соответствовало его политическому влиянию[659]. Таким образом, вопреки тайской пословице, «Кха [крепостной] так же отличается от обезьяны, как таец — от кха», формулы обретения статуса подданного, принятые в тайских городах-государствах, отличавшихся острой конкуренцией во внутренней политике, старательно избегали требований, которые могли бы повлечь за собой отток населения.
Впрочем, общепринятая практика набегов и рабства порождала и исключительно быстрые трансформации государств. Посетитель Чиангмая в 1836 году описал шанского вождя, у которого было двадцать восемь жен, взятых в плен, причем его подчиненные тоже захватывали женщин. Учитывая, что большинство жен были родом из иных этносов и государств, как отмечает Дж. Дж. Скотт, «внешний облик местных жителей мог полностью измениться всего за несколько поколений, как и язык, потому что именно матери учат детей говорить». Он добавляет, что на протяжении многих лет среди шанов было принято, чтобы их вожди брали себе жен из «китайского, бирманского, каренского или качинского населения, иногда захватывая их в плен, иногда покупая, а иногда получая в качестве подарка. Нередко подобные союзы преобладали; в результате собва оказывались совершенно иной этнической принадлежности, чем большинство их подданных»[660].
Иной путь к «шанскости» или «тайскости», то есть к иерархии и государственности, имел более массовый характер. Успешный качинский вождь мог превратить свое эгалитарное царство, «открытое для статусных перемещений», в карликовое государство по шанскому образцу. Большая часть классического труда Лича посвящена этой теме. Как правило, такая стратегия предполагала, что сильный качинский правитель брал в жены женщину из аристократического шанского рода. Этот брак, по сути, за ночь превращал качинского вождя в шанского князя и в то же время запрещал ему отдавать своих родственниц в жены представителям качинских родов, чтобы не ставить под сомнение свой княжеский статус. Запрет не позволял поддерживающим князя качинским родам обрести высокий статус посредством заключения договорных браков по его (главным образом) линии. У качинских сторонников князя был выбор: принять происходящие изменения и фактически превратиться в простых шанов; поднять восстание, убить или изгнать вождя; покинуть поселение и основать новое. Лич блистательно описывает все три варианта и логику действий[661]. Когда бы качинский вождь ни обнаруживал способность регулярно собирать дань с торговцев и жителей равнин, он пытался утвердиться как мелкий шанский собва, хотя и не всегда успешно.
Совершенно ясно, что процесс формирования карликовых государств и превращения горных народов в равнинных жителей мог быть легко обращен вспять. Тайские/шанские мелкие княжества, как и более крупные рисовые государства, были подвержены распаду под воздействием вторжений, голода, тиранического правления, набегов и гражданских войн за право наследовать власть. Что происходило с населением, рассеивавшимся после краха шанского государства? Многие, как следует из имеющихся свидетельств, перемещались в самые гостеприимные из близлежащих шанских государств. Другие, особенно «недавно бывшие» качинами и лису, должно быть, возвращались в горы, возобновляя прежние занятия подсечно-огневым земледелием и вновь обретая исходную идентичность. Вероятно, это был относительно легкий и общеизвестный вариант поведения, который не мешал вернуться обратно в центр рисового государства, когда это становилось безопасным. Соответственно, имеет смысл рассматривать подобные этнические трансформации, по крайней мере до начала XX века, как способные осуществляться в обоих направлениях, а этнические идентичности — как двойственные и подвижные.
Для огромного числа горных народов Юго-Восточной Азии пространственно самой близкой из доступных идентичностей равнинных государств была та, что сформировалась в тайских муангах, — своеобразная «низкоцерковная» версия иных, более территориально удаленных, «высоких» моделей, принятых при ханьских, бирманских и тайских королевских дворах. Успешные равнинные государства привлекали качинов, лису, акха, ва, кхму, луе, мьенов и многие другие горные народы своей идентичностью, которая, вполне ожидаемо, была менее определенной и постоянной, чем идентичность подданного более крупного государства. У некоторых этнических групп, проживавших на территориях между двумя и более рисовыми государствами, рисков, как и возможностей выбора, было больше. В подобной ситуации оказались карены, особенно пво-карены, окруженные монскими, бирманскими и тайскими рисовыми государствами. Значительная часть бирманского населения в Нижней Бирме, несомненно, имеет монское или каренское происхождение, и существуют убедительные доказательства того, что карены, в культурном и стратегическом отношении занимавшие срединное положение между тремя равнинными государствами, без особых усилий могли менять одну идентичность на другую[662]. Карены одновременно и использовали эту промежуточную позицию в своих интересах, и страдали от нее. Чтобы собирать дань с других горных народов, они похвалялись своей ролью посланников и представителей тайского двора в весьма элегической тональности — «наши правители столь жестоки, а налоги столь высоки, что обвязки наспинных корзин звенят от тяжести грузов, как гитарные струны, когда люди приносят им дань», — но в итоге первыми заплатили за это высокую цену, попав под подозрение как тайская «пятая колонна» в ходе разрушительных бирманских вторжений в Сиам[663].
Если, что вполне ожидаемо, границы группы проницаемы, а ее идентичности подвижны, то можно ожидать, что она изменится со временем, по мере того как одна идентичность будет становиться более предпочтительной, а другая — менее выгодной. Вплоть до недавнего времени, видимо, именно такова была ситуация с чжуанами — говорящей на тайском языке группой, которая сегодня является крупнейшим официально признанным этническим меньшинством Китая. Вероятно, будучи оттеснены, как и другие группы, в горные районы юго-западного Китая в ходе ханьской экспансии, чжуаны считают себя такими же равнинными жителями, как прочие тайцы. Обычно они селятся на небольших высотах, ниже и мяо, и яо, занимающихся подсечно-огневым земледелием. Со временем они заняли, или, точнее, создали культурную нишу, по своим характеристикам промежуточную между ханьцами и более высокогорными народами. Как гласит пословица, «мяо живут на вершине горы; чжуаны — в верховьях реки, а ханьцы — в начале улицы»[664]. Со временем прежде стигматизированные чжуаны придумали себе мифическое ханьское происхождение и стали, по сути, «играть роль ханьцев» по отношению к живущим выше них меньшинствам. Принятая революционным правительством новая модель разграничения национальностей в соответствии со сталинистскими критериями, однако, определяла их в основном по признаку используемого языка как «чжуанов». Сначала это выглядело как новый вариант стигматизации, и большинство якобы чжуанов не соглашалось с данной классификацией, утверждая, что они на самом деле «ханьцы, которые могут говорить по-чжуански». Перепись 1953 года показала, что большая часть говорящих на чжуанском языке не идентифицировала себя как чжуанов. Партия создала чжуанские административные районы вопреки общепринятым народным трактовкам, которые расходились с принятой классификацией.
Однако в рамках новой политики в отношении национальных меньшинств идентификация в качестве «чжуана» предоставила целый ряд важных преимуществ: политические и административные посты, льготы при поступлении в техникумы и высшие учебные заведения, исключения из политики «одного ребенка». Неожиданно финансовые выгоды от официального признания себя чжуаном оказались столь высоки, что более чем компенсировали все возможные стигматизации, а потому новая идентичность укрепила свои позиции. Безусловно, в обыденном понимании «чжуаны-ханьцы» так и остались чжуанами-и-ханьцами, но одна сторона этой двуликой идентичности, официальная, оказалась более выгодной. Новая национальная политика повернула вспять процесс постепенной китаизации «чжуанов».
Трактовка роста равнинных государств как результата особых, различающихся по степени принудительности технологий космополитического собирания народов означает отказ от доминирующего цивилизационного нарратива. Она позволяет скорректировать основанное на этносе восприятие процессов государственного строительства, которое характеризует раннюю историографию и современные национальные истории. Лич пришел к выводу, что шанская культура «не должна рассматриваться как импорт откуда-то извне на эти территории некоего готового к использованию культурного комплекса, как, видимо, считает большинство властных структур. Нет, она изначально росла в течение длительного периода времени на местном фундаменте в результате экономического взаимодействия небольших военных колоний с коренным населением гор»[665]. Практически то же самое можно сказать о бирманских и сиамских доколониальных государствах в наиболее успешные периоды их существования.
Каждое из них разработало свою эффективную модель собирания и удержания населения самого разного лингвистического и культурного происхождения в центре рисовых государств, чтобы сформировать здесь необходимую для государственного строительства концентрированную и продуктивную силу. Как уже было сказано выше, бирманцы и сиамцы воспринимались многочисленным и разнообразным местным населением, которое они затягивали в свои государственные образования, как две тысячи семей норманнских завоевателей — жителями Британии.
Таким образом, бирманские и тайские государства — скорее успешные модели государственного строительства, чем этнические проекты. Во-первых, по-видимому, здесь не происходило массированных полномасштабных вторжений с севера, которые бы уничтожали или вытесняли местное население. Во-вторых, если мы несколько предвзято взглянем на культурный фундамент доколониальных рисовых государств, то он сможет послужить критерием определения государственного пространства, а не маркером этноса. Безусловно, краеугольным камнем становления государственности была сельскохозяйственная технология поливного рисоводства, которая в первую очередь определяла саму возможность возникновения центра рисового государства. Однако она не была исключительно бирманской или тайской технологией, поскольку прежде стала основой формирования царских дворов кхмеров, пиу и монов. Космология и архитектура индийских княжеских дворов, можно сказать, стала идеологической надстройкой божественной монархии и была заимствована ровно для этих целей. Другой импортированный элемент, буддизм Тхеравады, служил тем универсализирующим культом, который вобрал в себя всех «этнических божеств и духов» под властью нового верховного божества, практически так же, как подданные рисового государства концентрировались вокруг царского двора. Местные духи (цаты, пхи) были встроены в божественную иерархию в качестве второстепенных божеств, аналогично тому, как католицизм вобрал в себя языческих богов в статусе святых. Даже языки основателей государств, бирманский и тайский, на уровне письменности (благодаря санскриту через пали) были связаны с легитимирующей космологией буддизма и индийской государственности. То, что считается этническим своеобразием и отличительными чертами шанской, бирманской и тайской культур, на самом деле — базовые инструменты государственного строительства. Иными словами, «государственность» встроена в основания этнической принадлежности. Соответственно, с шанской, бирманской и тайской точек зрения этническая идентификация жителей гор, тех-что-еще-не-собраны-в-государство, базируется именно на их безгосударственности.
Выравнивание равнин
Основополагающее с культурологической точки зрения отличие равнинных царств от гор — поразительная религиозная, лингвистическая, а со временем и этническая однородность населения долин. Хотя исторический процесс собирания подданных был космополитическим по своему характеру, сконцентрированное в центре государства население стало придерживаться общих культурных практик и институтов. Можно было преодолеть сотни миль внутри рисового государства и по-прежнему наблюдать те же религиозные обряды, архитектуру, классовую структуру, формы управления, одежду, языки и ритуалы — они были поразительно похожи во всех уголках государства. И напротив, преодоление весьма небольшого расстояния в горах обещало встречу с пестрой мозаикой языков, ритуалов и идентичностей. По словам Хьёрлифура Йонссона, равнинные системы имели центростремительный характер, тогда как горные — центробежный. Он настаивает, что «резкий контраст между относительно однородными долинами и поразительным разнообразием горных районов» не является результатом множественных миграций — скорее, речь идет о систематически различных социальных последствиях центростремительных тенденций в рамках закрытых социально-стратифицированных систем, с одной стороны, и центробежных внутри открытых — с другой[666].
Это культурное различие определяет специфику гор по отношению к великим равнинным царствам бирманцев, тайцев, ханьцев и вьетнамцев; оно столь же важно для противопоставления шанских государственных образований их горным соседям. Лич обозначил это противоречие на полвека раньше и назвал его вероятную причину:
Горные народы, соседствующие с шанами, удивительно разнообразны по своей культуре; шаны же, учитывая, свое широкое рассеяние и рассредоточенный формат поселений, столь же поразительно однородны. Я утверждаю, что единообразие шанской культуры коррелирует с однообразием шанской политической организации, которая, в свою очередь, в значительной степени обусловлена особенностями экономического положения шанов. Мое историческое предположение заключается в том, что живущие на равнине шаны повсеместно на протяжении столетий ассимилировали своих горных соседей, но неизменные экономические факторы привели к тому, что логика ассимиляции везде была схожей. Сама по себе шанская культура изменилась относительно малово.
Лич полагает, что единообразие мелких шанских княжеств обусловлено тем фактом, что с географической, экономической и политической точек зрения они были миниатюрными государственными пространствами.
Любое шанское государство занимает от шестисот до девятисот квадратных метров в долине или на равнине, «некоторые из них длинные и узкие, другие круглые, как чашка, третьи плоские, как блюдце, четвертые достаточно обширны, чтобы считаться миниатюрной копией долины Иравади»[667]. Как и более крупные долины, каждая из этих территорий была пригодна для выращивания поливного риса, поэтому шанскость стала синонимом рисоводства. Концентрация населения и зерна в небольшой центральной зоне определила возможность формирования государства в соответствующих масштабах. Однако рисоводство имело и другие решающие социальные последствия. Сильная зависимость от одной сельскохозяйственной культуры, характерная для крупных долин, определяла повседневную деятельность и социальную организацию большей части населения. Каждое домохозяйство высаживало, пересаживало, пропалывало и собирало урожай одной и той же культуры практически в одно и то же время и во многом схожим образом. Координация водопользования требовала определенного уровня институционализированного сотрудничества и урегулирования споров. Сельскохозяйственное единообразие, в свою очередь, способствовало единообразию ритуальных практик, связанных как с самим рисом, так и со сбором урожая и контролем воды. Занятое выращиванием риса общество меняло и свою материальную культуру: режим питания, кухню, сельскохозяйственные орудия, рабочий скот, бытовую архитектуру и т. д.[668]
Оседлое поливное рисоводство также определяет формирование систем земельной собственности и наследования, способствующих возникновению социально-классовых различий. Само по себе неравенство не является характеристикой, отличающей равнины от гор. Статусные различия и неравенство в изобилии представлены и в горах, но там, в отличие от таковых в рисовых государствах, они обязательно обусловлены наследованием собственности и, в случае необходимости, принуждением со стороны пребывающей в зачаточном состоянии власти. Уравнивающее воздействие общих сельскохозяйственных технологий и классовой системы часто прерывалось восстаниями, которые обычно возрождали прежний социальный порядок, но теперь под контролем новых правителей. Единственной структурной альтернативой был переход к системе общественной собственности и социальной стратификации открытого типа в горах.
Внутренняя социальная и культурная однородность равнинных государств также была признаком политического контроля, возможного в зоне поливного рисоводства с низким сопротивлением ландшафта. Она допускала создание и сохранение общего институционального порядка и плотных торговых и обменных сетей, обеспечивающих культурную интеграцию. Намного проще управлять подобным географическим пространством, чем неоднородной горной местностью. Поскольку они выполняли фактически те же функции, что и в великих равнинных государствах, пусть и в миниатюрном масштабе, шанские княжеские дворцы, ритуалы и космология представляли собой провинциальные подражания дворцам, ритуалам и космологии Авы, Амарапуры и Мандалая.
Процесс социокультурного выравнивания долин по всей Юго-Восточной Азии, как полагает Виктор Либерман, значительно ускорился благодаря нарастанию государственной централизации в период с 1600 по 1840 год. Сочетание подражательного государственного строительства по западным моделям с ростом доходов от международной торговли позволило материковым государствам искоренить религиозное инакомыслие, создать более однородную и эффективную систему налогообложения и управления и усилить экономическую интеграцию и милитаризацию на всей своей территории[669]. Успехи в производстве огнестрельного оружия, в военной организации, землеустройстве, введении систем учета и распространении письменности обеспечили, хотя и в более скромных масштабах, тот же эффект сокращения расстояний, что и железные дороги, паровая энергия и телеграф позже, в XIX веке. В то время как равнинные государства старательно производили все более однотипных бирманцев, сиамцев, вьетнамцев и шанов, горы продолжали наращивать разнообразие, формируя все новые идентичности.
Идентичности: проницаемость, множественность, подвижность
Большинство горных народов в материковой части Юго-Восточной Азии до начала колониального периода и настойчивых попыток колониальных властей их классифицировать не обладали тем, что мы могли бы назвать «правильной» этнической идентичностью. Часто они называли себя по месту жительства — люди долины X, народ бассейна реки Т, по родовой группе или происхождению. И несомненно, их самоопределение зависело от того, кому именно о нем сообщалось. Многие самоназвания имели относительный характер — жители «нагорий», народ «западного хребта», — а потому обладали смыслом лишь как составные элементы множества возможных обозначений. Существовали и экзонимы, использовавшиеся в отношении народа чужаками, как это часто случалось с мяо, но они утрачивали значение вне конкретного контекста своего применения. Что еще больше запутывало ситуацию, так это множественность идентичностей: многие горные народы имели в своем распоряжении целый набор идентичностей, которые применялись в разных ситуациях. «Репертуар» мог меняться: «Этническая идентичность и языковые особенности в материковой части Юго-Восточной Азии, как правило, были подвижны. Группа могла поменять и то и другое за относительно короткий период времени в результате близких контактов с другими народами»[670]. Определенная пластичность идентичностей была встроена в саму систему властных отношений в доколониальный период. Многие равнинные и горные народы оказывались меж двух и более центров политической власти, чье то возрастающее, то снижающееся влияние определяло их жизненный мир. До начала современного этапа государственного строительства и характерных для него практик территориального управления и взаимоисключающих суверенитетов и определений национальностей неоднозначность этнической идентичности оставалась обычным явлением.
Подвижные идентичности также были особенностью систем социальной стратификации, в которых обладатели более низких статусов стремились подражать людям с более высоким статусом или по крайней мере оказаться в их окружении. Изучая тайские территории на севере Вьетнама, Грант Эванс отметил двойственность идентичностей и способов их использования[671]. Так, низкостатусная группа синг мун, которую черные тайцы считали своими крепостными, говорила, помимо своего родного языка, на тайском, имела, наряду с собственными «этническими», тайские имена и в целом подражала тайцам. В свою очередь черные тайцы в прошлом скопировали манеру одеваться у вьетнамских мандаринов и пополнили свой язык вьетнамской лексикой, тогда как высокопоставленные белые тайцы пошли еще дальше, заимствовав вьетнамские погребальные ритуалы и ассимилировавшись во вьетнамском обществе посредством смешанных браков. Как показывает Эванс, тайские элиты были культурными амфибиями: они активно подчеркивали тайский компонент своей идентичности, когда осуществляли властные полномочия по отношению к номинально равным и нижестоящим тайцам, и подчеркивали вьетнамскую часть своей идентичности во взаимодействии с вышестоящими. Таким образом, Эванс показывает плюральный характер идентичностей и их систематическое структурирование в соответствии с соображениями власти и престижа. Эта тема детально проработана Йонссоном в исследовании мьенов (яо) Северного Таиланда, отличающихся несколькими регистрами самопрезентации, каждый из которых актуализируется, исходя из стратегических мотивов в конкретном контексте[672].
Совершенно независимо от впавших в замешательство колониальных чиновников и переписчиков позже этнографы и историки Бирмы подтвердили высказанные Личем ранее предположения, что этнические границы изменчивы, проницаемы и в значительной степени искусственно сконструированы. Например, разные наблюдатели могли записать одну и ту же группу как «каренов», «лава» или «тайцев», в зависимости от используемых критериев и целей классификации. Если различные народы в течение длительного времени жили в непосредственной близости, то часто настолько сливались друг с другом, что проведение демаркационных границ между ними превращалось в предприятие столь же насильственное, сколь и бесполезное[673]. И, как уже было отмечено выше, луа/лава, занимающийся подсечно-огневым земледелием, говорящий на мон-кхмерском наречии, исповедующий анимизм народ, настолько хорошо знал тайский язык, поливное рисоводство и буддизм, что не будет преувеличением сказать, что его представители могли убедительно изображать луа в понедельник и столь же достоверно — тайцев во вторник. Приписывать их лишь к одной этнической категории не имеет смысла. Соответственно, корректнее сказать, что X обладает целым диапазоном характеристик и идентичностей, которые могут быть задействованы или продемонстрированы, если того требует ситуация. В данной трактовке этническая идентичность представляет собой репертуар возможных самопрезентаций и контекстов, в которых таковые могут быть осуществлены[674].
Другой способ показать, что у многих социальных акторов имеется целый диапазон или репертуар идентичностей, что и сделал Лич, — признать, что все они фактически занимают одновременно разные статусные позиции в различных социальных системах. Эта ситуация была столь широко распространена, что Ф. К. Лиман утверждал: повсеместно в регионе этническая принадлежность отнюдь не была аскриптивной «данностью» — скорее результатом целенаправленного выбора. «Целые сообщества могли быть поставлены перед необходимостью совершить осознанный выбор — к какой именно группе принадлежать»[675]. Это весьма разумный подход к восприятию плюральных идентичностей, при условии что мы помним о трех обстоятельствах. Во-первых, мощные чужаки, особенно государства, ограничивают имеющийся у большинства социальных акторов выбор идентичностей. Во-вторых, продвижение к одной из множества идентичностей не исключало того, что, если обстоятельства изменятся, оно может быть обращено вспять. Наконец — и это, конечно, самое главное, — мы не должны путать то, что аутсайдер воспринимал как знаменательную смену идентичностей, с повседневным жизненным опытом социальных акторов. В этой связи Лич отмечает, что сообщества «качинов», как эгалитарные, так и стратифицированные, и шанов имели схожий ритуальный язык, хотя интерпретировали его по-разному. Когда экономически удачно расположенное небольшое качинское государственное образование становилось частью шанского муанга, внешнему наблюдателю могло казаться, что качины превращались в шанов. Это верно, но для самих социальных акторов «изменения были едва заметны. Отав „культурным“, индивид просто придавал шанские значения тем ритуальным актам, что прежде имели лишь качинские смыслы». Только внешний наблюдатель «был склонен считать, что изменения в культуре и социальной организации группы должны были иметь чрезвычайную для нее важность»[676].
Безусловно, что-то не так с аналитической трактовкой изменений идентичности, если она столь разительно отличается от жизненного опыта реальных социальных акторов. Я убежден, что этнические трансформации можно определять иначе, с большим соответствием повседневному пониманию местных сообществ. Если мы предположим, что многие горные народы обладали целым репертуаром множественных идентичностей, то из этого следует, как мы уже увидели, что разные элементы этого репертуара будут актуализироваться под влиянием конкретного социального контекста. Иными словами, представляемая окружающим идентичность ситуационно детерминирована. Окажем, человек с широким карено-тайским репертуаром идентичностей будет одеваться, разговаривать и вести себя совершенно по-разному на тайском рынке и на празднике в каренской деревне. Нет ни малейших оснований считать некую часть этого репертуара более подлинной или «настоящей», чем любую другую. Соответственно, в значительной степени репрезентируемая или задействованная идентичность является функцией относительной распространенности того социального контекста, в каком считается подходящей. Если, скажем, уже упомянутый карен-таец переедет в равнинное поселение, где проживают в основном тайцы, и начнет заниматься поливным рисоводством, то частота его попадания в социокультурный контекст, требующий тайской идентичности, существенно возрастет, и тайский компонент в его идентификационном репертуаре станет преобладающим. То, что для внешнего наблюдателя будет выглядеть как трансформация этнической идентичности, на самом деле является не чем иным, как изменением относительной частоты предъявления окружающим тайского компонента из репертуара идентичностей. Это изменение могло происходить и постепенно, но в любом случае не предполагало знакового субъективного ощущения вытеснения или утраты.
Исторические взаимоотношения монов и бирманцев, двух равнинных рисоводческих народов, не только являются яркой иллюстрацией существования набора исполняемых идентичностей, но и подтверждают стратегическую важность обладания таковым. В начале XVIII века бирманцы и моны, превосходившие их по численности, вместе жили в дельте Иравади. Их основные различия были связаны с нанесением знаков на тело (бирманцы были татуированы ниже пояса), прическами (моны стригли волосы на лбу кружком, а бирманцы собирали длинные волосы в высокий узел), одеждой и языком. Смена идентичности требовала учитывать эти кодификации, и в тех районах дельты реки, где моны и бирманцы жили бок о бок и говорили на двух языках, происходила сравнительно легко. По мере усиления политического влияния Авы возрастала и численность населения, усваивавшего бирманские социокультурные коды — говорившего на бирманском языке и татуировавшего бедра. Когда стали укрепляться позиции Пегу, бирманцы, попавшие в зону его влияния, отрезали свои длинные волосы, собранные в узлы, и стали говорить на монском. Независимые муниципалитеты, номинально данники Авы или Пегу, забыли о своей прежней лояльности. Хотя было ясно, что сам по себе конфликт послужил кристаллизации и политизации определенных культурных маркеров, которые позже стали восприниматься как этнические, он явно не был вызван этническими причинами.
На этом примере хорошо просматривается адаптивная ценность определенных идентичностей[677]. Способность представить себя, как того требовали обстоятельства, то бирманцем, то моном, должно быть, оказалась спасением для многих очевидцев и захваченных в плен бойцов в войнах между Пегу и Авой. Велик соблазн увидеть в этом «смешанном портфеле» идентичностей культурный страховой полис, социальный комплекс для побега. Как хамелеон меняет цвет, чтобы слиться с фоном, так и неоднозначная и легко трансформирующаяся идентичность обладает огромным защитным потенциалом и потому может активно развиваться теми группами, для кого определенная, четкая идентичность смертельно опасна. Как и «медузообразность» описанных ранее племен, подобная пластичность отнюдь не гарантирует чужакам легкого институционального доступа в группу.
Радикальный конструктивизм: племена умерли — да здравствуют племена
«Племена» в строгом смысле этого слова не существовали никогда. Под «строгим смыслом» я имею в виду трактовку племен как особых, целостных социальных единиц с четкими границами. Если в качестве критериев отнесения к «племени» используются такие, что рассматриваемая группа на протяжении поколений должна быть генеалогически и генетически единой кровнородственной общностью, особым лингвистическим сообществом, единой политической единицей с четкими границами и при этом отличаться культурным своеобразием и однородностью, то тогда практически ни одно «племя» таковым считаться не может[678]. Как уже было отмечено ранее, имеющиеся в распоряжении группы культурные практики, формы социальной интеграции, языки и экологические ниши редко предполагают резкий переход из одного состояния в другое, а если это происходит, то изменения одного параметра почти никогда не накладываются на остальные. Кроме того, племя, как некогда считалось, не является этапом некоей эволюционной последовательности вида «группа — племя — племя под управлением верховного вождя — государство» или, в другом варианте, «родоплеменной строй — рабство — феодализм — капитализм».
Государства и империи основывались народами, которые традиционно воспринимались как племена — племена Чингисхана, Карла Великого, Османа, маньчжуров. И все же гораздо правильнее считать, что государства создают племена, а не племена — государства.
Племена представляют собой «вторичную форму» и возникают двумя способами только при условии наличия государства или империи. Антонимом или парой «племени» является «крестьянство». Различие между ними, естественно, состоит в том, что крестьянин — это земледелец, полностью инкорпорированный в государство в качестве подданного. Племена или дикари — те периферийные для государства субъекты, которые (пока?) не подчинены ему полностью, и/или те, кто предпочел от него скрыться. Колониальные империи и современные государства оказались наиболее плодовитыми создателями племен, однако формирование племенной периферии было свойственно и таким более ранним образованиям, как Римская империя и китайская династия Тан, и даже небольшим малайским торговым государствам.
«Племена» можно назвать «модулем управления». Придумывание племен было инструментом классификации и, если это было возможно, управления не- или еще-не-крестьянами. Как только племя и племенная территория были обозначены государством, их можно было использовать как источник дани и рабочей силы, как административную единицу, в которую можно назначить признаваемого всеми вождя, ответственного за ее поведение, и как военную зону для кампаний по умиротворению. По крайней мере, пусть и весьма произвольно, но изобретение племен в целях бюрократического учета давало названия народам и их предполагаемым местоположениям там, где в противном случае преобладала бы неразличимая масса поселений и сообществ без социальной структуры.
Государства и империи создавали племена именно для того, чтобы внести элемент упорядоченности в ту текучесть и бесформенность, которые характеризуют повседневные социальные отношения. Это верно, что существуют простонародные разграничения, скажем, подсечно-огневых земледельцев и собирателей, населения приморских и внутренних районов, зерновых земледельцев и садоводов. Подобные различия, однако, пересекались со многими другими — языковыми, ритуальными, историческими; кроме того, как правило, они скорее представляли собой градации признака, чем его резко противоположные полюса, а потому редко формировали фундамент политической власти. Фактически произвольность изобретения племен не считалась и не была значимой проблемой: его задачей было административным путем положить конец текучести повседневности, принудительно вычленив в ней единицы для управления и ведения переговоров. Так, римляне настойчиво вводили территориальный принцип управления поименованными варварами посредством вождей, которые несли ответственность за их поведение. Четкая бюрократическая модель была необходима, «потому что социальные связи и внутренняя политика варваров были слишком изменчивы»[679]. Власти не заботил вопрос, имели ли принимаемые обозначения племен смысл для коренного населения. На закате имперской истории Китая и в ее республиканский период на юго-западной границе страны названия подгрупп мятежных «мяо» обычно представляли собой произвольные наименования, весьма условно учитывавшие особенности женской одежды и никак не соотносившееся с принятыми местными жителями категориями самоидентификации[680].
Колониальные власти также столкнулись с «анархией» народных самообозначений и разрешили эту проблему, введя своими указами административные «племена», столь же произвольные, как и прежде. Призвав на помощь этнографов и детерминистские теории социальной эволюции, французы во Вьетнаме не только четко разграничили племена, которые очень смутно различали, и назначили им вождей, посредством которых планировали этими племенами управлять, но и разместили таким образом маркированные народы на шкале социальной эволюции[681]. Голландцы осуществили схожий административный алхимический процесс в Индонезии, выделив отдельные традиции в рамках обычного права (адата) коренного населения, кодифицировав их и использовав в качестве фундамента косвенного управления посредством назначаемых вождей. Как утверждает Танья Ли, «понятие „регулируемая адатом община“ подразумевало то, что, собственно, и стремились получить колониальные власти, — сельское население, разбитое на поименованные этнические группы с „традициями“, достаточно стабильными… чтобы служить основанием для определения групповой идентичности и формирования централизованных политических структур во главе с признанными вождями»[682].
Описанная технология управления единовременно ввела новые и четкие идентичности и тип универсального, иерархического, основанного на институте вождей порядка. Не обладавшие верховной властью эгалитарные народы без вождей или какого бы то ни было подобия политического порядка, выходящего за пределы деревушки или рода, не вписывались в это новое социальное устройство[683]. Волей-неволей, в приказном порядке они заталкивались в этот мир верховных руководителей — нравилось им это или нет. У народов, чья повседневная жизнь носила эгалитарный характер, отсутствовали институциональные рычаги, посредством которых ими можно было управлять, а потому их необходимо было создать и, если того требовали обстоятельства, насильственно. В тех районах, что стали известны как Шанские штаты Восточной Бирмы, британцы столкнулись с населением, половина которого не имела институтов верховной власти и отличалась эгалитарной социальной структурой (гумлао качинов, лаху, пао, падаунгов, кая).
В поисках иерархических институтов, которые обеспечили бы политический фундамент косвенного управления, британцы, естественно, решили положиться на примерно сорок шанских собва, которые больше в теории, чем на практике контролировали свои наследственные владения. Хотя этот выбор порождал сопротивление сразу и в последующие периоды, это был единственный институциональный рычаг управления, доступный британцам.
Несмотря на то что племя было искусственным изобретением, оно зажило собственной жизнью. Социальная единица, созданная лишь как политическая структура управления, стала частью языка политических споров и самоутверждения в конкурентной борьбе; общепризнанным способом заявлять свои права на автономию, ресурсы, землю, торговые маршруты и любые другие ценные объекты, обладание которыми предполагает схожие с государственными притязания на суверенитет. Общепринятым языком для выдвижения требований внутри государства была апелляция к классовой принадлежности или правам собственности — крестьянства, купечества, духовенства. Аналогичную функцию за пределами государства выполняли отсылки к племенным идентичностям и особым правам. Нигде больше это не было столь очевидно, как в колониях белых поселенцев в Северной Америке. Как справедливо отметил Альфред Крёбер, «чем больше мы узнаем об аборигенном населении Америки, тем меньше уверены в прежде казавшихся неизменными явлениях, которые соответствовали нашей обычной трактовке племени; и во все возрастающей степени само это понятие предстает творением белого человека, созданным для удобства разговора об индейцах, переговоров с ними, управления ими — и, наконец, навязанным их мышлению под нашим давлением… возможно, пришло время оценить, не является ли груз этой искусственной конструкции непомерным»[684].
В своем втором, дополнительном значении племена — как обладающие названием и осознающие собственную идентичность группы — безусловно, существуют. Впрочем, и в этом случае скорее не в реальном мире, а как искусная творческая конструкция — политический проект, осуществляемый во взаимодействии и конкурентной борьбе с другими «племенами» и государствами. Демаркационные линии здесь произвольны изначально и по определению, если принимать во внимание исключительное разнообразие этнографических различий. Политические деятели — как официальные, так и нет, — пытающиеся развести идентичности исходя из культурных особенностей, на самом деле не столько обнаруживают реальные социальные границы, сколько выбирают одну из множества культурных характеристик для обоснования групповых различий. Независимо от того, какая именно конкретная особенность подчеркивается (диалект, одежда, еда, хозяйственные практики, предполагаемое происхождение), она позволяет утвердить культурные и этнографические границы, отличающие «нас» от «них». Вот почему изобретение племен — политический проект[685]. Выбор критериев для разграничения групп всегда стратегически обусловлен, поскольку именно он структурирует все групповые различия тем или иным образом и выступает политическим инструментом формирования групповых идентичностей. Единственно оправданный способ определения, кто есть X, а кто Т, — признать самоидентификации социальных акторов.
Создание племен
Государства создают племена несколькими способами. Наиболее очевидный из них — формирование племен в качестве основы административного порядка и политического контроля.
Однако поразительно, насколько часто племенная и этническая идентичность возникает на периферии практически исключительно в целях предъявления политических прав на автономию и/или ресурсы.
Казачество, группа с особой этнической самоидентификацией, возникшей ниоткуда, буквально сотканной из воздуха, если принять во внимание историю ее формирования, — показательный пример для понимания процессов этногенеза в Юго-Восточной Азии. Казаками становились крепостные и другие беглецы со всей европейской части России. Большинство из них в XVI веке переселились в донские степи, «чтобы избежать или укрыться от социальных и политических бед Московской Руси»[686]. Единственное, что их объединяло, — крепостная зависимость и бегство. На просторах внутренних районов России они распались по географическому принципу на целых двадцать два казачьих «войска», расселившись от Сибири и Амура до бассейна Дона и Азовского моря.
На границах страны казаки стали «народом» по причинам, которые в значительной степени связаны с занятыми ими новыми экологическими нишами и используемыми хозяйственными практиками. В зависимости от конкретного региона они селились среди татар, черкесов (чью форму одежды заимствовали) или калмыков (чьи традиции верховой езды и особенности поселений стали использовать). Обилие земель, пригодных одновременно для пастбищ и сельского хозяйства, привело к тому, что новые поселенцы придерживались принципа общественной собственности, в рамках которого каждая семья имела независимый доступ к средствам производства и полную свободу передвижений и выбора места жительства. Этос самостоятельности и эгалитаризма, столь желанных для людей, познавших подневольность, был гарантирован политической экономией приграничных экологических ниш.
На этом этапе казачество представляло собой зеркальное отображение царской России с ее крепостным правом и социальной иерархией. Все три великих крестьянских восстания, потрясших империю, начались на казачьих землях. Здесь, как и в Вомии, безгосударственное приграничье привлекало раскольников, прежде всего так называемых старообрядцев, которые связывали религиозные реформы с крепостным правом[687].
После разгрома Булавинского восстания (1707–1708) автономия казаков стала зависеть от их способности обеспечивать царскую армию полностью экипированной кавалерией. После жестокой военной кампании против казаков, наиболее тесно связанных с Пугачевским восстанием (1773–1774), зачаточные местные демократические собрания были полностью вытеснены титулованной землевладельческой казацкой знатью, которая имела собственных крепостных — в основном с Украины.
Хотя изначально, даже при большом желании и полете фантазии, нельзя было считать казаков единым «народом», сегодня это, наверное, наиболее сплоченное «этническое» меньшинство в России. Следует отметить, что его использование как «военного сословия», аналогично каренским, качинским, чинским и гуркхским рекрутским наборам в Южной и Юго-Восточной Азии, внесло значимый вклад в процесс этногенеза[688], но не было его первопричиной. В качестве изобретенной этнической группы казачество — пример поразительный, но не уникальный. Случаи, когда сообщества беглецов со временем превращались в этнические образования с четкими границами и самосознанием, достаточно распространены. Так, кроме казаков можно привести столь же показательный пример беглых жителей Суринама, которые сформировали целых шесть различных «племен», каждое со своим диалектом, особенностями питания и расселения и брачными традициями[689]. Семинолы Северной Америки и европейские цыгане/рома — другие примеры этнических групп, которые были сплавлены воедино из утративших надежду разрозненных беглецов именно в результате того, что они были преследуемы и оказались в одной экологической и экономической нише.
Все этнические и племенные идентичности неизбежно относительны, поскольку каждая из них сама устанавливает границы, определяющие исключительность группы и неявно обозначающие ее позицию, или размещение, в отношении одной или более групп за пределами оговоренных этнических границ. Многие подобные этничности можно воспринимать как институционализированные оппозиции в форме бинарных пар: крепостной — свободный казак, цивилизованный человек — варвар, горы — долины, верховья реки (huhi) — низовья (hilir), кочевой — оседлый образ жизни, скотовод — земледелец (выращивающий зерновые культуры), болотистые почвы — засушливые, производитель — торговец, иерархическая социальная структура (шаны, гумса) — эгалитарная (качины, гумлао).
«Позиционирование», а часто и занимаемая агроэкономическая ниша оказались столь повсеместно важны для прочерчивания этнических границ, что названия мест и хозяйственных практик постепенно стали обозначать этническую принадлежность. Просто поразительно, как часто в Вомии и малайском мире понятия, буквально фиксирующие местоположение в горах, например у падаунгов, таунгту, буйкитанов, оранг-букит, оранг-хулу, мизо, тай-лой, становились фактическими обозначениями племен. Многие подобные названия, несомненно, возникли как экзонимы: равнинные государства использовали их по отношению к тем горным народам, с которыми торговали, чтобы подчеркнуть их «грубость» и «дикость». О течением времени эти названия часто закреплялись как автоэтнонимы, носимые с гордостью. Совпадение экологической и хозяйственной ниш с этническими границами так часто отмечалось антропологами, что Майкл Ханнан решился утверждать, будто «в состоянии равновесия этнические границы группы соответствуют нишевым»[690].
Наиболее сущностное различие подобного рода, видимо, разделяет варваров и зерновых земледельцев-ханьцев. Когда ханьское государство начало разрастаться, народы, оставшиеся или бежавшие в «горы, болотистые, заросшие джунглями или лесами районы» в пределах империи, стали известны под различными обозначениями, но, как мы уже увидели, имели и общее название «внутренних варваров». Те, кто был вытеснен на степные окраины, где оседлое земледелие было невозможно или слишком неблагодарно, получили название «внешних варваров». В любом случае эффективным фактором разграничения народов стала экология. Барон фон Рихтгофен в 1870-х годах ярко описал резкость переходов и непредсказуемость границ между геологическими условиями и народами: «Было удивительно, после того как мы пересекли несколько [участков лёссовых почв] и наконец прибыли на вершину последнего из них, вдруг увидеть обширную травянистую равнину с волнистой поверхностью… На ее границе расположена китайская деревня, за нею — „Tsauti“ [луг] с монгольскими шатрами»[691]. Показав, что «монголы» не были неким ур-населением, а, наоборот, представляли собой совокупность чрезвычайно разнообразных народов, включая и бывших ханьцев, Латтимор увидел здесь господствующую роль экологии: «Границы между разными типами почв, между земледелием и скотоводством и между китайцами и монголами четко совпадали»[692].
Экологическая ниша, поскольку она порождает различия в повседневных практиках, ритуалах и материальной культуре, — одно из оснований, на котором может базироваться процесс этногенеза. Но она не является ни необходимым, ни достаточным условием формирования этнической или племенной группы. Конструирование подобного рода маркеров — сугубо политический проект, а потому их функция может быть приписана и не принципиально важным различиям, чтобы, например, обосновать свои права на ценные ресурсы. Изобретение «племени» кая/каренни как отличного от близких ему каренов, очевидно, яркий тому пример[693].
«Рождение» каренни в начале XIX века — относительно недавнее событие, поэтому позволяет сделать аргументированные предположения о происхождении «племени». Видимо, оно связано с появлением здесь в 1820-е годы, в этом прежде эгалитарном небуддийском сообществе, каренских милленаристских претендентов на статус князей в шанском понимании. Как мы увидим в следующей главе, милленаристские движения сыграли несоразмерно большую роль в генезисе новых общин в горах. Создание княжества по шанскому образцу с собственным собва «успешно трансформировало одно из множества бессистемных скоплений центральных каренских диалектов в совершенно особую социальную и культурную систему кая»[694]. Подобные имитации процессов государственного строительства не были редкостью — в данном случае неожиданной оказалась одновременно политическая и культурная успешность проекта. В свою очередь, этот успех был обусловлен тем счастливым стечением обстоятельств, что новоиспеченное мелкое каренское государство было расположено в месте произрастания самых ценных тиковых лесов в стране.
Утверждение новой племенной идентичности, оснащенной небольшим государственным аппаратом, привело к установлению локальной монополии на торговлю тиковым деревом. Харизматические лидеры соединили прежде слабо связанные общины каренни в подобие акционерного общества, «чтобы вырвать из рук шанов, на которых они до этого работали, контроль над становящейся все более прибыльной торговлей тиковым деревом»[695]. Политические деятели из числа этнических каренни заимствовали ближайшую к ним модель государственного строительства — шанского рисового государства (скопированную, в свою очередь, с бирманской монархии), что позволило им выдвинуть и отстаивать претензии на тиковые леса. Данная стратегия формирования идентичности и обретения контроля над ценными ресурсами сработала превосходно.
Множество идентичностей было сформировано для тех же целей: защитить стратегическое расположение на торговом пути; отстоять преимущественные права на воду, полезные ископаемые или ценные земли; заявить права собственности на конкретные товары; защитить права на рыбалку или охоту; столкнувшись с сильной конкуренцией, оберегать доступ к прибыльным формам занятости; претендовать на ритуальные привилегии. В этом смысле создание племен и этнических групп может рассматриваться как стандартная модель заявления своих прав теми безгосударственными народами, которые взаимодействуют с государствами. В прошлые исторические эпохи эта модель служила тем же задачам, что и профсоюзы, акционерные общества и ремесленные гильдии в более современных обществах[696]. Те, кому удавалось застолбить право на ресурсы, получали веские основания для закрепления новой идентичности; одновременно другие группы лишались доступа к тем же ресурсам, а потому, будучи вытеснены в менее выгодные агроэкономические ниши, часто этнизировались[697].
Разграничение племен в Африке, как и во всех колониях, было официальным имперским проектом. Небольшая армия специалистов занималась прочерчиванием этнических границ, кодификацией обычаев, распределением территорий и назначением вождей, чтобы сформировать управляемые элементы имперского порядка, нередко из безгосударственных народов. Некоторая классификационная модель была необходима и в отношении поразительного культурного многообразия, чтобы получить определенным образом поименованные единицы для сбора дани, налогов и административного контроля. Движущей силой всего этого предприятия, как писал Уилмсен, стало «самоисполняющееся пророчество о существовании племен — в административном порядке создавалось то, что невозможно было обнаружить в действительности». Возникнув как единственная подходящая социальная организация, племя быстро стало доминирующей формой для репрезентации безгосударственных народов. Сколь бы произвольной и вымышленной она ни была, «коренные народы поняли, что должны самоорганизовываться в племена», чтобы выжить в рамках колониальных режимов[698]. Проекты разделения туземцев на взаимоисключающие, территориально разграниченные племена не были следствием административной мании, характерной для картезианского мышления эпохи Просвещения или, если уж на то пошло, англосаксонского, кальвинистского идеала разумной упорядоченности жизни. Почитайте о галлийских войнах Цезаря — вы обнаружите схожий племенной проект, который, как бы печально ни обстояли дела в реальной жизни, был страстной мечтой каждого римского наместника. Хань-китайский имперский проект с его системой туей (tusi) — назначаемых и выплачивающих дань вождей и присваиваемых варварам названий — имеет все признаки аналогичных административных попыток разграничения племен. Система туей (управления варварами с помощью варваров) была придумана в империи Юань (1271–1368) и процветала вплоть до XVIII века в тех районах, где прямое управление было либо невозможно, либо невыгодно с финансовой точки зрения[699].
За произвольными попытками построения классификаций, предпринимаемыми государствами, скрывается непрекращающаяся чехарда столкновений за ресурсы, престиж и власть. Эта борьба порождала новые социальные и культурные расколы — споры относительно ритуалов, конкуренцию различных группировок за контроль над лучшими территориями, соперничество родов за брачные союзы, вражду наследников местных вождей. Иными словами, потенциальные основания для появления все новых конкурирующих социальных сил воспроизводились практически ежедневно.
Следуя оригинальной концепции Макса Глюкмана, можно условно развести центростремительные и центробежные конфликты[700]. Если группировки сражаются за верховную власть, исходя из общего понимания, каков будет выигрыш победителя, и тем самым признавая существующий социальный порядок, то речь идет о конфликте централизации. Если же группировка распадается или от нее откалываются отдельные части для заключения других союзов, подобный конфликт ведет к децентрализации, а потому носит центробежный характер. Демографические и географические условия Вомии способствовали возникновению центробежных конфликтов. Проигрывающей в споре за лидерство группировке было относительно легко выйти из борьбы, найти новые территории для подсечно-огневого земледелия и основать новое поселение — это эгалитарная альтернатива грозящим ей в противном случае подчинению и постоянной иерархии. Сопротивление ландшафта означало, что отделившиеся сообщества часто оказывались в относительной изоляции, особенно на фоне равнинных обществ. Ровно так же как сложная топография и относительная изоляция, учитывая необходимое для их преодоления время, способствовали нарастанию различий в разговорных диалектах, то есть своего рода лингвистическому видообразованию, так и условия Вомии стимулировали и закрепляли культурное разнообразие. Процессы культурных изменений и дифференциации часто становились первоосновой «племенных» разграничений. Но мы не должны путать культурное своеобразие с племенной и этнической групповой идентичностью. О одной стороны, создание племен и этнических групп с собственными названиями — это политический проект, который иногда может использовать культурные различия. О другой стороны, множество ярких культурных различий никогда не политизировались, а потому часто уживались в рамках одной племенной структуры.
Как только «племя» возникает как политизированное образование, внутри него запускаются социальные процессы, которые воспроизводят и усиливают имеющиеся культурные различия, тем самым логически обосновывая его собственное существование. Политическая институционализация идентичностей, будучи успешной, порождает тот же результат, переформатируя структуры социальной жизни. Понятие «модель продвижения», введенное Венедиктом Андерсоном для описания создания голландским колониальным режимом в Индонезии фактически на пустом месте «китайской» этнической группы, наилучшим образом характеризует рассматриваемый процесс[701]. В Батавии, исходя из собственных предубеждений, голландцы «обнаружили» китайское меньшинство. Эта смешанная группа не считала себя китайской, поскольку ее границы совершенно размылись, а представители слились с другими жителями Батавии, свободно заключая с ними браки. Как только голландцы «различили» эту этническую группу, то сразу же институционализировали свои административные фантазии. Они начали обустраивать особую территорию «китайского» квартала, выбрали «китайских» чиновников, создали местные суды китайского законодательства, как они его понимали, учредили китайские школы и в целом делали все, чтобы люди, отвечающие критериям принятой ими классификации в рамках колониального режима, учитывались как батавийские «китайцы». То, что изначально было лишь плодом голландского имперского воображения, обрело реальную социологическую плоть благодаря модели продвижения соответствующих институтов. И вот, пожалуйста, — примерно через шестьдесят лет мы имеем общину, действительно идентифицирующую себя как китайскую. Перефразируя Уилмсена, с помощью административных мер голландцы создали то, что не смогли обнаружить.
Как только «племя» институционализируется как политическая единица, как общность, обладающая правами и земельной собственностью и имеющая собственных лидеров, поддержка и укрепление ее идентичности становятся крайне важны для большинства ее членов. Джеффри Веньямин показал, что такие высокогорные народы, как сенои и семанги, среагировали на соблазны и опасности колониального и малайского государств, усилив свой «племенной» характер и введя набор брачных практик, которые благоприятствовали рассеянию и собирательству. Культурное табу на использование плуга также способствовало отказу от оседлого образа жизни[702]. Чем успешнее оказывалась идентичность в борьбе за ресурсы и престиж, тем больше ее представители были заинтересованы в поддержании ее границ и тем четче и жестче таковые становились[703]. Суть в том, что сразу после своего создания институциональная идентичность обрастает собственной историей. Чем она длиннее и глубже, тем больше напоминает мифотворчество и меньше — национализм. О течением времени подобная идентичность, несмотря на свою изначальную сконструированность, обретает все больше эссенциалистских черт и может вдохновлять на страстную преданность себе.
Сохранение генеалогического своеобразия
В эгалитарных обществах, обычно имеющих племенной характер, на мой взгляд, превалирующей формой обозначения их происхождения является договорная.
— Мортон Фрид. Донятие племени
Первых колониальных чиновников можно было в определенном смысле простить за «обнаружение» племен в горах[704]. Эти находки были обусловлены не только их ожиданиями, но и усиливающей эти ожидания самопрезентацией многих горных народов. Там, где никаких государств не было и в помине, принципы социальной сплоченности формально включали в себя кровное родство, генеалогию и происхождение. Безусловно, всё это колонизаторы и рассчитывали встретить в племенной зоне. Хотя политические реалии соперничества, узурпации власти, восстаний, миграций, социальных расколов, нестабильности и множественных идентичностей были ошеломляюще сложными и постоянно трансформировались, то, что марксисты назвали бы идеологической надстройкой, здесь сохраняло видимость хорошо организованной, исторически единой по своему происхождению группы. Формально правопреемство, идея единого происхождения и старейшинство поддерживались благодаря своеобразному генеалогическому и историческому мошенничеству. Если чувство преемственности и символический порядок были важны, то подобные махинации обретали исключительную значимость, поскольку последствия фрагментированной и беспокойной политики в горах нельзя было предвидеть, не говоря уже о том, чтобы контролировать. Выло намного легче таким образом использовать и интерпретировать результаты, скажем, успешной узурпации власти или аномального брачного союза, чтобы искусно убедить всех, будто бы на самом деле все правила соблюдены и остались неприкосновенны.
Насколько мне известно, все горные народы, без исключения, обладают многолетним опытом переработки собственных генеалогий в целях поглощения чужаков. Горные сообщества зависели от рабочей силы и стремились увеличить число своих членов — с помощью усыновления, заключения браков и признания своими чужаков, покупки пленников или экспедиций за рабами. Всё новые работники требовались не только для расчистки земель для подсечно-огневого земледелия, но и для повышения политического и военного веса принимающей группы. Равнинные общества, также заинтересованные в рабочей силе, легко инкорпорировали мигрантов в свою классовую структуру, обычно в нижние ее ступени. Горные сообщества, наоборот, включали чужаков в родовитые группы и кланы, нередко самые могущественные из них.
У каренов сложилась репутация наименее склонного к смешанным бракам горного народа, однако, живя на территориях между более сильными соседями, на самом деле карены, как оказалось, обладали поразительной способностью увеличивать свою численность за счет чужаков. Неполный список поглощенных ими народов включает в себя китайцев, шанов, ламет, лису, лаху, акха, бирманцев, монов, лаосцев и луе[705]. У акха, которые также были «промежуточным» народом в том смысле, что их сообщества проживали на средних высотах, тогда как равнинные народы — под ними, а горные — над ними, сформировалась особая, складывавшаяся годами система ассимиляции чужаков. Человек, который посредством брака входил в сообщество акха, известное своей исключительно длинной устной генеалогией, считался основателем нового (младшего) рода, при условии что он воздавал почести духам умерших предков, имел сына и говорил на языке акха. Многие роды со сравнительно короткой историей (лишь пятнадцать или двадцать поколений) фактически восстанавливали прежнюю идентичность своих предков: китайцев из провинции Юньнань, ва, тайцев. Захваченный в плен раб вписывался в родословную своего хозяина или любую другую, генеалогически ему близкую. По мнению Лео Альтинга фон Гойзау, модели инкорпорирования сложились настолько давно и стали столь рутинными и общепринятыми, что со временем народ акха, оставаясь номинально акха, в генетическом смысле пополнился массовыми вливаниями представителей других народов[706]. О генеалогической точки зрения путаницы не возникало, поскольку все иммигранты в кратчайшие сроки «натурализовывались», становясь основой основ уже имевшихся родословных.
Та же генеалогическая ловкость рук срабатывала, когда необходимо было сконструировать родословные, примиряющие реальную политическую власть с идеологией происхождения правящих родов. Вазовая версия происхождения качинов содержит генеалогические древа сорока и даже более поколений. Лич считает их «фиктивными» и «не имеющими никакой ценности с точки зрения исторической фактичности и доказательности». Как только род становился влиятельным, он вдохновлял простые семьи на переписывание собственной генеалогии, чтобы подчеркнуть в своих интересах близость сильным кланам. Реальная власть в качинской модели взаимоотношений родов обреталась благодаря щедрым пиршествам в ходе выполнения ритуальных обязанностей: тот, кто устраивал празднества, претендовал на лояльность и труд (рабочую силу) всех тех, кто был у него в долгу. Тот, кто успешно выполнял все требования, признававшиеся обязательными для аристократа, считался аристократом, невзирая на конкретные факты своего происхождения[707]. Лич убедительно показывает, что задачей генеалогий может быть легитимация (набрасывание мантии законности) практически любой совокупности властных отношений: «Соответственно, вертикальная социальная мобильность оказывается результатом двойственного процесса. Сначала индивид обретает престиж благодаря своей щедрости при исполнении ритуальных обязанностей. Затем престиж конвертируется в признаваемый всеми статус посредством ретроспективного подтверждения высокого статуса индивида через его родословную. Последняя конструируется в значительной степени благодаря манипуляциям с генеалогической традицией. Сложность и запутанность правил наследования у качинов крайне упрощают подобные махинации». Более того, «любой влиятельный аристократ» может «реконструировать отдаленные во времени этапы своей родословной в выгодном для себя свете». Несмотря на тот факт, что в принципе «статус человека… считается точно определенным с рождения, на самом деле на практике система социальной стратификации оказывается бесконечно гибкой»[708].
Таким образом, «племенной» характер горных народов обусловлен тщательно продуманными генеалогическими мифами, реконструируемыми по мере необходимости, чтобы легитимировать апелляциями к происхождению реальное распределение власти. По сути, перед сказителями саг стояла задача приводить мифы в соответствие с фактами. Отличаясь цивилизационной близорукостью и стремясь облегчить себе административное управление, колониальные чиновники старательно пытались найти иерархию и родоплеменной строй, а потому сложнейшая мифология о происхождении горных народов им в этом лишь способствовала. Колониальные власти основали шанское государство там, где жили весьма многочисленные, но социально нестратифицированные народы. У качинов они явно предпочитали иметь дело с той их частью, что имела аристократию, вождей и автократические формы жизни и выказывала крайнее отвращение к «анархическим», демократическим качинским гумлао[709].
У каренни шансы пополнить ряды вождей также в значительной степени зависели от харизмы, проведения пиршеств и политического и военного искусства. Важность наследственных отношений и генеалогической позиции объяснялась тем обстоятельством, что политический успех всегда должен был укладываться в идеологическую модель «правильного» происхождения (иначе он не считался легитимным). Как поясняет Лиман, «даже узурпатор, захватив власть, пытался доказать, что один или более из его предков были „королевских кровей“, хотя сам он вполне мог быть простым крестьянином». Поскольку каренни, как и в целом все карены, придерживались принципа единокровного родства, где учитывались связи по мужской и по женской линии, обнаружить требуемые в конкретный момент родственные отношения им было даже проще, чем качинам. Вот почему, когда колонизаторы начали поиски племен, сформированных четкими правилами единого происхождения и обладавших длинными родословными, жители гор были невероятно счастливы снабдить их ретроспективно реконструируемыми и потому четко упорядоченными генеалогиями, в которые обряжали свою бурную политическую жизнь[710].
Племя как формальный социальный институт оказывается во множестве регионов скорее идеологическим экзоскелетом, чем полезным для понимания политических реалий инструментом. Одно из самых известных племен в истории — того самого Османа, основателя Османской империи, — было на самом деле пестрой коллекцией разных народов и религий, объединившихся в своих политических интересах. И это не исключительный для истории случай. Изучив исторические свидетельства, Руди Пол Линднер утверждает: «Современные антропологические полевые исследования [на Ближнем Востоке] показывают, что членство в племени, клане и даже лагере было более свободным и открытым, чем можно было бы предположить, исходя из идеологии понятия племени»[711]. Например, в случае с османами племя было удобным механизмом объединения турецких скотоводов и византийских поселенцев. Если для поддержания идеи племени как системы родства оказывались необходимы единокровные узы, то на помощь призывались генеалогии кланов и родов — чтобы «подправить» требуемые в прошлом родственные взаимоотношения. Несомненно, сегментированная модель родословных была общепризнанной племенной идеологией, но нельзя сказать, что она широко применялась на практике, за исключением тех случаев, когда была абсолютно необходима для соблюдения приличий[712].
Кровные узы и правильная генеалогия были единственным легитимным основанием социальной сплоченности: хотя оно и противоречило фактам, но было настолько всеохватывающим, что определяло базовые параметры саморепрезентаций. Никаким иным образом горные народы не могли обосновать законность своей властной системы. Как супружеская пара Винирингов у Чарльза Диккенса была полна решимости соблюсти приличия по отношению друг к другу и к соседям, так и здесь имитация была не циничной уловкой, а способом выстраивания социальных отношений, демократическим механизмом, посредством которого члены сообщества ретроспективно даровали легитимность тем своим вождям, которые соблюдали все ритуальные обязательства и демонстрировали щедрость (неотъемлемые атрибуты статуса правителя). В этом особом смысле племенное мышление было столь же глубоко укоренено в идеологии горных народов, как и в воображении колонизаторов.
О учетом всего того, что мы знаем о неоднозначности этнических идентичностей, проницаемость их границ, создание и исчезновение множества из них, постоянство «политики силы», скрывающейся за относительно спокойной внешне генеалогической преемственностью, и радикальная конструктивистская трактовка идентичностей горных народов просто неизбежны.
По крайней мере, как показал Лич на примере качинов, любое горное сообщество имело в своем распоряжении целый ряд социальных форм, которые могло примерять на себя. Большинство форм, навязанных потоку идентичностей, как мы уже увидели, было лишь плодом имперского воображения. Томас Кирш, следуя примеру Лича, обратил внимание на неустойчивость социальной организации как на важный феномен, требующий объяснения. Он утверждает, что «ни один из множества разнообразных горных народов, традиционно включаемых в этнографическую картину Юго-Восточной Азии, не обладает (или прежде не обладал) постоянным или неизменным этнографическим статусом. Скорее, все они находятся в процессе непрекращающихся изменений»[713].
Неопределенность социальных форм в горах, пластичность историй и генеалогий, барочную сложность языков и народов нельзя считать просто головоломкой для правителей, этнографов и историков — это конститутивная черта горных сообществ. Во-первых, это именно то, что мы ожидаем встретить во всех зонах бегства, населенных, как, например, в отдельных регионах Латинской Америки, многочисленными мигрантами, дезертирами, разорившимися крестьянами, мятежниками и жившими здесь и прежде неоднородными горными сообществами. Даже местная топография явно способствовала расширению и сохранению культурного и лингвистического плюрализма гор. Во-вторых, целесообразно рассматривать подобное многообразие и как результат адаптации к внешнему контексту, подвергавшемуся радикальным, резким и непредсказуемым изменениям. Отмечая, что карены рассеяны по множеству экологических зон, прилегающих к ряду мощных равнинных государств, Ренард полагает, что исключительная пластичность их социальных структур, устных историй, моделей родства, хозяйственных практик, особенностей кухни и архитектуры прекрасно подходит для странствий и трансформаций. При необходимости большинство групп каренов могут мгновенно поменять все эти характеристики на их полную противоположность. Подобная способность обладает огромными адаптационными преимуществами и не раз сослужила каренам хорошую службу[714].
Никогда не будучи полностью уверены, какие именно роли им придется играть и к каким ситуациям приспосабливаться, горные народы справедливо полагали, что их интересам соответствует максимально широкий культурный «репертуар». Йонссон сводит большую часть такового к «формированию племенной идентичности» и отмечает, в частности, что «родоплеменной характер жизни», выступая фактически единственным объединяющим жителей гор за пределами деревни фактором, был одним из элементов данного репертуара. Весьма убедительно Йонссон помещает все многообразие имеющихся в распоряжении горных народов социальных и экономических практик в центр своего анализа: «Люди примыкали то к подданным государства, то к не подчинявшимся ему жителям лесов — утрачивая статус независимых горных народов и выбирая одну из двух социальных стратегий, — некоторые становились подданными государств, другие отказывались от сельской жизни в пользу собирательства в небольших группах. Все это опять отсылает нас к общей тенденции непрекращающихся изменений социального ландшафта, вследствие чего люди постоянно меняли свои структурные позиции, устанавливали и прекращали определенные взаимоотношения, неоднократно пересматривали параметры собственной идентичности, сообществ и историй»[715].
Мне кажется, теперь мы ясно видим две оси, вокруг которых выстроены все вариации, — они явно просматриваются в работах Йонссона. Первую ось формируют отношения равенства/иерархии, вторую — степень безгосударственности/«государственности» (подданства). Соответственно, собирательство предполагает эгалитарную и безгосударственную форму жизни, тогда как поглощение равнинными государствами порождает социальную иерархию и отношения подданства. Между этими двумя вариантами расположены общества с открытыми системами социальной стратификации, обладающие институтом верховных вождей или лишенные его, а также иерархически организованные сообщества под управлением вождей, иногда связанные с государствами отношениями данничества. Ни одна из этих достаточно условно обозначенных позиций в заданной двумя осями системе координат не является стабильной или постоянной. Каждая представляет собой лишь один из возможных путей адаптации, который используется или отбрасывается, в зависимости от обстоятельств. Обратимся, наконец, к факторам, определяющим тот или иной выбор.
Логика позиционирования в социальном пространстве
Задаваясь вопросом, почему каренни/кая возникли сразу в двух форматах — как идентичность и как мелкое государство, — Чит Хлаинг [Ф. К. Лиман] приходит к выводу, что ответить на него можно, только рассматривая оба варианта как результат позиционирования или стратегически продуманных взаимоотношений, с одной стороны, внутри целой плеяды говорящих на языке каренни групп, с другой — с близлежащими рисовыми государствами, особенно шанскими и бирманскими. Как только эта плеяда видоизменялась или разрушалась, каренни неизбежно приспосабливали свою социальную структуру или даже идентичность к новым жизненным обстоятельствам[716].
Если мы принимаем метафорическую модель Лимана, согласно которой социальные системы можно рассматривать как своеобразные аналоги Солнечной системы, то можем весьма пространно рассуждать о множестве составляющих ее звездных тел, относительных расстояниях между ними и гравитационном воздействии, которое они оказывают друг на друга. Следуя метафоре, в качестве самых больших планет будут выступать рисовые государства. Они возникали и исчезали, соперничая, ограничивали размеры друг друга, самые мелкие из них оказывались заложниками своих горных соседей, но в общем и целом характерная для них концентрация рабочей силы, материальная культура и центральное положение в символической картине мира превращали их в центры гравитационного притяжения.
Впрочем, здесь наша метафора перестает работать, потому что рисовое государство способно отталкивать в той же мере, как и притягивать, и в целом оказывает различные виды воздействия. Культурная харизма и символический охват — самые мощные из всего спектра доступных ему видов влияния. Даже в самых отдаленных горных поселениях можно встретить символы и атрибуты власти, которые словно выплавлены из фрагментов таковых в равнинных государствах: мантии, головные уборы, церемониальные принадлежности, свитки, копии дворцовой архитектуры, словесные формулировки, элементы придворных ритуалов. Вряд ли в горах можно обнаружить притязания на выходящую за рамки отдельной деревни власть, которые бы не обряжались в космологические одеяния для подтверждения собственной обоснованности. В тех горных районах, где символические полутени ханьской цивилизации и буддизма Тхеравады пересекались, элементы обеих равнинных государственных систем смешивались совершенно беспорядочно. Эти легчайшие символические осколки беспрепятственно разлетались по горам, потому что в значительной степени имели декоративный характер, украшая космологическое по масштабам бахвальство. Они в миниатюре воспроизводили тот путь, что ранее проделали идеи и символические технологии обожествления царской власти — из Южной Индии в классические княжеские дворы Юго-Восточной Азии.
Экономическое притяжение центров рисовых государств было почти столь же мощным. Королевские дворы на равнинах материка, как и в малайском мире, на протяжении тысячелетия были рынками международной торговли предметами роскоши, в которой продукты гор были самым ценным товаром. Как уже было показано, будучи разными экологическими зонами, горы и равнины неизбежно оказывались связаны отношениями экономической взаимозависимости, но их торговое взаимодействие в общем и целом не было принудительным. Даже если оно имело характер данничества, то горный народ, номинально, в соответствии с записями равнинных государств, более слабый, часто оказывался в более выгодном положении, а потому отношения данничества воспринимались как взаимовыгодный обмен. Экономическая интеграция гор и равнин была такой всеобъемлющей, потому что осуществлялась свободно и к общей выгоде.
Однако с точки зрения осуществления прямого политико-административного контроля возможности рисовых государств Юго-Восточной Азии были довольно скромными. Топография, военные технологии того времени, низкая численность населения и открытые границы жестко ограничивали успешность применения насилия лишь небольшой зоной в центре государства. Насилие вступало в игру в случае экспедиций за рабами (в годы войн и межвоенное время их организовывали работорговцы), призванных захватывать и расселять многочисленных пленников в узких границах подконтрольной государству территории. Бегство подданных могло свести на нет все успехи государственного строительства.
Учитывая все эти жесткие ограничения, практически каждое равнинное государство заключало рабочий альянс, иногда соответствующим образом документально оформленный, с одним или несколькими соседними горными народами. В интересах горных групп было селиться поближе к центру равнинного государства, чтобы пользоваться всеми преимуществами нередко весьма богатой экотонной зоны между горами и долиной и в качестве посредников контролировать расположенные здесь торговые пути. Взаимоотношения яо/мьен с китайским двором и лава с королевскими дворами в Чиангмае и Чёнгтуне, видимо, были закреплены указом или законом[717]. По сути, подобные «контракты» фиксировали особый тип сделки. В обмен на уплату дани и хорошее поведение (никаких мятежей!) горные народы, например яо, получали разрешение «пересекать горы» в поисках новых земель для подсечно-огневого земледелия, освобождались от налогов, отработки барщины и пошлинных сборов, а также от обязанности преклонять колени перед знатью и чиновниками. Соответствующие документы пронизаны дискурсом, помещавшим яо и лава далеко за пределами волшебного мира цивилизованной жизни. Как точно подмечает Йонссон, они также выполняли функцию называния и, вероятно, стабилизации идентичностей в том хаосе за стенами королевского двора, который сокращал его возможности распределять землю и даровать свободу перемещений; фактически документы обозначали границы «племенной территории» и предполагали, что таковая будет управляться подотчетными государству вождями. Эти документы, по крайней мере для ханьцев, были способом «приготовления варваров».
Установленные долинами для горных народов правила поведения, как мне кажется, были им совсем не по нраву. Равнинным королевским дворам было жизненно важно иметь союзников среди ближайших горных соседей: последние формировали имевшую ключевое значение буферную зону и систему раннего оповещения центров равнинных государств о действиях их врагов — расположенных в долинах за горами других государств[718]. Горные союзники могли охранять жизненно важные торговые пути и обеспечивать дипломатические отношения с другими горными народами. Наконец, они нередко сами занимались захватом рабов, помогая равнинным государствам восполнять нестабильную численность населения в центральных районах страны. Хотя все эти действия горных народов казались чиновникам из долин проявлением уважения и подчинения, ничто не мешает нам расценивать их как достижения горных народов, которые добивались заключения соглашений на собственных условиях, включая обретение права не кланяться чиновникам и не раболепствовать. Поскольку яо/мьен известны тем, что всячески похваляются и потрясают подобным документом перед представителями власти равнинных государств и чужаками, можно истолковать его именно таким образом[719].
И таких примеров неисчислимое множество. Проживая на территориях между целым рядом равнинных государств, карены за свою долгую историю успели побывать союзниками каждого из них. Они сыграли критически важную роль в первоначальной победе Мон-Пегу над Авой в середине XVIII века, предоставив трехтысячное войско самозванцу, который мог быть кареном или пво-кареном по происхождению. В этих районах пво-карены были известны как монские карены (талаинги-карианги) и отличались от проживавших севернее сго-каренов, иногда также называемых бирманскими каренами. Когда королевство Пегу было разгромлено и большая часть его населения рассеялась, карены бежали вместе с монами, рассчитывая на защиту тайского государства. Тайцы «рассадили» каренов по своей границе, используя их как систему раннего оповещения и — с точки зрения бирманцев — как пятую колонну. Тайское королевство Чиангмай считало каренов «хранителями лесов», важным с ритуальной точки зрения народом, первым пришедшим на эту землю, ценным союзником и торговым партнером. Таким образом, различия в идентичностях разных групп каренов обусловлены особенностями места проживания и спецификой исторического периода взаимодействия с конкретными равнинными государствами[720].
Каждое «цивилизованное» равнинное рисовое государство нуждалось в одном или нескольких живущих в горах союзниках-варварах, с которыми выстраивало взаимовыгодные отношения. Так, акха выступали в паре с тайскими государствами Кенгтунг и Оипсонгпанна (Оишуанбаньна), чины — с бирманским королевским двором, лава — с тайской ветвью династии Юань в Чиангмае, ва — с различными шанскими/тайскими государствами, пво-карены — с монами, лава — с королевством Ланна, а ранее с Лампхуном, зярай — с кинами, палаунги — с шанами, горные тайцы — с лаосцами, качины — с шанами; а на северо-западе нага были своего рода высокогорным помощником королевского двора манипури[721]. В каждом из перечисленных случаев возникал особый культурный симбиоз, в котором горные союзники (или только часть из них) все больше походили на своих равнинных партнеров.
Все это очень напоминает формулу «приготовления» варваров. Скорее, это даже модель поглощения и ассимиляции. Если верно, что численность первых тайских и бирманских военных колонистов была небольшой, то население этих и других равнинных государств должно было сформироваться именно таким образом[722]. Их ближайшие горные союзники все в большей степени управлялись вождями, тесно связанными с равнинными государствами, и становились все более социально иерархизированными, то есть все больше соответствовали ханьскому понятию «приготовленных» варваров. Ханьская цивилизационная последовательность — сырые варвары, приготовленные варвары, полноценные подданные государства/«помещенные на карту» — структурно близка аналогичному шанскому ряду, обозначенному Личем: эгалитарное общество/гумлао, стратифицированная гумса, шаны[723]. Лич видит этническую преемственность там, где скорее можно говорить о градиенте. Схожие последовательности обнаруживаются примерно в тех же форматах практически повсеместно на территориях между рисовыми государствами и их горными соседями-союзниками. Таков в конце концов социокультурный маршрут, следуя по которому жители гор превращались в подданных государств: пространственная близость, обмены и контакты, лингвистическая интеграция, ритуальные заимствования и, в классическом случае, поливное рисоводство. Следует подчеркнуть, что этот маршрут предполагал постоянное наращивание определенных качеств, а не серию резких болезненных изменений; к нему вообще нельзя апеллировать для понимания логики формирования этнической идентичности!
Если мы представим себе аналогичную этническую последовательность как относительно непрерывную и не предполагающую резких переходов, то из этого следует, что столь же гладко она может развертываться и в обратном направлении. Путь к равнинной «цивилизации» — это и траектория движения к высокогорной автономии, и между этими двумя точками находится бесчисленное множество промежуточных станций. В случае войн или эпидемий переходы между ними могли быть резкими (хотя и вполне знакомыми), они могли происходить постепенно и почти незаметно по мере распада рисовых государств, смещения торговых путей или возрастания налогов. Сближение с равнинным государством осуществлялось по дороге с двусторонним движением, и съезд с нее вряд ли был более сложным или травматичным, чем въезд.
Эгалитаризм: способ предотвращения государства
Расстреляйте нас всех из своих пушек или сделайте нас, все восемнадцать тысяч, навабами (наместниками).
— Пуштунские старейшины — британцам
Ламеты просто не понимали смысла понятия «начальник».
— Карл Густав Изиковиц. Ламеты,
В силу своей дикости бедуины менее всех прочих наций склонны подчиняться, друг другу, ибо они грубы, горды, честолюбивы и стремятся быть лидерами.
— Ибн Хальдун
Основная причина, почему книга Лича «Политические системы высокогорной Бирмы» считается вневременной классикой, заключается в том, что противостояние между называемыми им автократическими и демократически-эгалитарными группировками, которое Лич обнаружил среди качинов, широко распространено и за пределами данного этнографического контекста. Для безгосударственных народов, проживающих на периферии государств, это явление представляет фундаментальный для самопозиционирования выбор. Изучая литературу своего времени, особенно посвященную региону на границе штата Ассам и Бирмы, Лич увидел множество примеров противостояния демократически-эгалитарных и самодержавно-монархических форм среди местных народов. Он приводит цитаты из работ, описывающих чинов, сема, коняков и нага[724]. К этому списку можно добавить каренов, лаху, ва, каренни и, наверное, многих других, если провести тщательный анализ соответствующей литературы[725].
Возглавляемые британцами силы «умиротворения» были шокированы сопротивлением, с которым столкнулись в эгалитарных качинских районах. «Наши противники здесь — гумлао качинов, чьей отличительной характеристикой является полное отсутствие института вождей даже в отдельных деревнях»[726]. Отмечалось, что у качинов не было «никаких форм приветствий и выражения почтения». Гумлао, сообщества без верховной власти, подрывали и разрушали британскую — и любую иную — систему управления; они не имели никаких институциональных рычагов, которые можно было бы использовать для установления контактов, ведения переговоров или осуществления контроля. Соответственно, колониальная администрация признавала только «должным образом организованные под властью дува территории» и призывала офицеров даже в этих деревнях внимательно следить за проявлениями «духа независимости», чтобы незамедлительно его подавлять[727]. Вот почему составитель «Географического справочника Верхней Бирмы», будучи сам гордым наследником демократической традиции, писал без тени иронии, что «подобные республиканские и демократические по духу сообщества более не разрешены в административных границах Бирмы»[728].
У кая, как показывает Лиман, демократические и автократические принципы были встроены в «два ритуальных цикла и соответствующие им наборы персонажей»[729]. Тот культ, что можно назвать аристократическим, использовал не только местную символику, но и в частности внешнюю атрибутику и символы шанских княжеств и бирманской королевской столицы в Мандалае. Ритуальный центр культа размещался в сердце деревни, где высокие тиковые столбы (характерная черта деревень кая), выполнявшие, по сути, функцию флагштоков большинства шанских и бирманских пагод (символизируют подчинение местных духов Будде), были увенчаны зонтичным навершием (hti), которое практически повсеместно используется в буддийской архитектуре. Наследственное священство аристократического культа делало подношения высшему богу, чье имя было производным от шанского обозначения господина, как и понятие «собва». Оно не могло ни породниться, заключив смешанный брак, ни принять подношения от священников других культов, служивших местным божествам (натам) в сельской местности, особенно в лесах.
Для целей нашего анализа важно подчеркнуть, что ритуальный комплекс кая был тщательно и целенаправленно сконструирован как двойственный. В нем присутствуют одновременно демократические и автократические элементы, но они ритуально разделены. Один комплекс, видимо, копирует соответствующие формы равнинных государств, способствуя становлению идеологической надстройки собва и государственности в целом; альтернативная версия культа имеет исключительно локальный характер и никоим образом не затрагивает верховную власть. Если текучая идентичность — когда ее можно мгновенно сменить на полностью противоположную — предполагает переходы между иерархическими и неиерархическими социальными формами, то кая с ритуальной точки зрения полностью готовы к любому повороту событий.
И наконец, сравнение эгалитарных и иерархических социальных образований показывает, какие культурные практики препятствуют формированию устойчивых государственных и властных иерархий. Весьма показательны в этом отношении луа/лава, относительно стратифицированное горное сообщество, и лису, сравнительно эгалитарная группа. Луа всячески подчеркивают превосходство знатных родов (samang) в ритуальных и пиршественных практиках, они же контролируют доступ к земле[730]. Правящие династии здесь всегда имеют сложные и древние генеалогии, подтверждающие их статус и связи с мощными равнинными королевскими дворами, в частности в Чиангмае. Важное значение в этой связи имела «грамота», напоминающая аналогичный документ мьенов. Она освобождала луа от барщины, воинского призыва и поставок кормов для слонов и лошадей, а также подтверждала их право заниматься подсечно-огневым земледелием. При этом лису подчеркивали равный доступ всех родов к состязательным пиршествам и к земле и отсутствие между ними сущностных различий в социальном положении и статусе.
Для нас представляют интерес две особенности эгалитарных лису. Во-первых, их генеалогии столь коротки и усечены, что их можно счесть полным отказом от истории. В конце концов, цель большинства родословных, как письменных, так и устных, — обосновать претензии на превосходство и статус, сконструировав соответствующие властным притязаниям «родословные». Если же истории происхождения чрезмерно кратки или вообще игнорируются, то это означает социокультурное неодобрение, а иногда и запрет любых исторических притязаний на господство. Излишне сокращенные родословные или их полное отсутствие, очевидно, ставят все родовые объединения примерно в одинаковое положение, уравнивая их. Мы уже подробно рассмотрели, как отсутствие письменной версии истории и задокументированной генеалогии предоставляло те же стратегические и адаптационные преимущества подчиненным группам. Однако устные генеалогии, сколь бы надуманными и искусственными они ни были, позволяют формулировать властные претензии, а потому отказ от них также представляет собой эгалитарный ход. Нередки и вполне справедливы замечания, что цивилизации, основанные на текстах, неизменно воспринимали безгосударственные народы за пределами своей досягаемости как людей без истории[731]. По сути, мы имеем дело с отречением от обосновывающих статусное неравенство историй во имя предотвращения формирования социальных иерархий и их частого спутника — государственности. Лису не имеют истории не потому, что неспособны ее сконструировать, а потому, что решили обойтись без связанных с ней неудобств.
Отсутствие истории способствует тому, что в эгалитарных группах каждый род или, раз уж на то пошло, каждая семья создает свои особые обычаи и порядки. Однако есть одна «традиция», которую с гордостью поддерживают все лису, — традиция убийств старост деревни, если те стали слишком автократичны. Как выразился Пол Дюрренбергер, «лису ненавидят… напористых и авторитарных старост» и «рассказывают бесчисленное множество историй об их убийствах»[732]. Подобные традиции можно обнаружить у достаточно большого числа эгалитарных горных народов. Сложно сказать, насколько часто эти традиции выливались в реальные действия, но первый бунт гумлао против качинских старост, упоминаемый в ряде источников, видимо, был тем случаем, когда они смогли создать некое подобие политического движения. Такие рассказы так или иначе служили своеобразным эгалитарно-структурным профилактическим предупреждением о возможных последствиях любых попыток автократических старост обеспечить своему роду вечную власть.
В иерархизированных сообществах луа кланы были социально проранжированы и всеми правдами и неправдами боролись за высокий социальный статус; отчасти соперничество объяснялось претензиями на власть, которые обосновывались сфабрикованными мифами о происхождении и генеалогиями. Лису, как и гумлао качинов, отвергали иерархию родов и празднеств, отрицали историю и открыто пресекали властные притязания честолюбивых старост, которые могли утянуть их за собой. В результате эгалитарные лису создали культуру, представлявшую собой продуманную программу предотвращения становления государственности.
Сочетание эгалитарных и иерархических моделей социальной организации в рамках однозначно опознаваемой единой культуры не является исключительной особенностью качинов и шанов, а обнаруживается на большей части Юго-Восточной Азии[733]. Гипотетически можно предположить, что это — структурная характеристика безгосударственных народов, живущих на границах государств. Так, классический тезис Робера Монтаня о берберском обществе Марокко гласит, что «оно балансирует между двумя противоборствующими и противоположными социальными формами — между, с одной стороны, демократическими и олигархическими племенными республиками, которыми управляют собрания или иерархические объединения собраний, и, с другой стороны — недолговечными племенными тираниями, примером коих в современную эпоху могут служить великие каиды юга»[734]. Как и у качинов, у берберов не сложилась собственная модель государственного строительства, поэтому их первые форматы государственности копировали эллинские образцы, существовавшие по соседству. Приведем в пример один из множества аналогичных случаев: исследование Майкла Ходарковского выявило схожие колебания между разными формами социальной организации во взаимодействии кочевых калмыков и русского государства. Официально правящий род вместе со священниками старательно создавал династию, используя механизмы наследственной передачи власти и ее последовательной централизации. Другие племенные лидеры высказывались за децентрализацию и «непредзаданность» правил правопреемства, то есть отдавали предпочтение открытым системам социальной стратификации. «Две структурно враждебные тенденции — одна, в лице управляющей верхушки способствующая нарастанию централизации, и другая, консолидирующая сепаратистские настроения, — позволяют объяснить бесконечный круговорот гражданских войн, столь характерный для кочевых сообществ»[735].
Ходарковский однозначно показывает, что тенденции к централизации были обусловлены пространственным размещением — соседством с государством. Так, царский режим всячески поддерживал калмыцких ханов как удобный для себя институциональный формат взаимодействия и контроля. Как и для Британии и императорского Китая, племенная анархия была проклятием для русских царей. Судьба централизации и самодержавия зависела от правильного сочетания силы царской власти, включая даруемые ею привилегии, с политическими амбициями калмыцких ханов.
Эгалитарные народы без институтов верховной власти на окраинах государств очень сложно контролировать. Они просто неуловимы. У них нет однозначного ответа на приказ «Отведи меня к своему правителю». Завоевание или кооптацию подобных народов можно осуществлять только постепенно — одну деревню, возможно, даже одно домохозяйство за раз, — но их результаты будут крайне нестабильны. Каждый здесь отвечает только за себя и ни за кого больше. Таким образом, отсутствие института верховной власти, как и «медузообразность» племен Ближнего Востока, описанная ранее, является своеобразной социальной структурой бегства от государства. Из нее логически вытекает неспособность объединяться, за исключением крайне специфических обстоятельств (например, под руководством харизматического религиозного лидера или в рамках недолговечной военной конфедерации). Социальная структура, не допускающая поглощения окружающими государствами, также препятствует кристаллизации внутри себя любых аналогов государственных структур.
Какие материальные условия обеспечивают становление подобных эгалитарных социальных структур? Обстоятельства жизни гумлао качинов, лису, берберов и калмыков показательны в этом отношении. Открытые границы общей собственности, видимо, здесь особенно важны. Если четко установленный принцип наследования земли способствует формированию устойчивой классовой структуры, то общественная собственность без однозначных границ уравнивает всех в правах доступа к источникам существования и гарантирует возможность частых делений деревень и родов на части, которые играют центральную роль в поддержании эгалитаризма. Чем дальше с точки зрения сопротивления ландшафта подобные народы живут от государственных центров и чем большую мобильность обеспечивают их хозяйственные практики — собирательство, скотоводство, кочевое земледелие, — тем более они склонны придерживаться эгалитарных, безгосударственных форматов социальности. Огораживание общих земель и другие посягательства государства — основная угроза для их существования.
Логику формирования исключительно сложных и пестрых, как шахматная доска, идентичностей в горах, а также их трансформаций следует воспринимать как стратегический выбор формы взаимодействия с равнинными государствами. Высотность проживания над уровнем моря и агроэкономическая ниша — нередко ключевые индикаторы подобного позиционирования. Необходимость такого подхода особенно очевидна, когда речь идет об идентичностях, изобретенных равнинными государствами в собственных административных целях. После случившихся в середине эпохи династии Мин «войн с яо» те, кто сотрудничал с императорской властью и селился на подконтрольных ей землях, превратились в «мин», или подданных, а те, кто отказался сделать это, стали называться «яо»[736]. Данный этноним не обозначал ничего, кроме не платящих налоги горных жителей, и изначально не содержал никаких культурных или лингвистических отсылок. Термин «мяо», как мы уже увидели, часто использовался для обозначения тех жителей горных районов, кто открыто противостоял поглощению государством. И конечно, названия «сырой» и «приготовленный», «дикий» и «прирученный», «лесной» и «домашний» (по отношению к каренам) следует воспринимать исключительно как маркеры степени политического подчинения.
Независимо от введенных государствами экзонимов этнические идентичности, их подгруппы и даже деревни, как гумлао и гумса у качинов, постепенно обретали репутацию, отражающую свойственную им степень иерархичности и взаимосвязи с государствами. Высокогорные акха, согласно фон Гойзау, предпочитали хозяйственные практики, укреплявшие их автономию, и специально выбирали такие местоположения для своих поселений, которые оберегали их от покушений государств и набегов работорговцев[737].
Следует четко развести характеристики, способствующие отталкиванию государства и преотвращающие формирование государственности. Они взаимосвязаны, но не идентичны. Первые включают в себя все те черты, которые затрудняют захват группы, ее поглощение и управление ею или же систематическое присвоение государством ее материальных продуктов. Вторые — это те, что сводят к минимуму вероятность формирования в группе устойчивых, иерархических, схожих с государственными структур.
Отталкивающие государства характеристики, с которыми мы неоднократно встречались выше, можно обобщить следующим образом: во-первых, пространственно мобильное, широко рассеянное сообщество, склонное к распаду на все новые и более мелкие элементы, относительно недоступно для государственного захвата по вполне очевидным причинам[738]. В свою очередь, данные особенности тесно связаны с, если не сказать обусловлены выбором хозяйственных практик. Собирательство, охота, сбор и продажа продуктов (суши или моря) повышают мобильность, рассеяние и делимость. Нетрудно смоделировать последовательность или шкалу снижения мобильности, пространственного рассеяния и способности распадаться на части по мере перехода от собирательства к подсечно-огневому земледелию, затем к оседлому сельскому хозяйству на постоянных полях и поливному рисоводству. Как мы уже увидели в шестой главе, в выращивающих сельскохозяйственные культуры обществах универсальные, малозаметные корнеплоды, вызревающие в шахматном порядке, «отталкивают» государство сильнее, чем растущие над землей зерновые, созревающие одновременно. За пределами Юго-Восточной Азии следует включить в нашу последовательность также кочевое скотоводство, обладающее огромными преимуществами с точки зрения высокой мобильности и рассеяния.
Третья противостоящая государственному захвату характеристика — предельно эгалитарная социальная структура, затрудняющая распространение государственной власти через институт местных вождей и старост. Одно из ключевых материальных условий формирования эгалитарной структуры — необходимое, но недостаточное — открытый и равный доступ к источникам существования. В этом отношении общее землевладение и землепользование и открытые границы фактически гарантируют эгалитаризм. По сути, две основополагающие хозяйственные технологии — собирательство и подсечно-огневое земледелие, — спасающие от поглощения государством и способствующие мобильности и пространственному рассеянию, немыслимы без доступной для всех общей собственности. Ее исчезновение — смертельный удар по автономии.
И наконец, последняя препятствующая государственному захвату стратегия — дистанцирование от центров государственности, или, в моей терминологии, сопротивление ландшафта. Вплоть до начала XX века само по себе удаленное проживание позволяло некоторым группам однозначно оказаться вне пределов досягаемости государства. В качестве прежде всего пространственной стратегии удаленное проживание могло заменить другие варианты сопротивления государственному поглощению. Хани и ифугао могли спокойно выращивать поливной рис на своих высокогорных террасах именно потому, что они располагались на огромном расстоянии от государственных центров.
Некоторые народы столь долго придерживались отталкивающих государство жизненных практик, что их названия стали синонимом безгосударственного состояния и часто украшались близлежащими государствами эпитетами «дикость», «сырость» и «варварство». Лаху, лису, гумлао качинов, акха, ва, кхму и хмонги — лишь несколько тому примеров. При желании, если учесть изменения во времени и внутреннюю дифференциацию этнических групп, можно построить некое подобие номинальной шкалы, в качестве делений которой будут выступать противостоящие захвату государством характеристики, и измерить таким образом любое конкретное сообщество.
На противоположном полюсе шкалы разместятся характеристики, которые можно назвать «способствующими государственности»: плотное заселение территории, оседлый образ жизни, выращивание зерновых, частная собственность на землю и обусловленное ею неравное распределение власти и богатства. Несомненно, они социально проектируются и целенаправленно внедряются на государственном пространстве. Народы, которые демонстрируют способствующие становлению государственности особенности, неизменно воспринимаются как отмеченные печатью «цивилизации» — шаны, бирманцы, тайцы, моны, пиу, кхмеры и кины/вьеты. Перефразируя Фернана Вроделя, можно сказать: не все человеческие перемещения туда и обратно между названными полюсами способны избавить народы от подобных неискоренимых ассоциаций. В крайней точке безгосударственности мы сталкиваемся с рассеянными, мобильными сообществами собирателей или небольшими группами, расселившимися вдоль отдаленных горных хребтов на огромном расстоянии от центров государств; на противоположном полюсе шкалы обнаруживаем исправно платящих налоги, выращивающих поливной рис крестьян, проживающих в центральных районах государств. Безусловно, самое важное в этническом позиционировании по отношению к государствам — постоянные перемещения индивидов между названными делениями шкалы и реальное изменение со временем содержательного наполнения того, что означало быть «каренни», «лаху-ньи» или «качином». В любой точке исторического времени-пространства имеющийся в наличии «ассортимент» этнических идентичностей следует воспринимать как набор вариантов взаимоотношений с государством — последовательная смена идентификаций позволяла оптимальным образом встроиться в окружающее экономическое и политическое пространство. Следует подчеркнуть, что отказ рисовых земледельцев от своих сельскохозяйственных занятий в пользу собирательства был абсолютно экономически оправдан в случае резкого роста цен на смолы, лекарственные растения и съедобные гнезда птиц. Но переход к собирательству может с легкостью выступать и как стратегия ускользания от государства. Аналогичным образом переход к поливному рисоводству или подсечно-огневому земледелию — скорее политический выбор, чем результат сравнительной оценки калорийности продукции в пересчете на единицу вложенного труда. Поскольку выбор конкретных хозяйственных практик, высотности проживания и типа социальной структуры всегда ассоциируется с определенными этническими идентичностями и «позиционированием» по отношению к равнинным государствам, смена этнической идентичности — прежде всего индикатор политического решения, которое неизбежно влечет за собой изменение культурной идентификации[739].
Например, некоторые лаху перемещались в отдаленные горные районы и занимались собирательством, а другие вели оседлый образ жизни и занимались сельским хозяйством в деревнях. Еще совсем недавно, в 1973 году, многие лаху покинули Кенгтунг в Бирме, переселившись в горы после закончившегося неудачей восстания против введенной бирманским правительством системы налогообложения и барщины[740]. Весьма схожую, но менее мятежную историю имеет народ кхму: одна его часть время от времени отказывалась от деревенской жизни ради собирательства, другая переселилась в долины, чтобы заниматься поливным рисоводством и исповедовать буддизм[741]. И конечно, как обнаружил Лич, многие качины не по одному разу сменили различные социальные формы жизни, каждая из которых представляла собой скорее позиционирование по отношению к шанским равнинным государствам и социальной иерархии, чем некую знаковую культурную трансформацию. Повторю еще раз то, что уже должно было стать очевидным: подсечно-огневое земледелие и собирательство в том виде, в каком они практикуются на протяжении последних нескольких столетий в Юго-Восточной Азии, не являются предшественниками поливного рисоводства в некоей социально-эволюционной модели — напротив, они представляют собой «формы вторичной адаптации», обусловленной прежде всего политическим выбором[742].
Йонссон проницательно заметил, что «этнические различия могут определяться взаимоотношениями с долинами». Он утверждает, что «этнические группы не обладают [предзаданной] социальной структурой», имея в виду, что конкретная, совершенно однозначно именуемая групповая идентичность на самом деле может быть весьма вариативной с точки зрения используемых хозяйственных практик, культурных взаимосвязей, внутренней иерархии и прежде всего взаимоотношений с равнинными государствами[743]. Иными словами, не только индивиды и группы перемещаются туда и обратно между этническими идентичностями вследствие сознательного самопозиционирования, но и сами эти идентичности крайне нестабильны, поскольку фактически представляют собой совокупность решений своих носителей, каждое из которых может повлечь за собой кардинальное изменение самой сути конкретной этнической идентичности.
Если горные народы имеют в своем распоряжении широкий репертуар идентичностей, каждая из которых призвана определенным образом регулировать их взаимоотношения с равнинными государствами, можем ли мы зафиксировать здесь некие исторические тенденции? Безусловно, за прошедшие полвека в Вомии произошли знаковые изменения. Вплоть до середины прошлого столетия, как мы уже увидели, Вомия представляла собой преимущественно зону бегства для сообществ и их осколков, скрывающихся от равнинных государств или желающих оказаться вне зоны их досягаемости. Мозаичность местных этнических идентичностей и их названий свидетельствует о долгой и сложной истории миграций и повторных перемещений, отмеченных восстаниями, войнами и культурными изменениями. Первоначально большую часть населения Вомии составляли выходцы из долин, особенно из Китая, которые сохраняли свои этнонимы, потому что покинули государственное пространство. Те, кто остался на равнинах (и, видимо, таковых было большинство), дополнили культурный сплав здешних государств и уже не назывались мяо, яо или тайцами. Перечисленные исторические процессы в сочетании с исключительным экологическим разнообразием Вомии и географической изоляцией региона породили, вероятно, сложнейшую в мире мозаику относительно безгосударственных народов.
Однако за последние полстолетия набор идентичностей в Вомии радикальным образом изменился благодаря признанию различных степеней государственного контроля. Классический цивилизационный нарратив о культурном возвышении «сырых» варварских народов был вытеснен современным нарративом о развитии и национальном строительстве. Если прежний нарратив был, в силу объективных ограничений государственной власти, скорее мечтой, чем описанием реального положения дел, новый звучит куда внушительнее благодаря по крайней мере трем факторам. Во-первых, современная идея полного суверенитета в рамках национального государства и необходимых для его эффективного существования административных и военных ресурсов означает, что обеспечение выполнения властных предписаний на всей территории вплоть до границ с соседним государством не требует особых усилий. Соответственно, зоны взаимных претензий, спорной или неясной национально-государственной юрисдикции, когда-то составлявшие практически всю Вомию, сегодня становятся редкостью. Во-вторых, материальная основа эгалитарных обществ без института верховной власти — общественная собственность на землю — все в большей степени вытесняется государственным распределением земельных прав и индивидуальными безусловными правами землевладения и землепользования. И наконец, стремительный рост численности населения равнинных государств вызвал массовое, все расширяющееся, опирающееся на поддержку государств и даже всячески пропагандируемое ими заселение гор. Новые поселенцы приносят с собой не только сельскохозяйственные культуры и социальную организацию, но и, на этот раз, и свое государство. В результате мир переживает последнее великое огораживание в своей истории.
Глава 8. Пророки возрождения
Поскольку было бы, неплохо дать имя этому искателю спасения в бирманском буддизме, хотя он и ускользает от определений, то почему бы нам, вновь не вдохновиться, веберовским, выражением, и не назвать его просто — «очаровывателем мира».
— Гийом Розенберг. Отречение и власть
Но этот мир, который постоянно ищет все новые возможности быть очарованным, часто готов обнаруживать слабо уловимые подсказки и мгновенно реагировать на них: он живо воспринимает не только молодость, энергию и решимость Тони Блэра, но и кинематографическую мощь Арнольда Шварценеггера и предпринимательский дух Сильвио Берлускони.
— Джон Данн. Освобождение народов
Невозможно даже просто перечислить сотни, а скорее, тысячи восстаний, которые за последние два тысячелетия горные народы поднимали против посягательств со стороны окружавших их государств. Попытка классифицировать эти мятежи в некой системе координат, аналогичной линнеевской систематизации, тем более лишена смысла.
Во главе подобных восстаний обычно стояли люди, изображавшие пророков-чудотворцев (и/или считавшиеся таковыми), которые могли пробиться на авансцену истории, если оставляли внушительный след в хрониках. Они, несомненно, требовали и привлекали к себе внимание, потому что нарушали привычный административный порядок и отношения подчинения, противореча тем самым цивилизационному нарративу о мирном собирании народов. Каждый бунт порождал водоворот посвященных исключительно ему военных и полицейских отчетов, поисков виновных, судебных разбирательств и казней, следственных комиссий, политических изменений и административных реформ. Именно в таком контексте большинство горных жителей появляются в архивных документах ханьских, вьетнамских, сиамских и бирманских государств — либо как законопослушные подданные в стандартных статистических сводках о полученной дани, отработке барщины и налоговых сборах, либо как варвары, открыто выступившие против государства. Огромный документальный шлейф, оставленный многочисленными мятежами, предоставляет невнимательному ученому возможность описать историю жизни многих горных народов как состоящую преимущественно из восстаний, и, конечно, рассказана она будет с позиций тех, кому государство поручало бунты подавлять.
Изучение мятежной жизни Вомии может, как мы увидим позже, многое прояснить в причинах и формах сопротивления равнинным государствам. Но, сфокусировавшись на этих ярких вспышках в истории горных народов, мы рискуем упустить из виду процессы, столь же важные для их развития, но куда менее драматичные. Например, оставить без должного внимания длинную историю миграций и бегств, которые иногда следовали за мятежами, но столь же часто выступали альтернативой военной конфронтации; не заметить не менее значимые, чем восстания, процессы переселений в равнинные государства и ассимиляции с местными народами. Избравшие последний путь, как правило, со временем превращались в тайцев, монов, ханьцев, бирманцев и кинов, а потому уже не значились в исторических хрониках как карены, хмонги, мьены, шаны и т. д. У нас нет оснований полагать, что таких людей было меньше, чем сохранивших свою идентичность членов горных сообществ. И наконец, зациклившись на восстаниях, мы вынуждены будем проигнорировать тот факт, что горные союзники, помощники и наемники равнинных государств принимали участие в подавлении мятежей. Если же мы сможем противостоять гипнозу документального шлейфа, пытающегося убедить нас, будто горы неизменно были охвачены восстаниями, то обнаружим, что пророчества и идеи, порождавшие волнения, представляют собой ярчайший пример крайне неустойчивого взаимодействия государств и живущих на их периферии народов.
Талант к пророчествам и восстаниям: хмонги, карены и лаху
Некоторые народы, проживающие в горных массивах, явно имеют призвание к пророчествам и восстаниям. Судя по литературе, в эту категорию попадают мяо/хмонги, карены и лаху; их мятежи лучше всего задокументированы. В случае мяо/хмонгов (насчитывающих примерно 9 миллионов человек) и каренов (более 4 миллионов) талант к пророчествам и восстаниям может отчасти объясняться их значительной численностью по сравнению с другими меньшинствами, например лаху (примерно 650 тысяч человек) или кхму (568 тысяч), которые, видимо, столь же склонны к бунтам, но далеко не столь многочисленны.
Хмонги
В древнейших исторических записях о восстаниях, безусловно, упоминаются мяо/хмонги[744]. В свою очередь, они сами видят исток своих конфликтов с ханьцами в легендарном поражении короля хмонгов Чи-Ю в битве со столь же известным Желтым императором ханьцев Хуан Ди в третьем тысячелетии до н. э.! Как подсчитал Гарольд Уэйнс, за два столетия, начиная с 400 года н. э., произошло более сорока мятежей мяо, оспаривавших у ханьцев контроль за низменностями в бассейнах Желтой реки и Янцзы. За ними последовали другие восстания, и большинство специалистов сходятся в том, что последние два тысячелетия в истории мяо представляют собой непрекращающуюся череду бунтов, поражений, миграций и бегств[745]. До середины XIV столетия история мяо реконструируется на основе догадок, поскольку название «мяо» часто использовалось в качестве общего обозначения множества безгосударственных народов, оказывавших сопротивление ханьской администрации. Кроме того, в этот же исторический период не существовало четкой границы между мяо и яо/мьенами[746].
Тот факт, что начиная с 1413 года, когда власти империи Мин стали расширять зону своего контроля и проводить широкомасштабные военные кампании в Гуйчжоу, восстания перемежались репрессиями и побегами, впрочем, никем не ставится под сомнение. На всем протяжении правления династий Мин и Цин (1368–1911) «вряд ли можно обнаружить период времени… когда по отношению к мяо и яо не проводились акции подавления или умиротворения»[747]. Два историка, специалисты по этому периоду, не склонные к преувеличениям, охарактеризовали эти кампании как «истребление»[748]. Широкомасштабные восстания были зафиксированы в 1698, 1733–1737, 1795–1803 годах, и, наконец, масштабное восстание мяо охватило Гуйчжоу в 1854–1873 годах, совпав по времени с крупнейшим крестьянским бунтом в истории Центрального Китая — великим Тайпинским восстанием. О огромным трудом восстание мяо было подавлено, но ряд территорий оставался под контролем повстанцев еще целое десятилетие. Разгром мятежников породил широкомасштабный отток хмонгов и остатков тайпинов в горы Северного Вьетнама, Лаоса и Таиланда.
Избежав принудительной ассимиляции, устремившись в поисках автономии через южные границы Китая, хмонги неожиданно столкнулись с аналогичной угрозой со стороны французов в Индокитае и сиамцев — в Северном Таиланде. Последовала длинная череда восстаний против французов в 1904, 1911, 1917–1918, 1925, 1936 и 1943 годах и против сиамских властей в 1901–1902 и 1921 годах[749]. Для нас принципиально важны две особенности практически всех подобных восстаний, характерные также для лаху и каренов, которых мы рассмотрим позже: их возглавляли проповедники милленаристских идей, и они, как правило, привлекали в свои ряды представителей соседних горных народов.
Карены
Карены — обладатели столь же впечатляющей, хотя и не столь же хорошо задокументированной истории восстаний и профетизма. Жизненный путь этого народа позволяет осознать всепроникающий характер культурных ценностей свободы и собственного достоинства, заимствованных в космологии равнинных государств. Проживая вдоль бирманско-тайской границы, карены, насчитывающие примерно 4,5 миллиона человек, — самое многочисленное горное меньшинство в обеих странах. Одни карены исповедуют буддизм, другие — анимизм, третьи — христианство. Культурное многообразие каренов на самом деле столь велико, что многие посвященные им исследования начинаются с уточнения, что у каренов нет ни одной общей, объединяющей их черты. Баптистский миссионер Д. Л. Брейтон был с этим не согласен, утверждая: «Особенностью национального характера каренов является то, что среди них постоянно появляются пророки»[750]. Невзирая на свои религиозные убеждения, карены вновь и вновь демонстрировали стойкую приверженность чудотворящим, харизматическим, неортодоксальным целителям, пророкам и претендентам на королевский престол. Как отметил Джонатан Фалла, работавший медбратом в повстанческом лагере каренов в конце 1980-х годов, эта традиция все еще отчетливо сохранялась: «Они — милленаристы, вечно обнаруживающие в своих рядах военных лидеров, сектантов, „белых монахов“ и пророков, каждый из которых вновь и вновь убеждает их, что царство каренов вот-вот грядет. Анимисты говорят о пришествии Й’ва, баптисты — Христа, буддисты ждут Арриметтайю, будущего Будду. Кто-то из них неизбежно придет, Тох Мех Пах грядет, что-то произойдет… „Вспомни израильтян в Египте, Джо. Сорок лет по пустыне — и вот они в земле обетованной. То же самое случится с каренами, когда пройдет сорок лет“»[751].
Баптистским миссионерам посчастливилось принести библейские заповеди народу, который уже очень давно верил в мессий. Но они совершили ошибку, предположив, что баптистский мессия был именно тем, последним, в котором столь нуждались и которого столь нетерпеливо ждали карены.
Каждая из пророческих традиций, с большим энтузиазмом воспринимаемая каренами, предусматривала установление нового миропорядка в ожидании божественного пришествия. Нередко «святой человек» — будь то целитель, священник, отшельник (уа the) или монах — считался провозвестником грядущего мироустройства и «средоточием добродетелей», вокруг которого собирались верующие[752]. Чей именно приход возвещался — зависело от обстоятельств: это мог быть грядущий король (min laun), зародыш Будды, Ария Майтрейя (каккаватти) или король каренов/спаситель, как, например, Тох Мех Пах, Й’ва, Дуэй Го/Гвей Го (в прошлом лидер повстанцев) или кто-то другой. Практически все эти харизматические космологические персонажи имели свои аналоги в равнинных государствах. Восстания беглых претендентов на трон, мин лаун (mm laiin) в Бирме, и пху мин бун, «праведников» (phu min bun), в Сиаме очень похожи и, можно сказать, формируют традицию поисков «раз-и-навсегда-обретенного-короля» у бирманцев и сиамцев. Карены верят в царство, где есть серебряный город с золотым дворцом, куда попадут праведники по прошествии тысячелетия. Поэтические строки из пророчества каренов, записанные миссионерами в середине XIX века, передают дух подобных устремлений:
Пройдет время, королей талаиков [моков]
Пройдет время бирманских королей
И пройдет время иностранных королей
По придет еще время короля каренов
Когда наступит чае короля, каренов
Он будет единственным, правителем, мира
Когда наступит час короля каренов
Не будет больше ни богатых, ни бедных
Когда наступит час короля каренов
Всякая вещь [и существо] обретет счастье
Львы и леопарды больше не будут дикими[753].
Повсеместно распространенная вера в неизбежность кардинального изменения собственной судьбы, переворота мира с ног на голову и уверенность, что наступит черед каренов обрести власть и сопутствующие ей богатства, дворцы и города, и породили столь долгую традицию мятежей.
Классическим периодом в истории восстаний беглых претендентов на трон Бирмы среди каренов, видимо, следует считать середину XVIII века — войны между преимущественно монским королевством Пегу/Баго на юге Бирмы и Авой, практически бирманским государством на севере[754]. Мин лаун из каренской деревни на севере Пегу появился в 1740 году, его имя было Тха Хла, хотя называли его Гве Мин[755]. О равным успехом он мог быть и не быть кареном, но, несомненно, заручился мощной поддержкой этого народа[756]. То, что началось как восстание пегуанцев против введенных бирманским губернатором высоких налогов, закончилось провозглашением Гве Мина королем Хантавади (район Пегу) и принятием им официального титула О’мин Дхо Вуддахекхети даммарайя — «вместилище добродетелей Будды». Правление Гве Мина было недолгим, но он был «их», каренов, королем. Он был свергнут своим первым министром в 1747 году, и его царствование закончилось войнами между Авой и Пегу, которые, в свою очередь, завершились полным разгромом Пегу новым бирманским королем Алаунпайей в 1757 году. Тяготы этого периода вошли в устную традицию каренов как «голод Алаунпайи». Тысячи монов и каренов бежали от преследований в отдаленные горные районы на востоке или же искали защиты у сиамцев.
О тех пор претенденты на бирманский трон и восстания посыпались как из рога изобилия. Другой мин лаун, возможно, почти современник Гве Мина, прозванный Со Куэй Рен, был первым в очереди из по крайней мере десяти претендентов на трон, утверждавших, что именно они представляют собой династию[757]. Последующие мин лауны и их сторонники надеялись, что Со Куэй Рен вернется вновь с армией. В 1825–1826 годах карены, прислушавшись к пророку, возвестившему грядущее возвращение Й’ва, и воспользовавшись поражением бирманцев в первой из трех англо-бирманских войн, скинули бирманский режим на целых четыре года, прежде чем их восстание было окончательно разгромлено. В 1833 году Адонирам Джадсон, один из первых миссионеров и основатель образовательного учреждения, позже ставшего Рангунским университетом, встретил Ареемадея, пророка из сго-каренов с толпой последователей. Пророк возвестил великую войну, после которой король восстановит буддийский мир. Сопротивляясь настойчивым домогательствам христианских миссионеров, пророк и его свита основали на небольшой территории религиозный орден, а затем заключили союз с принцем кая и вместе сражались против бирманских сил в 1844–1845 годах. Ареемадей, объявивший себя мин лауном, был убит в битве, как и множество его сторонников. В 1856 году не преминувший появиться в горных районах вдоль течения реки Салуин новый король собрал войско из шанов и каренни и отказался платить налоги бирманским чиновникам, представлявшим теперь молодую британскую колонию[758]. В 1867 году в горах недалеко от Папуна среди каренов появился самопровозглашенный король Бирмы, сразу же стигматизированный колониальными властями как бандит. Как это было принято у мин лаунов, он торжественно открыл новую пагоду и водрузил навершие (ft — 08:) на ее шпиль, что считалось монаршей привилегией.
Надо полагать, многие пророки меньшего масштаба, политически бездеятельные или не способные привлечь достаточно последователей, чтобы претендовать на упоминания в колониальных архивах, вели бурную деятельность среди исповедовавших буддизм каренов, но сумели ускользнуть от внимания колониальных властей. Они — неизбежный религиозный атрибут буддийского каренского общества в XX веке. Незадолго до японского вторжения карен, назвавший себя Пху Гве Гу, основал милленаристское движение в бассейне реке Салуин. Он был убит британской частью «Force 136» в годы войны.
У каренов, живших на бирмано-тайской границе, Микаэл Граверс обнаружил две отчетливо различающиеся милленаристские космологии. Приверженцы первой, называющие себя пво-каренами из Движения желтой нити, являются последователями отшельника, который разработал особую систему обрядов и практик. В частности, им было предписано: прекратить разведение свиней и употребление алкоголя; носить на запястье сплетенный из семи желтых нитей браслет; возводить пагоды со столбами фасада, посвященными Богине Земли (Hsong Th’ Rwi), которая защищает обретающих добродетели буддистов до прихода Арийи. Эту секту, получившую название Лу Баун, на местном уровне обычно возглавляет ученик отшельника, который при определенных обстоятельствах может провозгласить себя мин лауном и поднять мятеж. Не далее как в 2000 году столкновение каренских сельских жителей, приверженцев Лу Баун, с полицейскими, патрулировавшими тайскую границу, привело к убийству пяти служителей порядка[759].
Вторая милленаристская буддийская космология, имеющая хождение среди каренов, представлена традицией Телахун. Она обладает множеством общих черт с Лу Баун, но отличается своим «династическим» родством с самим пророком-отшельником Со Йо и запретом женщинам принимать участие в ритуалах. Граверс считает традицию Телахун более иерархической, «равнинной» версией Лу Баун в силу обладания ею сходными с государством структурами и представлениями о будущем, в котором все религии сольются в одну. Похоже, не только социальная структура горных народов, но и их пророческие движения имели дуалистическую природу — одни ее элементы были скорее эгалитарными, а другие иерархическими.
Лаху
Лаху, говорящие на тибето-бирманском языке и связанные с акха, хани, лису и лоло (и), — высокогорный народ, занимающийся подсечно-огневым земледелием, «сердце» территорий которого расположено на юго-западной границе провинции Юньнань. 90 % лаху, или примерно 650 тысяч человек, проживает на западе Бирмы и в провинции Юньнань, между верховьями Красной реки и Салуин (Нуцзян). Даже по меркам горных народов лаху — предельно эгалитарное сообщество, которое практически не склонно к политической консолидации выше уровня небольших деревушек. По мнению этнографов, лучше всего знакомых с культурой лаху, и на уровне отдельных поселений у тех редки эффективные властные институции[760]. Чего у лаху в избытке, так это пророков и проповедников. Свою глубокую пророческую традицию с явно заимствованными из Махаяны элементами анимизма, а теперь и христианства они старательно развивали, чтобы противостоять множеству равнинных врагов — ханьцам, тайцам, британцам и бирманцам.
Мой краткий очерк истории профетизма лаху призван решить три задачи. Во-первых, он описывает необходимую, хотя и очень ограниченную историческую и этнографическую основу религиозной космологии, вдохновлявшей множество пророков лаху и их сторонников. Во-вторых, он проясняет, каким образом ассорти из синкретических религиозных идей, многие из которых были заимствованы у государственных центров, дополненное имитацией институциональных форм равнинных государств, может быть преобразовано, чтобы противостоять их же идеологиям. И наконец, очерк демонстрирует, как профетические идеи и их носители при случае способны обеспечить социальную сплоченность, необходимую для коллективного действия, не только в рамках атомизированного сообщества лаху, но и у других горных народов — ва, каренов, лису, акха и даже тайцев.
Перемещения лаху все дальше на юг и на все большие высоты в течение последних четырех столетий, в основном в ответ на давление со стороны ханьских властей и поселенцев, достаточно хорошо зафиксированы. Но ранее, в начале правления династии Мин (1368–1644), видимо, по крайней мере одна ветвь лаху (лахуна) боролась с тайцами за контроль над плодородной поймой реки Ланьцанцзян на юго-западе провинции Юньнань. Тайцы оказались сильнее и вытеснили лаху в горы, где многие из них стали данниками крупных тайских государственных образований. Таким образом, как и многие другие горные народы, лаху, которые сегодня считаются ур-подсечно-огневыми земледельцами и производителями опия, вероятно, перешли к подсечно-огневому земледелию только после своего поражения и чтобы избежать поглощения тайскими государствами в качестве крепостных.
Еще больше пугала лаху агрессивно-экспансионистская политика ранней династии Цин. Первые упоминания лаху в документах Цин, цитирующих более ранние источники, отчетливо показывают степень презрения, с которой ханьские чиновники воспринимали этот народ: «Они черные, уродливые и глупые. Они едят гречиху, а также кору деревьев, дикие овощи, виноград, змей, насекомых, ос, муравьев, цикад, крыс и диких птиц. Они не знают, как строить дома, и живут в каменных пещерах. Они из той же породы, что и йе рен (уе геп) [дикари]»[761]. Среди ханьцев бытовало мнение, что лаху рождаются с хвостами, которые отваливаются, когда ребенку исполняется месяц.
В рамках политики династии Мин — «управление варварами с помощью варваров» — лаху достаточно легко контролировались поставленными над ними тайскими вождями. Ситуация резко изменилась, когда династия Цин объявила новую политику — прямого управления посредством ханьских гражданских магистратов — в районах проживания лаху. Чтобы ввести институты прямого управления, ханьские власти уволили всех тайских чиновников, провели кадастровое обследование возделываемых земель для оценки плодородия почв и регистрацию домохозяйств с целью последующего их систематического налогообложения. Эта политика, первые шаги которой пришлись на 1725 год, спровоцировала ряд крупных восстаний, начавшихся в 1728 году и растянувшихся на шесть лет. В каждом из них принимали участие межэтнические коалиции лаху, тайцев, хани, лопангов и и, выступавшие против новых налогов, посягательств на их земли ханьских поселенцев, а также императорской монополии на чай. На более поздних этапах восстания лаху возглавил тайский монах, «утверждавший, что обладает сверхъестественными способностями, благодаря которым освободит их от угнетения»[762].
Центральная роль монахов-чудотворцев, или, как их называли лаху, «боголюдей», стала предельно ясна на рубеже веков в ходе целого ряда восстаний (1796–1807) лаху, ва и булангов — на этот раз против налогов и барщины, взыскиваемых с них оставшимися тайскими господами. Почитаемый монах — приверженец Махаяны и этнический ханец, — известный в здешних местах как «монах меди и золота», сыграл важную роль в сплочении лаху в целях мятежа. Разгром этого бунта императорскими войсками, похоже, вызвал широкомасштабный миграционный отток лаху в Бирму и Шанские штаты. Лаху, решившие остаться на территориях, где проходили восстания, впоследствии все больше синизировались.
К 1800 году в целом сложилась типовая культурная модель организации бесчисленных восстаний лаху. Практически всегда их возглавляли святые мужи, которых лаху считали богокоролями, якобы способными излечить от болезней, очистить общину и стать буддийским «вместилищем добродетелей». Благодаря тщательной реконструкции этого культурного комплекса, осуществленной Энтони Уолкером, можно обозначить составляющие его своеобразие ключевые элементы космологии лаху.
Как и многие их горные соседи — качины, лису, акха, — лаху верили в легендарного бога-творца, дуалистическое женско-мужское существо, создавшее небо и землю[763]. Эта предбуддийская традиция не позднее середины XIX века слилась с буддизмом Махаяны (а не Тхеравады, как в случае с тайцами), к которому лаху были приобщены чередой харизматических монахов, основавших храмы (fofang) в горных районах, где проживали лаху. Второму из этой плеяды монахов А-ше и его сестре легендами приписывалась победа над ва, обращение их в буддизм Махаяны и подчинение лаху. Махаяна принесла с собой культ Золотой Земли — нового мира равенства, спокойствия, материального изобилия и независимости от внешнего управления. Помимо утверждения милленаристских верований, монашеская структура Махаяны обеспечила формирование своего рода организационной системы, которая охватывала бы всех лаху и служила бы механизмом урегулирования споров и в то же время мобилизационной повстанческой сетью, выходящей за рамки отдельных деревень. Столь принципиально важное для Махаяны и тантрического буддизма взаимодействие «учитель — ученик» привело к возникновению множества «дочерних» храмов, связанных доктринальными связями и отношениями ученичества cfofang самых почитаемых монахов-основателей.
Следующие пророки лаху практически все были харизматичными монахами, которые провозглашали себя и воспринимались как воплощения духа-творца лаху Гуй-ши и одновременно Будды Шакьямуни (на бирманском языке — s’eq k’ya mίn), пришедшие восстановить этический порядок во всем мире. Две фигуры здесь слились в одну: вечное божество, представляющее родовой дух предков лаху, и всепобеждающий вращающий колесо жизни Будда. Вот как понимал происходящее Уолкер: «Постоянным явлением в жизни лаху, нередко нарушающим ее ритуальную рутину… был святой человек, который, ссылаясь на свое единство с божественным Гуй-ши, стремился преодолеть ограничения социальной организации лаху размерами деревни, чтобы бросить вызов господству навязанного извне политического контроля»[764]. Как и у каренов, задачей пророков лаху было одновременно восстановление традиционных этических принципов и сопротивление равнинным государствам — в данном случае ханьским и тайским.
Частота возникновения пророческих движений лаху позволяет обозначить нечто вроде «карьерной траектории» даже для решительно нестандартного жизненного пути «богочеловека». Местный сельский священник обретал мистический опыт — возможно, в результате болезни — и утверждал, что обладает даром излечения посредством вхождения в транс или колдовской одержимости. Если его способности признавались и появлялось значительное число убежденных в его даре целительства за пределами деревни, то он (или его последователи) утверждал, что познал божественную природу Гуй-ши. Тогда священник мог настоять на проведении ритуальных и доктринальных реформ (посты, молитвы, табу), чтобы очистить общину и подготовить ее к новому божественному порядку. Последний шаг к превращению в богочеловека, который неизбежно переносил имя священника в архивные документы равнинных государств и, видимо, подписывал ему смертный приговор, предполагал объявление наступления нового миропорядка и объединение своих последователей в борьбе против государства в долине.
Уолкер описывает тех боголюдей XX века, что смогли попасть в архивные записи. В китайских документах зафиксировано восстание 1903 года, которое возглавлял пророк лаху и которому предшествовал месячный сбор сил, сопровождавшийся танцами и пением под аккомпанемент духовых инструментов, изготовленных из тыкв. Пророк был убит в бою. Карен — помощник Гарольда Янга, американского баптистского миссионера, сообщил о встрече мужчины лаху к северу от Кенгтунга, «который утверждал, что был мессианским королем» и среди последователей которого были не только лаху, но также акха и шаны. В 1918 году повстанцы лаху напали на офис китайского магистрата (yamen), некоторые из них держали в руках бумажные портреты Будды Майтрейи. К 1920-м годам, когда среди лаху стало распространяться христианство, американский миссионер сообщил, что новообращенный христианин из провинции Юньнань с репутацией пророка и врачевателя привлек огромное количество сторонников, предписав им новые правила питания. Хотя записи о нем крайне фрагментарны, похоже, что этот христианский богочеловек следовал тому же сценарию, что и буддийские пророки лаху до него.
В 1929 году недалеко от Кенгтунга целитель лаху со своими последователями из самых разных этнических групп внезапно возвел оборонительные укрепления вокруг деревни лаху, отказался платить налоги и приготовился атаковать и захватить небольшой тайский город-государство, муанг Хсат. В ситуацию вмешались британские колониальные войска — они уничтожили крепость целителя и разогнали его вооруженных сторонников. Другой пророк лаху, развивший бурную деятельность в период с 1930 по 1932 год, напал на местного вождя ва, а затем отступил в неприступные горы Онг Лонг со своими многочисленными последователями. Там он управлял относительно независимым княжеством.
Хотя архивные документы, отражающие государственную точку зрения, часто описывают мятежи и восстания как беспричинные и абсурдные, несложно реконструировать наиболее правдоподобные спровоцировавшие их факторы, например желание защитить независимость от посягательств равнинных государств. Очевидно, именно такова была причина массовых, сравнительно недавних столкновений в 1973 году между силами бирманского военного правительства и лаху вблизи Кенгтунга[765]. Духовным и светским лидером лаху, считавшимся наделенным божественной силой Гуй-ши и потому хранителем морального порядка, был Моу На Пау Кху. Непосредственной причиной противостояния стала кампания бирманской армии по разоружению лаху, установлению контроля над опиумной торговлей, введению налогообложения домохозяйств, домашнего скота и убоя животных на продажу. Для бирманских властей пророк представлял угрозу формирования зоны автономного управления, чего они категорически не могли допустить. Боевые действия начались после ареста двух торговцев лаху. В них приняли участие тысячи лаху, сотни были убиты, отчасти вследствие их убежденности в собственной неуязвимости. Потери бирманцев в последовавших более чем пятидесяти боях также были значительны. Прослеживается прямая связь между этим конкретным восстанием и более поздним антиханьским движением в провинции Юньнань в 1976 году[766].
То, что христианские миссионеры, особенно баптисты, сумели обратить многих лаху в христианство, неудивительно. В целом восприимчивые к любым формам профетизма лаху увидели в баптизме путь к благости («вечной жизни») и мощного союзника в своих извечных попытках освободиться от диктата ханьцев и тайцев. Открытие школ и обретение пророческой книги обещало уравнять лаху с равнинными обществами, которые стигматизировали их за отсталость. На самом деле многие обращенные в христианство лаху, кто слушал проповеди Уильяма Янга, воспринимали его как очередного чудотворца, богочеловека, призывающего их, как и другие пророки лаху в прошлом, вернуться к нравственному поведению (отказаться от алкоголя, опия, азартных игр), готовясь принять новый Божий промысел. Иными словами, новообращенные христиане-лаху сохранили практически всю свою прежнюю космологию и веру в пророков, лишь незначительно адаптировав их к христианской вере. То, что обещание избавить лаху от подчинения тайским и ханьским господам имело решающее значение для обращения в христианство, весьма проницательно зафиксировали два пресвитерианских наблюдателя за успехами Янга: «Мы упоминаем в первую очередь [политический аспект обращения], потому что, по нашему мнению, именно политические соображения, такие как освобождение от налогов, смягчение требований принудительного труда и отказ дарить подарки своим [тайским] правителям, были основополагающими для принятия крещения лаху, живущими в государствах»[767].
Теодицея маргиналов и обездоленных
Поражает тот факт, что в мире, где, казалось бы, все было против них, маргинальные горные народы и многие обездоленные столь часто были убеждены и вели себя так, будто их освобождение буквально рядом, почти под рукой. Хотя нередко подобная ничем не обоснованная убежденность имела трагические последствия, твердая вера, что история мира развивается в нужном им направлении, заслуживает пристального внимания и, возможно, даже восхищения. Сложно представить, каким был бы наш мир, если бы обездоленные, зная, сколь незначительны их шансы на победу, оказались трезвыми реалистами. Маркс, критикуя религиозную веру, не смог не выразить определенной доли восхищения ею. В отрывке, из которого обычно цитируется лишь последняя фраза, он написал: «Но человек — не абстрактное, где-то вне мира ютящееся существо. Человек — это мир человека, государство, общество. Это государство, это общество порождают религию, превратное мировоззрение, ибо они сами — превратный мир… Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества и протест против этого действительного убожества. Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира и душа бездушных порядков. Религия есть опиум для народа»[768]. Неизменная и настойчивая интерпретация многими горными народами окружающего мира в собственную пользу, их твердая вера в неизбежное освобождение безошибочно напоминают аналогичные ожидания других обездоленных и стигматизированных сообществ: веру анабаптистов в годы гражданских войн Реформации, карго-культы Меланезии, веру русских крепостных, что царь издал-де указ об их освобождении, убеждение рабов Нового Света, что спаситель вот-вот придет, и множество других милленаристских верований о пришествии (или возвращении) короля или бога, ни в коем случае не исчерпывающихся лишь иудео-христианской традицией. По иронии судьбы подобные неверные истолкования окружающего мира время от времени становились столь массовыми и широко распространенными, что вызывали восстания, которые действительно меняли сложившуюся ситуацию.
Учитывая элементы божественного вмешательства и магии, легко обосновать экзотичность пророческих движений, облаченных в религиозные одеяния. Этому искушению надо противостоять. Ему следует сопротивляться, потому что почти все широко известные сражения за власть, которые сегодня расцениваются как «революционные», вплоть до последней четверти XVIII века основывались на очевидных религиозных мотивах. Массовая народная политика по сути была религией, а религия играла в политике ключевую роль. Перефразируя Марка Блока, можно сказать, что милленаристские восстания были столь же естественны для мира вельмож (феодалов), как, скажем, забастовки — для крупных капиталистических систем[769]. До первых двух однозначно светских революций в Северной Америке и Франции в 1776 и 1789 годах практически все массовые политические движения выражали свои устремления в религиозных терминах. Идеи справедливости, прав и того, что мы сегодня называем «классовым сознанием», изначально имели религиозные формулировки: народные чаяния и политику подчинения редко можно встретить в светских облачениях. Как мы увидим далее, то, как потустороннюю окраску получали народные устремления, — вещь в истории не тривиальная. Но в каких случаях политика переставала быть теологическим спором о моральном порядке?
Прочный и самовоспроизводящийся анимистский фундамент народных верований, как, впрочем, и религии спасения — буддизм, христианство и ислам, — гарантируют, помимо всего прочего, что «реально существующая» религия не игнорирует мирские заботы. В принципе, анимистические религиозные практики представляют собой механизмы воздействия на земные дела, призванные обеспечить хороший урожай, излечение болезни, удачную охоту, успехи в любви и на войне, поражение любых врагов, высокие оценки на экзамене и плодовитость семьи. Большинство культовых действий религий спасения, в отличие от их высоких доктрин, отражают ту же анимистскую озабоченность получением конкретных результатов в этой жизни. Культы духов натов и пхи столь глубоко укоренены соответственно в бирманской и сиамской версиях буддизма Тхеравады, что обычные верующие не чувствуют противоречий между этими популярными анимистскими верованиями и каноническим буддизмом[770].
Пророков — пруд пруди
Восстания при участии пророков принято вполне резонно называть по имени их центральной харизматической фигуры (например, восстание Оая Сана в Нижней Бирме в 1930–1931 годах). На мой взгляд, подобный подход некорректно смещает акценты. Во-первых, хотя большинство пророческих движений действительно формируется вокруг отдельных харизматических фигур, во многих случаях милленаристски окрашенная деятельность осуществляется без лидера или под руководством сразу нескольких человек, ни один из которых не играет в ней решающую роль.
Второе и более серьезное мое возражение состоит в том, что пророки — отнюдь не дефицитный товар в истории. Просто только те из них, чьи действия достигают масштабов, достойных мгновенного упоминания в архивах, газетах, полицейских и судебных протоколах, привлекают наше внимание. Как отметил Гийом Розенберг относительно бирманских монахов-отшельников, «мы не замечаем те бесчисленные неудачи, ту толпу безвестных лесных монахов, которые тщетно претендовали на святость… Это правда: нам намного сложнее узнать безвестную судьбу тех, кто потерпел неудачу в попытке достичь святости, чем увидеть удивительную жизненную траекторию прославившихся в истории победителей»[771]. Надо полагать, в римской провинции Палестина в начале I века н. э. можно было обнаружить неисчислимое множество потенциальных мессий, каждый из которых верил, что именно он — воплощение древнего иудейского пророчества[772]. Однако культ лишь одного из них, Иисуса из Назарета, позже был институционализирован как мировая религия.
Харизма — это прежде всего особые культурные отношения между претендентом на статус пророка и его/ее потенциальными последователями. Поскольку речь идет именно об отношениях, межличностном взаимодействии, нельзя сказать, что человек «имеет» харизму, как золотую монету в своем кармане. Конституирующие харизматичность взаимосвязи трудно уловимы, но точно можно сказать: то, что является харизматическим в одном культурном контексте, вряд ли окажется таковым в другом; то, что считалось харизматическим в один исторический момент, может позже оказаться совершенно непонятным. Чтобы стать пророком, помимо обладания уникальными талантами или исключительными личными качествами, человек должен вписаться, так сказать, в определенный репертуар, который формируется достаточно длительное время существующими культурными ожиданиями и запросами. Соответственно, конституирующие харизматичность взаимоотношения можно описать следующим образом: община ищет проповедника, чье слово может принять всем сердцем и кому, как ей кажется, может доверять. Это как если бы пункт назначения был известен и точно обозначен (сколь бы амбициозен ни был) и паства искала бы лишь надежное транспортное средство, чтобы до него добраться. Пророк — просто транспортное средство. Вот почему конкретное пророчество, например о том, что новая жизнь наступит, когда будет построено пятьдесят белых пагод, вызывает меньше интереса (поскольку никогда не сбывается), чем основополагающая человеческая черта — развлекаться, планируя разные варианты будущего социального устройства. Именно она, в силу структурных и исторических причин, позволяла пережить провалы конкретных пророчеств и обретала новые формы выражения. Но почему же тогда складывается впечатление, что некоторые группы обладают особым даром порождать милленаристские ожидания? Почему так много сообществ в горах представляют собой поистине кустарные производства утопических проектов будущего? Видимо, существует некое свойственное горным народам качество, которое наделяет их даром создавать пророков и пророчества.
Когда в обществе появляется успешный пророк, он, по сути, закладывает базовый сценарий профетизма, определяющий ролевой репертуар людей, объявляющих себя пророками. Поэтому можно обозначить некое подобие типичной карьерной траектории пророка лаху. Как осуществляется в данном случае процесс взаимодействия с обществом, можно рассмотреть на примере аналогичного влияния аудитории на средневекового барда. Представим себе барда, который живет исключительно на добровольные пожертвования простых людей на рынке. Допустим, все, кому нравится пение барда, дают ему одинаковые мелкие медяки. Предположим, что речь идет о барде, который хочет понравиться большой аудитории, а потому его репертуар состоит из, скажем, тысячи песен и историй. Учитывая, что любая аудитория имеет собственные предпочтения, я думаю, что постепенно, по мере того как бард будет узнавать свою аудиторию, те песни, что он поет на рыночной площади, — вероятно, даже порядок и стиль их исполнения — будут все точнее соответствовать вкусовым пристрастиям его слушателей. Даже если наш бард не особо искусен в трактовке выражений лиц и восторгов толпы, размеры горки медяков у его ног к моменту закрытия рынка неизбежно повлекут изменения в его репертуаре.
Как у любой другой, у приведенной аналогии есть ограничения. Она недооценивает творческий потенциал пророка и не учитывает его способность расширять репертуар и влиять на вкусы толпы. Используя в качестве аналогии довольно банальное исполнение песен на площади, я, скорее всего, упускаю из виду те высочайшие ставки и безудержные страсти, которые вызывают к жизни любое пророческое движение. Тем не менее моя аналогия наглядно показывает, каким образом культурные ожидания и исторические нарративы ведомого харизматическим лидером сообщества, которое часто ошибочно воспринимается как податливая глина в его руках, могут сыграть решающую роль в определении сценария поведения удачливого пророка. Этот стохастический процесс успешного приспособления общеизвестен — так себя обычно и ведут самые популярные политики и проповедники[773].
«Рано или поздно…»
Любая иерархия самим фактом своего существования порождает социальное неравенство, в основе которого лежат такие критерии, как богатство, привилегии и почести. Каждое основание социальной стратификации формирует особую систему ранжирования: конфуцианский ученый или буддийский настоятель может оказаться на вершине иерархии престижа, но в то же время быть очень бедным человеком. Конечно, в большинстве обществ критерии социального ранжирования взаимосвязаны, и со временем основанные на разных критериях модели стратификации становятся, если использовать финансовую терминологию, равноценными. Социальная иерархия прослеживается в церемониальных, ритуальных и потребительских практиках, но часто признаком цивилизованного поведения считается сокрытие неравенства. Определенные форматы свадеб и похорон, некоторые виды одежды, стили оформления жилых пространств, сценарии празднеств, ритуального и религиозного поведения, развлечений признаются надлежащими и достойными. Те, у кого хватает средств вести себя сообразно высоким стандартам, неизбежно считают себя и воспринимаются окружающими как более достойные социальные образцы и почетные члены общества, чем те, у кого нет ресурсов следовать их примеру[774].
Когда Макс Вебер пишет о «религии непривилегированных классов», он имеет в виду как раз подобные социальные и культурные различия. Стигматизация и бесчестье непривилегированных групп в стратифицированном обществе определяются не столько количеством потребляемых калорий и денежных средств, сколько социальным положением и статусом. Изо дня в день им указывают на то, что их рацион, обряды, похороны и, соответственно, они сами хуже привилегированных классов. «Совершенно очевидно, — отмечает Вебер, — что потребность в „спасении“ в широком смысле этого слова присуща прежде всего… обездоленным классам». И наоборот, «представителям „сытых“, привилегированных классов, военным, бюрократам и плутократии эта идея далека и чужда»[775].
Обездоленные наименее заинтересованы в сохранении и поддержании существующего распределения социальных статусов и богатств и в перспективе максимально выиграют от радикальной социальной встряски. Неудивительно поэтому, что они столь массово вовлечены в движения и религии, обещающие им совершенно иное социальное мироустройство. Живой интерес обездоленных групп к «перевороту мира с ног на голову», так сказать, официально признан в еврейской традиции юбилейного года, когда все долги прощаются, рабы и заключенные тюрем получают свободу. Эта закрепленная в Ветхом Завете традиция, а также идеи бегства из (египетского) рабства в землю обетованную и искупления были крайне серьезно, фактически буквально восприняты рабами в Северной Америке. Имитация социального переворота — суть ежегодных ритуалов обращений, например карнавалов в католических странах, праздника Холи в индуистской Индии и водных фестивалей в Юго-Восточной Азии, когда на короткий период нормальный социальный порядок не поддерживается или переворачивается с ног на голову. Отнюдь не выполняя лишь функцию своеобразных предохранительных клапанов, позволяющих безопасно для существующей системы выпустить накопившееся социальное напряжение, чтобы на весь остальной год упрочить социальную иерархию, подобные ритуальные действа всегда оказывались своеобразной зоной борьбы, угрожающей вылиться в реальный мятеж[776].
Вебер пытался определить таких обездоленных, кто был наиболее склонен верить, будто «рано или поздно появится некий великий герой или бог, который дарует своим последователям то положение в мире, которое они воистину заслужили». Вебер был убежден, что среди крестьян революционная религия привлекала прежде всего тех, кто пребывал в пограничном положении, «под угрозой порабощения или пролетаризации со стороны внутренних (фискальных или помещичьих) или неких внешних политических сил». То есть не столько нищета приводила крестьян в радикальные религиозные секты, сколько неминуемая перспектива утратить статус независимых мелких землевладельцев и попасть в унизительную зависимость — стать безземельными рабочими или, что еще хуже, крепостными. Не будучи изначально особенно религиозными, не говоря уже об ортодоксальной вере, крестьяне (этимологически слово pagan, обозначающее язычника, неверующего, напрямую происходит от латинского рад anus — «житель страны») пополняли ряды революционных антиправительственных сект, когда их экономическая и социальная независимость оказывалась под угрозой. Среди прочих Вебер называет секту донатистов в римской Северной Африке, таборитов (известных также как гуситы) в Богемии начала XV века, диггеров в гражданских войнах Англии и российских крестьян-сектантов как примеры пророческой традиции аграрного радикализма[777].
Идеи Вебера пригодятся нам в разделе о пророческих движениях в горах. Пока же отметим, что крестьянские общины, встроенные в созданный государством социальный порядок, были склонны поддерживать радикальные пророческие движения всякий раз, как их относительно автономному образу жизни в деревнях (самостоятельное урегулирование местных споров, распределение прав пользования пастбищами и общественной землей, выбор лидеров) угрожало навязчивое централизованное государство, то есть опять речь идет не о доходах и продовольственном обеспечении, а о независимости[778].
Религиозное инакомыслие и профетизм с милленаристскими мотивами, по крайней мере в исторической перспективе, столь же широко распространены в долинах и среди населения, инкорпорированного равнинными государствами, как и в горах. На самом деле, как уже было показано ранее, милленаристские идеи, популярные в горах, по большей части заимствованы из идеологических конструктов равнинных государств.
Если мы возьмем в качестве примера Бирму с буддизмом Тхеравады, то обнаружим, что данная традиция имеет полный набор неортодоксальных практик и верований. Так, здесь существуют знатоки алхимии и магии, умеющие летать и владеющие секретом бессмертия (weikza), монахи-отшельники (уа the), исцеляющие посредством общения с духами или погружения в транс, астрологи (bedin saya) и монахи-чудотворцы, любой из которых мог считаться зародышем Будды, Чакаведди или Майтрейи[779].
Одна из фундаментальных проблем буддизма Тхеравады в равнинных государствах — противоречия между лесными монахами и отшельниками, с одной стороны, и священнослужителями, живущими по правилам монастырской дисциплины в одном из (девяти) признанных буддийских орденов, — с другой[780]. Монах, принявший решение идти своим духовным путем, стать отшельником, обычно придерживается серьезнейшей аскезы и строгого поста, медитирует на кладбищах и над трупами, покидает область оседлого сельского хозяйства и правительственного подчинения, вступает в опасный мир могущественных духов и неукрощенной природы. Те лесные монахи, которые стали объектами народного почитания и сведения о которых поэтому дошли до нас, считаются обладающими чудодейственными силами: способностью предсказывать будущее (включая выигрышные номера в лотереях!), отпугивать смерть до пришествия следующего Будды и создавать мощные лекарственные средства и защитные амулеты, а также знают законы алхимии, умеют летать и даровать добродетели своим верным последователям. Тот факт, что оседлые жители равнин считали эти чудесные способности результатом ухода из, так сказать, государственного пространства и с территорий поливного рисоводства с тем, чтобы жить в лесах и на пустошах, по сути, приравнивает безгосударственное состояние к плате за обретение чудесных талантов, возможное только за пределами досягаемости рисового государства. То, что масса лесных монахов не были этническими бирманцами, также свидетельствует о привлекательности горного религиозного инакомыслия[781].
Перечисленные роли в совокупности могут рассматриваться как особое, харизматическое и неортодоксальное направление буддийской традиции. Именно в силу зависимости от вдохновения и харизматичности они всегда порицались как угроза институциональному, иерархизированному духовенству — сангха (sangha). Ровно так же как римские власти благоволили оракулам Аполлона (они появлялись только в высшем обществе) и запрещали бурные кутежи дионисийского культа, столь любимые женщинами и мужчинами из низших классов, исповедовавшие буддизм Тхеравады власти противодействовали запретами угрозе в лице харизматических религиозных лидеров[782]. То, что они представляли для власти непреходящую угрозу, зафиксировано в предупреждении, проговариваемом в ходе буддийской церемонии посвящения в сан: «Ни один член нашего братства никогда не должен претендовать на обладание удивительными способностями или сверхъестественными совершенствами, а также тщеславно провозглашать себя святым, удаляясь в безлюдные места или изображая экстатическое состояние, будто Арийя, а затем отваживаясь учить других пути обретения необычных духовных способностей»[783]. Основатель династии Конбаунов Алаунпайя был настолько озабочен подобной угрозой, что приказал татуировать и изгонять тех, кто не сумел закончить предписанный монахам курс обучения, «чтобы их инакомыслие можно было сразу опознать по знаку на теле»[784].
Каковы же основания религиозного синкретизма бирманских равнинных государств? Я думаю, следует начать с наблюдений Майкла Мендельсона, согласно которым буддийское духовенство сгруппировано там, где наблюдается концентрация богатств и поливного рисоводства, то есть в регионах, оптимальных для государственного строительства. Богатая светская публика, чиновничество и центры официальной монастырской жизни и обучения тяготели к подобным районам. Добавьте к этому пространственному сосредоточению другое наблюдение Мендельсона: влияние буддизма, в отличие от местных религиозных традиций (например анимизма), напрямую определяется силой королевской власти, то есть монархического государства. Тогда нельзя не трактовать неканонический буддизм — практики, запрет которых оговаривается в церемонии посвящения в монашеский сан, поклонение духам природы натам и другие анимистические верования — как разрывы, рубцы, изломы, швы в исторической ткани государственного строительства. Вариативные народные религиозные практики и их приверженцы формировали зоны устойчивого несогласия и инакомыслия как живое свидетельство их неудачного инкорпорирования официальной, поддерживаемой государством религией.
Аналогично тому, как оппозиционная партия в британском парламенте формирует теневой кабинет, воспроизводящий модель действующего правительства, официальный канонический буддизм породил целый ряд альтернативных институциональных форм, которые одновременно копируют его форматы и угрожают его существованию. Вместо базовой модели монастырской школы здесь, за пределами государственного пространства, проповедовали отшельники и лесные монахи, которые не следовали правилам монастырской дисциплины. Вместо официальных милленаристских ожиданий буддизма мы видим целителей, потенциальных мин лаунов, Майтрей, Шакьямуни… обещающих мгновенное наступление утопического будущего своим последователям. Вместо центральных пагод и святилищ — местные нат пве (духовные церемонии). Вместо добродетельной жизни в целях будущего спасения — земные, здесь-и-сейчас приемы повышения шансов на удачу в этом мире. Вместо бюрократизированной, предполагающей процедуру сдачи экзаменов сангхи — харизматические монахи, объединяющие вокруг себя своих свободных последователей. Большинство бирманских буддистов легко и без особых нравственных метаний то поклонялись духам натам в домашних святилищах, то читали Трипитаки в пагодах; по сути, проводимые мной здесь разграничения служат преимущественно аналитическим целям.
По большей степени основания рассматривать альтернативные версии богослужений как свидетельства затянувшихся-но-все-еще-ощутимых разрывов в исторической ткани государственного строительства заложены в поклонении духам природы натам. Многие наты считаются воплощениями когда-то реально существовавших людей, умерших «юными», преждевременной смертью и потому оставивших после себя могущественных духов, способных защитить или, наоборот, причинить вред людям. Что поражает в большинстве самых известных духов, так это то, что легенды об их земных жизнях символизируют неповиновение или восстание против правителей[785]. Так, двое знаменитых «братьев Тонгбион» — мусульмане, любившие развлекаться, — помогли королю обрести важную буддийскую реликвию, однако были так поглощены игрой в шарики, что не принесли два кирпича, чтобы помочь построить пагоду для этой реликвии. За это оскорбление король повелел убить братьев, раздавив их половые органы. Ежегодный фестиваль в честь братьев в деревне Тонгбион, в двадцати милях от Мандалая, представляет собой настоящую вакханалию: обжорство, пьянство, азартные игры и откровенная сексуальность, угрожающая выйти из-под контроля. Полагая, что наты — духи-хранители разных групп и местностей, покоренных стремящимися к централизации политической власти королями, Мелфорд Опиро отмечает оппозиционный в политическом и религиозном смыслах характер культа братьев Тонгбион: духи «символизируют противостояние официальной власти. Поклоняясь им… люди выражают свое несогласие властям. Но нат[ы]… также символ протеста против официальных религиозных институций… Поклоняющиеся им получают возможность выразить свое неприятие буддизма и получить то, что им запрещено»[786]. Другие типы натов включают в себя тех, кто был несправедливо казнен королем (наты брата и сестры Махагири, чьи алтари есть в большинстве домохозяйств), по крайней мере троих цареубийц и несколько развратников, явно олицетворяющих антибуддийское поведение.
В основной пантеон, отчасти централизованно установленный, входят тридцать семь духов — натов (это число считается космологически правильным для дэвов и подчиненных им второстепенных царств). По мнению Мендельсона, этот пантеон представляет собой попытку упорядочить все местные культы в рамках монархической буддийской традиции, примерно так же как культ святых в католических странах исторически связан с дохристианскими языческими божествами. По сути, имело место стремление поставить этих могущественных, но способствующих социальным расколам духов на службу централизованной монархии[787]. Однако столь желанное объединение культов шло с огромным трудом, и поклонение натам продолжало символизировать протест против канонической буддийской традиции и попыток построения единого централизованного государства. Как резюмирует Мендельсон, «имеются неопровержимые свидетельства того, что, как только буддизм укреплял свои позиции, культ натов ослабевал, скажем, вследствие запретительных мер в отношении местных культов; буддизм шел рука об руку с сильной централизованной монархией, тогда как расцвет анимистских верований совпадал с периодами триумфа местных культов и успешных восстаний»[788]. Таким образом, ритуальные практики бирманцев отражали все еще не разрешенные конфликты государственного строительства.
Независимо от культа натов, пропасть между бюрократизированным, официальным, проходящим через процедуру сдачи экзаменов духовенством (в концепции Вебера — рутинизация харизмы), с одной стороны, и монахами-чудотворцами, занимающимися целительством и распространением амулетов, — с другой, совершенно очевидна. Многие деревенские понджи, в соответствии с ожиданиями своих последователей-мирян, сочетали в себе оба типа духовенства. В годы национальных кризисов устремлениям простого народа соответствовало пророческое движение. На самом деле невозможно написать достоверную историю бирманского национализма в XX веке без учета пророческой традиции. О того момента, как вскоре после колониального завоевания У Оттама объявил себя претендентом на бирманский трон (min gyi) и был повешен за неповиновение британцами, берет свое начало почти непрерывная череда потенциальных буддийских вселенских императоров (setkyamin), готовящихся к возвращению Будды, — она тянется до восстания Оая Сана в 1930 году. Хотя этот мятеж вошел в историю под его именем и Оая Сан стал официальным государственным героем, видимо, за свой протонационализм, следует помнить, что он был лишь одним из трех или четырех «претендентов на царский трон» в том мятеже[789]. Сегодня, конечно, именно «неприрученное» духовенство олицетворяет демократические устремления простого народа, тогда как жестко контролируемое официальное духовенство четко следует указаниям высшего военного руководства, осыпающего его представителей и монастыри щедрыми подарками[790]. Пока Не Вин был жив и у власти, он запрещал все фильмы, посвященные культу натов. Поклонение натам и пророческие формы буддизма для организованной и послушной сангхи почти то же самое, что подсечно-огневое земледелие и выращивание корнеплодов — для поливного рисоводства: первые неподотчетны и противостоят государственному поглощению, тогда как вторые способствуют централизации.
Высокогорный профетизм
До недавнего прошлого пророческие восстания на равнинах были столь же частым явлением, что и в горах. Вероятно, от аналогичных движений в горах их отличает то, что они выражали протест против угнетения и неравенства в рамках общепризнанной культурной модели. Несмотря на свою жестокость и затяжной характер, в определенном смысле восстания в долинах напоминали ссоры влюбленных: в полном соответствии с западными концепциями споры велись об условиях общественного договора, тогда как его необходимость под сомнение не ставилась. Нарастающее по крайней мере с XII века культурное, лингвистическое и религиозное выравнивание государственного пространства в долинах, этот с таким трудом достигнутый эффект государства, оставляло болезненные шрамы, но в любых восстаниях ставка делалась только и исключительно на культурное и политическое отделение. В рамках существовавшей культурной матрицы к радикальным политическим вариантам могли стремиться только совершенно обездоленные и/или стигматизированные. Конечно, можно представить себе кардинальную перетасовку карт в социальной колоде, в результате которой будут упразднены все классовые и статусные различия. В метафоре речь идет именно о перемешивании карт в ходе уже идущей игры, а не о том, стоит ли продолжать сидеть за карточным столом, или, если уж на то пошло, о прекращении игры[791].
Условия, которые, как правило, способствуют формированию пророческих и милленаристских движений, столь разнообразны, что ускользают от однозначной систематизации. Но любое из них обязательно включает в себя всепоглощающее ощущение надвигающейся опасности, попытку избежать которой и представляют собой пророчество и действия, предпринимаемые в целях его претворения в жизнь. Подобная угроза может иметь форму стихийного бедствия — наводнений, неурожаев, эпидемий, землетрясений, циклонов, хотя и здесь обычно предполагается участие духов или богов, как у иудеев в Ветхом Завете. Опасности могут быть и делом рук человека: войны, вторжения, непомерные налоги и барщинный труд составляют неотъемлемую часть истории большинства государственных народов.
Относительно автономные горные народы обычно сталкивались со зловещей альтернативой, навязанной им посягающей на их свободу государственной властью. Им приходилось выбирать между порабощением и стремительным бегством, между утратой контроля над своими сообществами и хозяйственными практиками и открытым восстанием, между принудительной оседлостью и распадом и рассеянием. По сравнению с открывавшимися перед населением равнин перспективами перечисленные альтернативы выглядят более драконовскими, если не сказать революционными, причем горным народам нередко приходилось принимать решения, имея минимум информации. А вот и современный пример: представьте себе, сколь судьбоносный выбор должны были сделать хмонги в 1960-х годах — стать союзниками американцев, поддержать движение Патет-Лао или покинуть свои поселения. Горные народы отнюдь не проявляют наивность во взаимодействии с равнинными государствами, но часто вынуждены противостоять угрозам, которые предельно сложны для понимания и оценки и в то же время чреваты тяжелейшими последствиями.
Некие различия в повстанческих стратегиях можно проследить на примере многочисленных восстаний вдоль сиамо-лаосской границы, начавшихся на излете XVII века. Мятежи были следствием негодования простого народа, вызванного высокими налогами, неурожаями и наплывом китайских сборщиков налогов, работавших на Сиам. Эти восстания, хотя их и возглавляли «святые-чудотворцы с пророчествами о местной автономии и социальном равенстве», по сути представляли собой бунты государственного населения, требовавшего пересмотреть условия своего инкорпорирования[792]. К концу XIX века экспансионистская политика королей династии Чакри позволила им расширить свою власть и на горные районы — порабощая жившие там народы, уничтожая тех, кто оказывал сопротивление, и устанавливая прямые формы управления. Повсеместно вспыхивали пророческие мятежи, кульминацией которых стало массовое восстание Анаувонга с центром во Вьентьяне против сиамского правления. Эти мятежи, в отличие от более ранних, в которых участвовали в основном простые жители государств (phrai), можно назвать «бунтами нетронутых земель» в том смысле, что впервые с угрозой поглощения государством столкнулись относительно независимые народы. На этот раз главным вопросом были не условия инкорпорирования, а сама способность государства контролировать местное население и управлять им.
Чтобы горные народы, о которых идет речь, ни в коем случае не показались читателю похожими на коренное население Нового Света, внезапно в XVI веке столкнувшееся с организацией и вооружением более технически развитого государства, необходимо подчеркнуть, что их нельзя заподозрить в наивности. Они давно были знакомы с равнинными государствами. Вспомним в связи с этим значимые различия в масштабах символического, экономического и политического влияния государства. Горные народы, упорно сопротивлявшиеся политическому поглощению, в течение длительного времени столь восторженно заимствовали космологические модели равнинных государств, что сконструировали на их основе собственные традиции мятежей. Товары символической коммерции, в силу своей невесомости и меньшего сопротивления расстояния их обращению, распространялись очень быстро и бойко. Экономические обмены были почти столь же оживленны благодаря тому факту, что горы и равнины представляют собой взаимодополняющие экологические зоны: каждая производит продукты, необходимые другой. Они естественные партнеры. Горные народы всегда пользовались преимуществами добровольных символических и экономических обменов, по мере возможности избегая неудобств политического подчинения, чаще всего принимавшего форму рабства, — этому и только этому принудительному «импорту» из государств они сопротивлялись.
Между прочим, восстания во главе с пророками и святыми поднимались не только против вторжений равнинных государств. Мятежи вспыхивали и в самих горах, нередко в пределах одной этнической группы как превентивная мера против формирования государственных структур. Эта проблематика просматривается в проведенном Эдмундом Личем анализе восстаний против тиранических деревенских старост среди качинов, а также в описании Томасом Киршем синкретического чинского «демократического» культа, который успешно противостоял монополизации общинных празднеств вождями и восстановил «частные» пиршества, позволявшие всем участвовать в конкурентной борьбе за ритуальные статусы. Культурная традиция пророческих движений была одинаково полезна как для предотвращения государства, так и для бегства от него.
Восстания в горах под руководством святых можно рассматривать и как одну из стратегий противодействия государственному инкорпорированию. Стандартные методы с низким уровнем риска, о которых уже говорилось подробно, — подсечно-огневое земледелие, сельскохозяйственные культуры, способствующие бегству от государства, социальное разукрупнение и рассеяние, возможно, даже устная традиция — составляют лишь половину арсенала горных народов, призванного способствовать уклонению от государственного поглощения. Иные методы в этом арсенале, методы последнего отчаянного сопротивления, когда буквально все поставлено на карту, — восстания и сопутствующая им профетическая космология. Собственно, этот арсенал каренов и описывает весьма интригующе Микаэл Граверс:
Неоднозначное стратегическое позиционирование каренов по отношению к равнинам и горам следует описывать как сознательно спроектированную двойственность: его защитное измерение включало в себя, избегание уплаты налогов, отработки барщины и политического подчинения [и] полагание на подсечно-огневое земледелие, охоту и собирательство; тогда как агрессивно-наступательное измерение основывалось на, подражании королевской модели власти, чтобы противостоять государственному контролю и принуждению, а также на создании собственных государственных образований. Оба измерения находили свое моральное обоснование в буддийской этике, копировании буддийских государств и культурной (этнической) критике соседних монархий и государств[793].
Диалог, подражание и родство
Легенды, ритуалы и политические установления горных сообществ можно успешно интерпретировать как результат острых дискуссий с равнинными государствами, чье реальное величие существенно уступало воображаемому. Чем ближе и крупнее было государство, тем большую роль оно узурпировало в диалоге с горными народами. Большинство их мифов о происхождении утверждает некую гибридность «собеседников» или взаимосвязь на основе родства. В некоторых мифах странник/чужак приходит к народу и заключает брак с автохтонной женщиной — их потомки и составляют конкретный горный народ. Согласно другим легендам жители гор и равнин вылупились из разных яиц одних прародителей, а потому являются братьями и сестрами. Иными словами, определенное равенство горных и равнинных сообществ по признаку общего происхождения оказывается частью исторического нарратива. Таким же образом рассказы во многих легендах о том, как когда-то давно горные народы имели королей, книги и систему письменности и выращивали поливной рис в долинах, призваны обосновать изначальное равенство жителей гор и равнин, которое было утрачено, вероломно отобрано или украдено. Одно из главных обещаний многих пророков сводится именно к тому, что, обретя верховную власть, они исправят эту несправедливость, восстановят утраченное равенство и, возможно, даже поменяют народы гор и равнин местами в системе социальной иерархии. Версия хмонгов особенно показательна: согласно легенде, их король Чих-ю был убит основателем китайского государства; в один прекрасный день придет новый король, который освободит хмонгов, и начнется их золотой век[794].
Предположение о культурном диалоге гор и равнин обосновано по крайней мере двумя дополнительными соображениями. Во-первых, горные и равнинные сообщества — взаимопритягивающиеся планеты в огромной галактической системе (индийского или китайского типа). Горные народы, даже не будучи подданными равнинных государств, активно взаимодействовали с ними в экономической области и более широкомасштабном космополитическом обмене идеями, символами, космологиями, титулами, политическими моделями, медицинскими рецептами и легендами. Как уже говорилось о народной культуре, горные народы «постоянно встраивали в ткань собственной жизни значительные фрагменты сложных интеллектуальных традиций… которые были неотъемлемой частью высококультурного пространства»[795]. Менее сложные, чем экономические обмены, более дешевые и абсолютно добровольные заимствования с культурного «шведского стола» позволили горным сообществам воспринять только то, что им хотелось, и использовать это именно так, как они того желали.
Горы и долины также крепко связаны общей историей. Мы не должны забывать, что многие горные народы — потомки, иногда вполне недавние, населения равнинных государств. Они сохранили многие культурные особенности и верования, преобладавшие в равнинных районах их исхода. Как в отрезанных от мира долинах Аппалачей жители продолжали использовать старинные английские и шотландские диалекты, музыку и танцы еще долгое время после того, как все это исчезло в местах своего происхождения, так и горные сообщества формируют некое подобие живых исторических архивов, в которых остаются верования и ритуалы их предков, принесенные в горы с равнин или захваченные по пути в ходе долгих миграционных перемещений. Например, геомантия хмонгов — точная копия ханьских практик, существовавших несколько столетий назад. Модели власти, знаки статусных различий, титулы и одеяния вождей хмонгов могли бы стать музейными экспонатами на выставке, посвященной равнинным государствам. Любопытно, что предубеждение жителей долин, будто бы горные народы олицетворяют «их прошлое», отчасти справедливо, но совсем не в том смысле, в каком они это прошлое представляют. Горные народы не столько сами являются социальными ископаемыми, сколько они заимствовали и нередко бережно сохраняли старинные обычаи долин. Если добавить к этому постоянное бегство в горы преследуемых религиозных сектантов, монахов-отшельников, политических оппозиционеров, претендентов на трон и их окружения и преступников, то становится понятно, как горным сообществам удавалось обретать те характерные черты жизни в долинах, которые там старательно подавлялись.
Когда речь заходит о космологии и религии, взаимосвязь еретических харизматических движений в горах и обездоленных групп в государствах кажется особенно достоверной. Признавая, что жители высокогорий в целом оставались в стороне от религиозных течений государственных центров Юго-Восточной Азии (буддизма и ислама), Оскар Оалеминк проницательно отмечает, что их религиозные воззрения, «часто маркируемые как „анимизм“, содержали в себе множество верований и практик, общих с народными религиозными представлениями в долинах»[796]. В свою очередь, когда равнинные религии все же добирались до гор (например буддизм каренов и шанов), то, как правило, принимали неортодоксальные и харизматические формы, поэтому следует говорить о некоем континууме символического инакомыслия от низших классов государственного пространства до относительно независимых горных сообществ. Именно среди этих групп, обездоленных и маргинальных, самые революционные пророческие воззвания о радикальном преобразовании, «перевороте-мира-с-ног-на-голову» находили наибольший отклик. И конечно, в основном горные народы контактировали с населением равнинных государств на их периферии. Опускаясь в долины в целях торговли и поиска работы, жители гор теснейшим образом взаимодействовали с низшими слоями социальной иерархии равнинных государств, с людьми, которые, наряду с «люмпен-интеллигенцией», состоявшей из монахов и отшельников, были наиболее склонны переселяться в горы. Таким образом, с точки зрения структурных позиций и социальных контактов, видимо, следует оценивать радикальные религиозные движения на равнинах как очень отличающиеся от горных пророческих движений по степени оппозиционности, но не по типу и не по сути. И те и другие акцентировали внимание на мирском значении религий спасения; и те и другие придерживались мифов о справедливом царе или возвращении Будды, который восстановит справедливый порядок жизни; и у тех и у других было достаточно оснований (хотя и различных) выражать свое возмущение равнинным государствам. И наконец, каждое подобное движение представляло собой своеобразный социально-исторический архив разрушающих основы государственности космологии и практик.
По логике вещей, создание нового государства, нового социального порядка, к чему, собственно, и стремились практически все пророческие движения, требовало разрушения существующей социальной системы, поэтому подобные движения имели форму восстаний. Они присваивали властные полномочия, магическое обаяние, регалии и институциональную харизму равнинных государств посредством своеобразного символического джиу-джитсу, атакуя противника его же оружием. Смысл утопии, которую обещал каждый новый правитель, или Майтрейя фактически сводился к прекращению государственных притеснений: все будут равны; больше не будет барщинного труда, налогов и сборов дани; не останется бедных; не будет больше войн и убийств; бирманский, ханьский или тайский угнетатель будет изгнан или уничтожен и т. д. О том, что в настоящем все было не так, можно судить как раз по перечисленным характеристикам грядущего будущего. Многие ожидали нового утопического мира отнюдь не пассивно: к нему готовились, совершая соответствующие ритуалы, объявляя о своей нелояльности, отказываясь выплачивать налоги и совершая набеги. Объединение и мобилизация вокруг фигуры пророка — идиома одновременно становления государственности и восстаний в досовременной Юго-Восточной Азии, а также зловещий знак, хорошо знакомый всем правителям и их советникам.
Изрядное количество чернил было потрачено, чтобы выяснить, можно ли считать использование доминантного религиозного дискурса — скажем, каренскими милленаристскими буддийскими сектами в борьбе с бирманским правлением или хмонгами в противостоянии империи ханьцев — способом подрыва существующего социального порядка, если в символическом отношении он наполнен заимствованиями из государственных ритуалов[797]. Мне кажется, ответ на этот вопрос очевиден, если исходить из позиций участвующих в споре сторон, и ниже я поясню почему. Несомненно, единственным дискурсом, легитимировавшим политическую власть на уровне выше, чем объединение нескольких деревень, был монархический — независимо от того, имел он под собой социальные или божественные основания. Это верно и для европейских восстаний вплоть до конца XVIII века[798]: почти все государства были монархиями, и противовесом плохому королю был хороший король.
Доколониальные, колониальные и постколониальные государства материковой Юго-Восточной Азии (а также Китая) не сомневались в угрозе, исходящей от чудотворных претендентов на трон и их окружения. Они стремились максимально быстро искоренять подобные движения, где бы те ни возникали, и в качестве противодействия им поддерживали формальное ортодоксальное иерархизированное духовенство, которое можно было контролировать из центров государств. Как предсказывал Макс Вебер, они непримиримо враждебно воспринимали все харизматические движения с политическим подтекстом. И тот факт, что потенциальные мятежники опирались на буддийскую космологию и ханьскую имперскую символику, ни в малейшей степени не радовал и не обнадеживал государственных чиновников[799].
Мы не раз отмечали существование того, что можно было бы назвать великой цепью подражаний, протянувшейся от Ангкора и Пагана через все более и более мелкие государства до уровня вождей с весьма небольшими запросами, скажем, в деревушках лаху и качинов. Классические государства моделировали себя по образцу государств Южной Азии — этот процесс можно назвать «локализацией (адаптацией к местным условиям) имперских ритуалов»[800]. Он был широко распространен, хотя обычно непосредственным образцом для подражаний в дворцовой архитектуре, системе титулов и регалий и ритуальных практиках служило ближайшее крупнейшее политическое образование. Для целей нашего анализа важно подчеркнуть, что подобная мимикрия никак не коррелировала с масштабами реальной власти. Клиффорд Гирц утверждает: то, «что посредством соответствующих самопрезентаций выдавалось за высокий уровень централизации, с институциональной точки зрения представляло собой исключительный социальный разброд», как будто символическая централизация была призвана сдерживать факторы, сдерживавшие установление «жесткой» власти[801].
Я полагаю, что примерно та же ситуация, что и с местными претензиями на власть, определяла символический язык восстаний. Это как если бы существовало некое «общедоступное программное обеспечение», которым мог свободно воспользоваться любой мятежник, позиционирующий себя «единожды и навсегда провозглашенным королем». Удастся ли ему привлечь достаточно большое количество сторонников — другой вопрос. В структурном плане у пророка лаху шансов стать вселенским монархом было не больше, чем у вождя местной деревушки ва — возглавить империю, невзирая на то что у обоих в распоряжении имелась необходимая космология. Рассеянное население и сельскохозяйственное производство в сочетании с географией, которая препятствует (если вообще не сводит на нет) широкомасштабной социальной мобилизации, решительно противодействуют реализации космологических устремлений[802]. Ф. К. Лиман справедливо отмечает «значительное расхождение между тем, чем пытаются стать политические системы надлокального уровня, следуя моделям, заимствованным у своих цивилизованных соседей, и тем, чего им действительно позволяют добиться их ресурсы и организационные возможности»[803]. Мелкие государства могли и реально основывались в горах харизматическими фигурами (например, штат Кая в Бирме), более крупные царства — пророками, жившими в равнинных государствах (Алаунпайя), но все они были лишь исключением, подтверждающим правило. Космологическое бахвальство было своеобразной диалектической формой, идиомой, которой только и можно было вербализировать претензии на власть выше уровня отдельной деревни. О идеологической точки зрения оно, безусловно, — наследие имперского прошлого: суть подобного «как если бы» государства не меняется, даже если изредка, вообще когда бы то ни было его космология соответствует эмпирическим реалиям. «Как если бы» государство, претендующее на космологическую гегемонию в качестве имперского центра, — причем, как правило, подобная самопрезентация скрывала фрагментированную и нестабильную политическую ситуацию на местах — ни в коем случае нельзя считать изобретением горных политических лидеров.
Ритуальный суверенитет был характерен и для равнинных государств. Видимо, это была обычная ситуация для Южной Индии, того классического источника моделей политического устройства, откуда равнинные государства Юго-Восточной Азии заимствовали большую часть своей космологии[804].
В мечтах о «как если бы» государстве, в подражательном характере дворцовой архитектуры, ритуальных практик и «правильной» космологии, несомненно, прослеживается влияние магии внушения. Народы вне зоны прямого имперского контроля воспринимали великие государственные центры через те символические элементы, что казались им в высшей степени эффективно работающими. В этом смысле они мало отличались от тех японских чиновников начала эпохи Мейдзи, которые, совершив поездки на Запад, вообразили, что будто бы ключом к западному прогрессу была конституция, и рассуждали так: если страна примет правильную конституцию, то за ней более или менее автоматически последует и прогресс. Действенность этой формулы под сомнение не ставилась. Своей слепой верой жители высокогорий ничуть не отличались от основателей династий и узурпаторов власти в равнинных государствах, чьи советники-брамины тщательно следили за тем, чтобы их дворцы, титулы, родословные и клятвы были «правильными» до мельчайших деталей. Как магические заклинания, их следовало воспроизводить буквально «слово-в-слово».
Видимо, в силу символического магнетизма равнинных государств следовало ожидать от харизматических лидеров в горных районах, независимо от степени их мятежности, демонстраций осведомленности о внешнем мире и установления связей с ним. Все они, практически без исключения, действительно были своего рода космополитами: будучи родом из здешних мест, они, как правило, много путешествовали, говорили на нескольких языках, повсеместно устанавливали контакты и заключали союзы, знали догматы веры и особенности религиозных культов в долинах, были опытными ораторами и посредниками. Так или иначе, они были, если использовать термин из индейского пиджина, весьма «подкованы» (savvy) и находчивы в воспроизведении характеристик равнинных царств. Просто удивительно, на сколь большие расстояния могут путешествовать символические атрибуты имперского величия. В великом Тайпинском восстании, в сотнях мятежей приверженцев каргокультов на тихоокеанских островах, в бунтах против европейцев, возглавляемых пророками Нового Света, ключевыми фигурами были культурные амфибии, знающие особенности и языки обоих миров, в которых они жили и между которыми относительно легко перемещались. Утверждение Стюарта Шварца и Фрэнка Саломона о первых антиколониальных выступлениях в Южной Америке весьма показательно: «С поразительной регулярностью лидеры мессианских и милленаристских восстаний на границах государств оказывались метисами, выбравшими индейский образ жизни, или же, в Андах, бикультурными индейцами, социальные условия жизни которых очень напоминали характерные для метисов»[805].
Функцию взаимоперевода культур можно понимать и вполне буквально, учитывая разнообразие местных языков в горных районах. Николас Тапп описывает могущественного вождя деревни хмонгов на севере Таиланда, который вызывал всеобщее восхищение своими лингвистическими способностями — знанием каренского, китайского, шанского, языков лаху и северных тайцев[806]. Столь же часто космополитизм гор определялся информированностью о религиях равнинных государств и их космологических представлениях. Это объясняет, почему именно монахи, бывшие семинаристы, катехизаторы, целители, торговцы и местное духовенство постоянно пополняли ряды пророков. Согласно Грамши, они — органические интеллектуалы сообществ обездоленных и маргиналов в досовременном мире, хотя следует признать, что этот феномен широко распространился по свету. Марк Блок отмечает выдающуюся роль сельских священников в крестьянских восстаниях средневековой Европы, «зачастую таких же или почти таких же несчастных, как и их прихожане, но более способных, чем последние, рассматривать их невзгоды под углом зрения общего зла — словом, готовых играть по отношению к страдающим массам ту роль фермента, которая во все времена принадлежала интеллигентам»[807]. Макс Вебер говорил об «интеллектуализме париев» как основанном на том, что «большей частью слои, стоящие вне социальной иерархии или на нижней ее ступени, занимают как бы архимедову точку опоры по отношению к общественным условностям. ‹…› Поэтому они способны к непосредственному, не связанному условностями восприятию „смысла“ мироздания»[808]. В горных районах религиозные фигуры играли примерно ту же роль, формулируя чаяния своих сообществ и в то же время используя или по крайней мере нейтрализуя технологии символического воздействия государств.
Двойственное положение лидеров, стоявших двумя ногами в двух разных мирах, делало их потенциально опасными. В структурном плане они могли стать пятой колонной, обслуживающей чьи-то внешние интересы. Эрик Мюгглер описывает деревню в провинции Юньнань, которая, осознав эту угрозу, предприняла чрезвычайные ритуальные и практические шаги по ее сдерживанию[809]. Важнейшая и разорительная обязанность размещать и кормить ханьских чиновников, иногда сопровождаемых сотнями солдат, ежегодно выпадала на долю одной из горстки зажиточных семей. В течение всего года службы принимавшая ханьских «гостей» семейная пара должна была вести себя как ур-лаху и полностью отречься от всего, что могло культурно кодироваться как ханьский формат поведения. Семья носила одежду, считавшуюся наследием предков лаху; ела из деревянной, а не керамической посуды; пила только домашнее пшеничное пиво и не потребляла в пищу виды мяса, характерные для рациона жителей равнин (собачатину, конину, мясо крупного рогатого скота); не говорила на китайском в течение всего года службы. Едва ли можно представить более полный комплекс запретов, призванный сохранить гипер(лаху)национальную идентичность принимающей семьи и удержать ханьцев на почтительном расстоянии. Практически все социальные контакты группы с ханьцами сводились к их взаимодействию со «спикером», представителем группы, который бесплатно квартировал в доме принимающих ханьцев семьи. Он, наоборот, пил и ел вместе с гостями, хорошо одевался, отличался космополитичными манерами, бегло говорил по-китайски и в целом развлекал опасных гостей. Можно сказать, «спикер» был министром иностранных дел деревни, чья работа — успокаивать гостей, максимально ограничивать их требования, выступать в роли своеобразного культурного барьера между ханьцами и внутренней жизнью деревни. Понимая, что сильный и космополитичный местный посредник мог легко научиться получать выгоду из своих обязанностей, лаху изо всех сил старались развести эти две функции, чтобы минимизировать грозящую им опасность.
Внезапный радикальный переворот: социальная структура окончательного бегства от государства
Итак, я полон решимости в последующем повествовании «лишить налета экзотичности» пророческие движения горных районов Юго-Восточной Азии. Как правило, их считают явлениями особого рода, sui generis, принципиальным отказом от нормальной логики рассуждений, а потому — неким типом коллективного помешательства, если не психопатологии[810]. Это очень печально по двум причинам. Во-первых, в таком случае упускается из виду богатая история милленаристских движений на Западе, которая продолжается и по сей день. Во-вторых, подобная трактовка не учитывает, насколько профетизм неразрывно связан с традиционными практиками целительства и с принятием сельскими жителями решений о перемещении деревень или их разделении. Я убежден, что пророческие движения следует, и это будет продуктивно, рассматривать как мощные коллективные варианты названных повседневных практик: они различаются по масштабам и активности, но не по содержанию и типу.
Шаман или знахарь обычно лечит одержимых или больных, впадая в транс и/или через общение с духами. Шаман определяет, что с человеком не так, а затем проводит ритуалы, необходимые для изгнания терзающего его духа. Когда речь идет о пророке, то тут, видимо, что-то явно не в порядке с целым сообществом. Нередко кризис и угрозы столь серьезны, что нормальные культурные сценарии обретения достоинства и уважения — усердный земледельческий труд, храбрость, богатые пиршества, удачная охота, заключение брака и рождение детей, благородные поступки в местном сообществе — более не соответствуют чрезвычайной ситуации. В сложившихся обстоятельствах жизненный мир всей группы рушится и поставлен на карту, восстановить его целостность посредством незначительных преобразований уже не представляется возможным. Вот как характеризует происходящее Тапп: «Если шаман озабочен здоровьем и благополучием отдельных больных и их семей… то мессианский пророк полностью поглощен задачей спасения всего сообщества хмонгов»[811]. Эта роль более грандиозна, болезнь носит коллективный характер, ставки гораздо выше, но пророк все так же выступает, или надеется на это, шаманом для попавшей в беду группы.
Восприятие профетизма как чего-то совершенно исключительного не учитывает те вдохновляемые пророками изменения, которые можно отнести к «низшей лиге» социальных трансформаций, — связанные с распадом на части или сменой местоположения уже существующей деревни. Хотя вряд ли подобные процессы были повседневным явлением, они достаточно распространены, чтобы стать объектом «культурной рутинизации». Любое количество исключительно здравых соображений могло привести к разделению или перемещению деревни и ее полей вследствие истощения почв, роста населения, неурожаев, политического давления со стороны соседних групп или государств, необъяснимой смерти или выкидыша, эпидемии, соперничества борющихся за власть группировок, посещения злых духов и т. д. Каковы бы ни были обусловливающие перемещения деревни причины, для нас важны два аспекта. Во-первых, их всегда характеризует высокая степень неопределенности, тревожности и социальной напряженности: даже новое местоположение деревни не снижало риск возможных угроз — таковы в истории все ситуации заключения политических союзов и принятия решений о начале боевых действий или отказе участвовать в войне. Поэтому в большинстве случаев выбор объяснялся вещим сном. Например, у хмонгов, как правило, известная женщина или мужчина, часто шаман, сообщал о сне, согласно которому следовало переселиться на новое место. Если вопрос стоял о разделе деревни, то «сновидец» со своими последователями собирался, покидал деревню и основывал «дочернее» поселение неподалеку[812]. Для хмонгов с их верой в геомантию любые смены пространственного местоположения по определению были связаны с изменением судьбы.
Деревни каренов перемещались и разделялись весьма схожим образом. Во всяком случае, поселения каренов, как и лаху, кажутся исключительно хрупкими и склонными к распаду по целому ряду причин. Необходимость разделения деревни, как и у хмонгов, как правило, объяснялась пророческим видением, сном или знаком. Так что и речи не может быть о том, что у каренов пророков вообще не было либо они появлялись в качестве завоевателей мира. Профетизм — почти повседневный опыт, связанный с принятием важных, но не эпохальных решений. Соответственно, те пророки, что попадали в архивы, — представители «высшей лиги» этой группы, собравшие вокруг себя огромное количество сторонников для достижения предельно дерзких целей.
Принципиальное отличие милленаристских движений «высшей лиги» от малого профетизма заключается в том, что представители первых, как им указывал пророк, часто сжигали за собой все мосты. В отличие от жителей сменяющих свое местоположение деревень, которые надеялись в новых, лучших условиях восстановить большую часть оставленных повседневных практик, участники милленаристских движений одновременно жаждали и старательно создавали новый мир. Нередко они полностью отказывались от прежних социальных практик: прекращали свои сельскохозяйственные занятия, распродавали рис и землю, отказывались от использования денег, забивали весь домашний скот, радикально меняли рацион питания и привычки в одежде, изготавливали новые амулеты, сжигали дома и нарушали священные табу. После подобного «сожжения мостов» простого пути назад не существовало. Революционные потрясения подобного масштаба неизбежно и полностью меняли социальную иерархию сельского сообщества. Прежняя система социальной стратификации и критерии престижа не имели никакого значения в новом миропорядке, поэтому пророк и его соратники, многие из которых занимали ранее низкостатусные позиции, теперь неизбежно возвышались. Независимо от того, влекли ли подобные преобразования широкомасштабные потрясения во внешнем мире, несомненно, что для переживавшего их сообщества это была революция в полном смысле этого слова.
Милленаризм подобного толка порождает, по сути, социальную структуру бегства от государства, но высшего порядка. Хотя некорректно сводить милленаристские движения к тем функциям, которые они в принципе могут выполнять, возникает искушение задаться вопросом, не упрощают ли они быструю и массовую адаптацию к радикальным изменениям внешнего мира. Собственно, это и предполагает Лиман: «Традиционная привычка сго-каренов… запускать милленаристские движения и лидеров, видимо, выполняет следующую функцию — позволяет кардинально перестроиться в соответствии с новыми контекстами социальных и культурных отношений». Он также отмечает, что милленаристские движения каренов закладывают основы своего рода этногенеза: «Практически полное изменение их религии является следствием именно этого — перестройки этнической идентичности в ответ на трансформации межгрупповых связей»[813].
Описывая недавнее возникновение каренской буддийской секты под руководством У Тузана на юго-востоке Бирмы, Микаэл Граверс подчеркивает, что она отвечала за репозиционирование каренов в зоне войны и массовых переселений: «Пророческие движения говорят о непрерывной переоценке космологии и этнической идентичности, призванной способствовать установлению порядка и преодолению кризиса»[814]. Не каждому пророку удавалось вывести своих последователей в зону относительного мира, стабильности и финансового благополучия — многие потерпели неудачу на этом пути. Но совпадение пророческих движений по времени с экономическими, политическими и военными кризисами свидетельствует о том, что их можно рассматривать как отчаянные социальные эксперименты, как решение бросить кости в игре, где шансы на очень благоприятный исход крайне малы и неравны.
Харизматические движения могут приводить и на самом деле приводили к формированию новых государств и новых этнических и гражданских идентичностей. Самый поразительный и хорошо задокументированный пример — создание в XIX веке двух главных штатов кая — Боулейк и Кантаравади: первый впоследствии стал территорией размещения и перестройки этнической идентичности штата Кая/Каренни в Бирме. Нам известно, что «основатели двух штатов были типичными харизматическими персонажами, уроженцами юга страны, воспользовавшимися своей осведомленностью о внешнем мире. Они заложили религиозно-культовую основу государства кая, которая поразительно напоминала милленаристскую идеологию… монских и бирманских буддистов и живших на равнинах каренов, успевших за этот век побывать и буддистами, и анимистами»[815]. Как уже говорилось, не в последнюю очередь выбор территории определялся и вполне земными соображениями: здесь произрастали последние великие леса ценного тикового дерева. Тем не менее это было все же одно из ключевых этнических репозиционирований внутри группы каренов, и начало ему положил харизматический пророк.
Лаху, как подавляющее большинство горных народов, подразделяются на подгруппы, которые обычно обозначаются цветами: красные лаху, желтые лаху, черные лаху и т. д. Причины их формирования теряются в глубинах веков и легенд, но Энтони Уолкер полагает, что «ряд подгрупп почти наверняка возник благодаря мессианским лидерам»[816]. Вероятно, в исторической перспективе пророческие движения — доминирующий способ коллективного этнического переформатирования в горах. Если так, то этот процесс во многом напоминал разделение деревни, только в более грандиозных масштабах и с более драматическими последствиями, но не был принципиально другим.
Как и в случае с делением деревень, подобные политические рокировки практически всегда влекли за собой репозиционирование относительно соседних этнических групп и близлежащих равнинных государств. Глава каренской буддийской секты У Тузана стремился создать зону мира для своих последователей. Он настолько переориентировал их на сближение с бирманским государством, что его бойцы (Демократическая каренская буддийская армия — ДКВА) мало чем отличались от подконтрольных бирманским военным наемников и спекулянтов. Другие разделения деревень и харизматические движения толкали людей все дальше в горы, заставляли проходить большие расстояния и менять свою культуру, приспосабливаясь к новой ситуации.
Если использовать понятие Макса Вебера, то следует признать избирательное сродство той экзистенциальной ситуации, с которой столкнулись многие горные народы в Вомии, и удивительной пластичности и адаптивности их социальной организации, этнической принадлежности и религиозной идентичности. Эти мобильные, эгалитарные, маргинальные народы прошли длинный исторический путь, полный поражений, бегств и столкновений с могущественными государствами, повлиять на политику которых они не имели почти никаких шансов. Как мелкие торговцы на рынке скорее «получают», чем назначают и устанавливают цены на товары, так и горные народы вынуждены были прокладывать свой жизненный путь, постоянно меняясь и вступая в опасные союзы с мощными державами, в которых по большей части были лишь пешками. Все время страдая от набегов рабовладельцев, требований выплаты дани и вторжений захватнических армий, страдая от эпидемий и периодических неурожаев, они не только разработали хозяйственные и повседневные практики, позволяющие удерживать государство на почтительном расстоянии, но и создали легко изменяющуюся социальную и религиозную организацию, превосходно справляющуюся с задачей адаптации к нестабильной внешней среде. Концентрация еретических сект, монахов-отшельников, самозванцев и потенциальных пророков в большинстве горных сообществ по сути представляла собой инструмент, помогающий им радикально переформатировать себя, фактически изобрести вновь, когда ситуация того требовала[817].
Если несколько отстраненно посмотреть на все происходящее, попытаться понять его смысл и восхититься способностью горных народов буквально в одночасье бросать все и устремляться к новому — пространству, социальной организации, религии, этнической принадлежности, — то станет понятна природа ошеломляющего космополитизма этих относительно бесправных маргиналов. Они не были отсталыми, традиционными, зажатыми мертвой хваткой обычаев и привычек — наоборот, подобно Протею, они были в позитивном смысле изменчивы и многообразны, вновь и вновь придумывая и конструируя себя заново.
Космологии этнического сотрудничества
Первое, что бросается в глаза наблюдателю за жизнью горных сообществ, — их изумительное лингвистическое и политическое многообразие даже на сравнительно небольших пространствах. На моментальном снимке, если бы нам удалось на секунду остановить ход истории, именно эта многоликость стала бы доминантой, принципиальным ее отличием от аналогичного кадра, сделанного в долинах. То, что раньше говорили о балканском национализме — что он любуется своими незначительными различиями, — больше подходит для описания Вомии. И все равнинные государства и их представители — сначала классические царства, затем колониальные режимы, спецназ и Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов, и бирманская правящая хунта сегодня — использовали эти различия в собственных целях и интересах.
Основным и, видимо, давним и устойчивым исключением из этого правила является этническая мобилизация во главе с харизматическими лидерами, активно использующими отдельные элементы милленаристских космологии равнинных государств. В заданном контексте харизма выступает качественно иным инструментом обеспечения социальной сплоченности по сравнению с другими применяемыми для этой цели средствами — обычаями, традициями, родственными связями и древними ритуалами. Так, до своей смерти в 2007 году известный монах Оаядо Таманья, живший в Па-Ане, собрал вокруг себя почти двадцать тысяч единомышленников из самых разных этнических групп. Он был рожден в семье пао, но среди его сторонников были также карены, шаны, моны и бирманцы, жаждущие приобщиться к тому мощному буддийскому источнику добродетелей, что он создал. Хотя его действия против военного режима в Рангуне тщательно скрывались, именно возглавляемое им движение стало крупнейшим проявлением массовых протестных настроений со времени демократического восстания 1988 года. Благодаря этому примеру, а также сотням других, зарегистрированных в архивах и колониальных документах, складывается впечатление, что только харизматические религиозные пророки могли преодолеть разрозненность бесчисленных подгрупп горных народов и объединить огромное число последователей, невзирая на их этническую и языковую неоднородность и различия в происхождении.
Самые серьезные препятствия для ханьской государственной экспансии на юго-западе Китая и колониального контроля в высокогорных районах создавали именно межэтнические коалиции, каждую из которых воодушевляло пророческое предсказание о пришествии справедливого короля и/или наступлении золотого века. Три ярких восстания демонстрируют предельно широкомасштабный характер подобной мобилизации.
Во второй половине XIX века так называемое восстание мяо в Гуйчжоу (1854–1873) на самом деле было многонациональным мятежом, в котором на протяжении почти двадцати лет приняли участие миллионы людей и которое унесло около пяти миллионов жизней. Восстание мяо совпало с беспрецедентной волной бунтов против династии Мин, подверженных влиянию синкретических религиозных культов: восстание няньцзюней с центром в провинции Цзянси (1851–1868); Мусульманское восстание в провинции Юньнань (1855–1873); великое Тайпинское крестьянское восстание (1951–1964). Вследствие своей продолжительности и масштабов восстание мяо оказалось децентрализовано и привлекло множество разрозненных групп, включая бандитов, авантюристов, разорившихся ханьских чиновников и др. Около половины его участников номинально были ханьцами, а большую часть остальных составляли выходцы из этнических горных меньшинств, среди которых мяо были наиболее многочисленны. Китайские мусульмане (хуэй) принимали участие в Тайпинском восстании. Очевидно, базовым идеологическим элементом, сплавлявшим эти громоздкие межэтнические коалиции воедино, была вера в земное религиозное искупление грехов и спасение: «Источником и фундаментом восстаний как ханьцев, так и представителей меньшинств была милленаристская вера. Приверженность народным религиозным культам преодолевала этнические границы. Довольно много мяо принадлежало к сектам, которые возглавляли ханьцы; пусть реже, но случалось и обратное»[818]. Таким образом, радикальные пророческие призывы были обращены одновременно к нижним классам населения государств (скажем, к ханьским шахтерам) и маргинальным горным народам. Несомненно, содержание их утопических ожиданий различалось, но обе группы надеялись на скорое и неминуемое освобождение.
Второй пример панэтнического пророческого движения — так называемое восстание бога-питона, которое охватило Центральное нагорье Вьетнама и отдельные районы Камбоджи в 1937 году[819]. Повстанцев объединяла вера, что бог-питон, общее для высокогорных народов божество, вернулся на землю, чтобы положить начало золотому веку. Бог-питон должен был уничтожить французов, а следовательно, и все налоговые и барщинные повинности; те, кто следовал всем ритуальным предписаниям, должны были войти в золотой век и поделить между собой все французские товары. Движение возглавлял своего рода пророк Сам Брам, который раздавал священные карты и волшебную воду; оно распространилось по всему нагорью, даже в тех районах, где его лидер никогда не бывал. Многие горные группы, в частности зярай, на время восстания полностью оставили свои сельскохозяйственные занятия.
Что оказалось для французов полной неожиданностью, так это ярко выраженный полиэтничный характер восстаний и единая космология. Колониальные этнографы приложили массу усилий, чтобы каталогизировать «племена» Центрального нагорья, и осознание того, что все эти разрозненные народы (часть которых номинально считались католиками!) могут разделять общую мобилизующую космологию, вызывало у них одновременно изумление и тревогу. Пророческое измерение восстания, определившее его широкую географию, не спасло его от расколов по социально-экономическим причинам. В итоге борьба сосредоточилась в тех высокогорных районах, где французские действия по умиротворению были самыми жестокими, влияние буддизма Тхеравады — самым выраженным, а образ жизни горных народов оказался под угрозой. Однако, как показывает Оалеминк, с идеологической точки зрения все подобные мятежи были частью длинной исторической череды восстаний под руководством «праведников», начало которой было положено в далеком прошлом, задолго до прихода французов. Мессианские бунты против лаосских принцев, объединившие все высокогорные народы и вдохновленные буддийским монахом из Лаоса, разразились в 1820 году. За несколько лет до начала восстания бога-питона были разгромлены два пророческих мятежа: так называемое восстание кха на Воловенском плато под руководством «святого человека» Онг Коммадама (изобретателя тайного письма) и мятеж на границе Камбоджи, Кочина и Анама, участники которого атаковали французские позиции. Последний был подавлен с помощью тактики «выжженной земли» и воздушных бомбардировок. Но на этом череда мятежей не закончилась. Многие лидеры этих восстаний спустя поколение принимали участие в деятельности Патет-Лао и Вьетминя. Социализм во Вьетнаме не привел к свертыванию милленаристских движений. После важной военной победы Вьетминя над французами (при поддержке высокогорных народов) в Дьен Вьен Фу горные этнические меньшинства в 1956 году подняли широкомасштабное милленаристское восстание, на подавление которого Вьетминю потребовалось два года. Целые деревни прекращали свое существование, распродавали скот, нападали на правительственные учреждения, в массовом порядке приезжали в Лаос и ожидали здесь неминуемого прихода короля.
И наконец, практически каждое из многочисленных каренских пророческих движений, зафиксированных в документальных источниках, имело мультиэтнический состав. В качестве примеров можно назвать: доколониальное восстание кареновмонов в 1740 году недалеко от Пегу/Ваго, в котором также приняли участие бирманцы, шаны и пао; раннеколониальный мятеж в 1867 году недалеко от Папуна, объединивший кая, шанов, монов и пао; мультиэтничное антитайское движение 1970-х годов «Белый монах»; относительно недавнее движение Оаядо Таманья недалеко от Па-Ана во главе с пао, которое вовлекло в свои ряды многие этнические группы, живущие в горах и на равнинах. В восстаниях под руководством «святых мужей» этнические и лингвистические различия, столь любимые антропологами и чиновниками, видимо, не препятствовали объединению и сотрудничеству.
Следует отметить, что лидеры пророческих движений, как правило, позиционировали себя над или по крайней мере вне рамок обычного порядка родственных связей. Шаманы и монахи, в силу обладания особым даром и статусом, оказывались выше и выпадали из традиционных моделей семейной и клановой политики: в отличие от остальных, их не подозревали в деятельности в интересах своей социальной группы (местной монашеской общины)[820]. В отдельных случаях, в частности у хмонгов и каренов, схожую роль выполнял сирота, сначала ставший героем, а в конце концов и королем. Как человек, не связанный семейными узами и поднявшийся в системе социальной иерархии исключительно благодаря своему уму и способностям, сирота получал уникальную возможность объединить представителей самых разных родов и даже этнических групп.
Вновь и вновь в горах Вомии и других регионах мы сталкиваемся с мультиэтничными восстаниями во главе со «святыми мужами» как типичной формой сопротивления. Хотя мое исследование нельзя назвать систематическим, мне кажется, что я обнаружил тесную взаимосвязь между безгосударственными границами и подобными движениями. В Южной Америке приграничные мятежи вынужденных переселенцев, как правило, принимали форму мессианских бунтов, лидеры которых были представителями двух культур. Историк Ира Лапидус, описывая ситуацию на Ближнем Востоке, уверенно утверждает, что в завоевательных мятежах «родство играло вторичную роль… Они не основывались на родственных связях, а представляли собой скопление разнородных единиц, включая отдельных индивидов, сообщества крепостных, религиозных фанатиков, группировки кланов… и самой распространенной формой их объединения было религиозное подчинение вождю, в роли которого выступал харизматический религиозно-политический лидер»[821]. Отметив ту же особенность мультиэтнических, возглавляемых «святыми мужами» восстаний, Томас Варфилд добавляет: «В этнически фрагментированных регионах Афганистана и в северо-западной пограничной провинции Пакистана восстания, как правило, возглавляли религиозные провидцы, якобы следовавшие божьей воле, чтобы добиться неких боговдохновенных изменений… Харизматические священнослужители… врывались на политическую сцену и поднимали племена на борьбу, утверждая, что ее успех предопределен»[822].
В самых разных условиях — от буддизма и христианства до мусульманства и анимизма — мессианские восстания во главе со «святыми мужами» оказывались самой распространенной формой политического сопротивления. Несомненно, следует принять во внимание, что подобные движения были характерны для небольших, разрозненных сообществ без верховных вождей, в которых отсутствовали базовые институты координации совместных действий. Более централизованные группы могли и организовывали сопротивление и восстания с помощью таких институтов[823]. Лишенные верховной власти сообщества, особенно те, что отличались эгалитарностью, проницаемостью и рассеянием, либо не оказывали коллективного сопротивления, что, видимо, чаще всего и случалось, либо оно носило временный, спонтанный характер и возглавлялось харизматическими лидерами.
Сформулируем эту идею иначе: подвижные и упрощенные формы социальной структуры бегства, характерные для эгалитарных групп, лишали последние структурных механизмов, необходимых для согласованных действий. Мобилизация здесь была возможна только под руководством харизматических пророков, которые находились над и вне любых видов кланового и родственного соперничества. Единственная космологическая модель и идеациональная архитектура, пригодная для подобного ад hoc объединения, основывалась на идее вселенской монархии, в общем и целом заимствованной из религий спасения равнинных государств.
Поклонение духам, напротив, непереносимо на новую социальную почву: как только человек оказывается вдали от привычных пейзажей, все духи кажутся ему чужими и потенциально опасными. Только универсальные религии равнинных государств обещают спасение, не ограниченное никакими пространственными рамками, а потому могут бесконечно заимствоваться[824]. Облик большинства горных сообществ сложился благодаря практикам бегства от государства — рассеянию, подсечно-огневому земледелию, собирательству и разукрупнению, но вездесущность потенциально агрессивных пророческих движений привела к тому, что, «будучи зажаты в угол», когда их привычные способы ускользания от государства были им более недоступны, горные сообщества обретали космологическую архитектуру, которая выступала тем необходимым элементом, что склеивал воедино панэтнические восстания. Неортодоксальные и оппозиционные цели, ради которых горные народы принимали участие в строительстве «как будто бы» государств (прежде всего противостояние поглощению равнинными политическими образованиями), говорят о том, что жители гор никогда не были беззаветно преданы космологиям долин.
Христианство: ресурс дистанцирования и модернизации
О появлением на рубеже веков в горах христианских миссионеров горные народы получили доступ к новой религии спасения, и многие не преминули им воспользоваться. У христианства было два ключевых преимущества: оно обладало собственной милленаристской космологией и никоим образом не ассоциировалось с равнинными государствами, от которых горные народы стремились дистанцироваться. Христианство оказалось мощной и в некоторой степени оппозиционной модернизационной альтернативой и добилось поразительных успехов в обращении горных народов Вомии, но не смогло повторить их в долинах (не считая в некоторой степени Вьетнама).
На большей части Южной и Юго-Восточной Азии горные народы, касты неприкасаемых, маргинальные сообщества и этнические меньшинства, как правило, сохраняли или принимали религиозную идентичность, противоречившую убеждениям государственных центров, чью культуру они винили в собственной стигматизации. Соответственно, если в долинах мы наблюдаем индуизм, то в горах встретим анимизм, ислам, христианство или буддизм. Там, где, как на Яве, в долинах в большей степени представлено мусульманство, в горах мы столкнемся с христианством, анимизмом или индуизмом. В Малайзии, правители которой исповедовали ислам, многие этнические меньшинства в горах придерживались христианских, анимистических или бахаистских верований. Если горные народы и принимали основополагающую религию равнинных государств, то ее еретическую версию. Таким образом, в большинстве случаев население гор, в собственных целях заимствуя космологию равнинных государств, предпочитало явным образом маркировать свою религиозную отличительность.
Для целей нашего анализа важно подчеркнуть, что христианство в горах двояким образом отражает взаимоотношения гор и равнин. Во-первых, оно олицетворяет современную личностную идентичность, «уникальную и обладающую чувством собственного достоинства…. отказывающуюся признавать внешний мир»[825]. Как мы увидим далее, эта новая идентичность сулит грамотность и образование, современную медицину и материальное процветание. Кроме того, в христианскую доктрину встроена милленаристская космология со своей особой версией пришествия царя-завоевателя, который уничтожит всех нечестивых и возвысит добродетельных. Во-вторых, принятие христианства как института, а не только лишь его идеологического содержания, — дополнительный формат и ресурс группообразования, позволяющий группе или ее части изменить свой статус в этнической мозаике. Как и разделение деревень и современные приемы конструирования социальной идентичности (участие в деятельности политических партий, революционных ячеек, этнических движений), принятие христианства — мощный стимул к образованию новых элит и иной институциональной модели социальной мобилизации. Каждый из этих механизмов может использоваться для сохранения и подчеркивания различий гор и равнин (своего рода источник национализма в горах) или же, намного реже, как средство их минимизации.
До прибытия христианских миссионеров пророческие восстания хмонгов базировались на собственных многочисленных легендах о великом короле, который однажды вернется спасти свой народ. Эти легенды дополнялись теми элементами народного (Махаяна) буддизма и даосизма, которые сочетались с подобными ожиданиями. Когда значительное число хмонгов ознакомилось с христианскими писаниями, Иисус Христос, Мария и Святая Троица легко инкорпорировались в их воззрения о грядущем освобождении. В некоторых районах пророки стали столь же часто объявлять себя Иисусом, Марией, Святым духом или всеми тремя сразу, как они провозглашали о скором пришествии Хуаба Таиса, древнего короля хмонгов[826]. Эсхатологическое содержание христианского Писания оказалось настолько близко милленаристским верованиям хмонгов, что потребовалась крайне незначительная его адаптация.
Обещания грамотности и возвращения Книги (Библии) были невероятно важны и привлекательны для хмонгов. Поскольку, согласно легенде, их книга была украдена китайцами (или они ее сами потеряли), хмонги надеялись обрести ее вновь, чтобы избавиться от презрения, с которым к ним всегда относились населявшие долины народы, например те же китайцы и тайцы. В значительной степени именно поэтому американский баптистский миссионер Сэмюэл Поллард, создавший систему письменности хмонгов, которая используется и поныне, считался кем-то вроде мессии. У хмонгов теперь не просто была письменность, это была собственная система письменности. Поскольку идентичность хмонгов конструировалась как набор качеств, противоположных китайским, изобретение Полларда позволило хмонгам считать себя столь же грамотными, но без использования китайской системы письма. Прежде маршрут к мирской троице — модернизации, космополитизму и грамотности — лежал исключительно через китайские и тайские равнинные государства. Теперь же христианство предоставило хмонгам шанс стать современным, космополитичным и грамотным народом, оставаясь при этом хмонгами.
Как ни посмотри, но хмонгам, начиная с кампаний династий Цин и Мин по их уничтожению, а затем и в периоды их беспорядочных широкомасштабных миграций и злополучного союза с ЦРУ в годы Секретной войны, то есть в течение поразительно длительного исторического периода катастрофически не везло. На протяжении последних пяти столетий хмонги сталкивались с угрозой преждевременной гибели и/или оказывались вынуждены бежать намного чаще, чем любой другой однозначно идентифицируемый народ в регионе[827]. О учетом исторического прошлого неудивительно, что хмонги стали столь искусны в мгновенных перемещениях, переформатированиях своей социальной организации и переходах от разных форм милленаристских мечтаний к восстаниям. В определенном смысле речь идет о высокорискованных экспериментах с социальной идентичностью, которые этот народ ставил в надежде изменить свою судьбу. По мере ухудшения своей жизненной ситуации хмонги превратили характерную для себя социальную структуру бегства почти в произведение искусства.
Лаху стали достаточно массово принимать христианство в провинции Юньнань, Бирме и Таиланде с начала XX века. Согласно легенде лаху, примерно за десятилетие до прибытия первого миссионера Уильяма Янга его появление предсказал религиозный лидер ва-лаху Христианский Бог Отец и Иисус были мгновенно объединены с образом бога-творца Гуй-ши, чьего возвращения ждали лаху. Это слияние дохристианских божеств с библейскими фигурами частично объясняется восприятием и адаптацией лаху христианских текстов, частично — стремлением миссионеров встроить христианских персонажей в те легенды лаху, что они знали. Как и африканские рабы в Новом Свете, лаху отождествили себя с евреями — с их бедственным положением, скитаниями, порабощением и конечным освобождением[828].
Второе пришествие Христа трактовалось лаху как несущее им неизбежное освобождение. Вскоре после первых успехов миссионеров в Бирме и Таиланде пророк лаху, вдохновленный христианским учением и пророчествами Махаяны, возвестил, что 1907 год станет последним, когда лаху выплатят дань шанским собва в Кенгтунге, потому что они обрели нового Господа. Пророк привел многих лаху в лоно христианской церкви, однако затем объявил себя богом и взял в жены нескольких женщин, поэтому был «низложен» церковными властями и закончил тем, что возглавил движение против христианства[829]. Таким образом, в случае с лаху, хмонгами и каренами очевидно культурное принятие христианства как набора верований и социального института, призванного служить целям горных народов и нередко направленного против их врагов — равнинных государств — и даже самих миссионеров. Представленная ниже сокращенная версия истории рождения Христа, изложенная в брошюре лаху, отражает дух происходившего культурного симбиоза:
Иисус Христос… [был] человек, мать которого была вдовой. До его рождения несколько предсказателей предупредили его жать, что у нее родится сын настолько сильный, что он завоюет весь мир. Когда, об этом узнал вождь, он так рассердился, что решил убить мать Иисуса. С помощью своих односельчан Мария скрылась в конюшне, где в конских яслях и был рожден Иисус. Мать понесла, его домой, но он выпрыгнул из ее рук. Не успел, он коснуться, пола…. как появился, золотой стул, чтобы, Иисус воссел, на, него[830].
Несколько отстраненно и предельно реалистично взглянув на исторически глубокую и поразительно широко распространенную милленаристскую деятельность, мы вынуждены будем признать, что все имеющиеся о ней записи свидетельствуют о прискорбном провале подлинной магии. Судите сами: обещанный золотой век так и не наступил, ответившие на призыв возвещающих о нем пророков были разгромлены, ограблены и рассеяны, если им удалось избежать гибели. Сам по себе бесконечно унылый перечень пророческих движений на протяжении нескольких столетий — достаточное свидетельство их неизменной тщетности. Исследуя идеологический пейзаж несбывшихся надежд, пытаясь найти в нем хоть что-то позитивное, многие историки и антропологи обнаружили здесь протонационализм и даже протокоммунизм, которые проложили дорогу светским движениям примерно с теми же, но менее магически окрашенными целями и более надежными способами их достижения. Так считает и Эрик Хобсбаум в своей классической работе «Примитивные повстанцы», отмечая, что в революционных программах христианских милленаристских движений отсутствовал только этот элемент — реалистичность[831]: замените Гуй-ши, Господа, Майтрейю, Будду, Хуаб Таиса или Махди авангардной партией пролетариата — и вы получите реальную ситуацию.
Если взглянуть на милленаристские движения как на наиболее продуманную и амбициозную форму социальной структуры бегства от государства, то они будут выглядеть в совершенно ином свете: как дерзкий браконьерский захват идеологической структуры долин, имеющий целью смоделировать движения, нацеленные на отталкивание или уничтожение тех самых равнинных государств, у которых эта идеологическая структура была выкрадена. Еще раз подчеркнем: добиться наступления золотого века никому еще не удалось. Тем не менее милленаристские движения породили новые социальные группы, переформатировали этнические идентичности и создали их комбинированные варианты, способствовали основанию новых деревень и государств, спровоцировали радикальные трансформации повседневных практик и обычаев, запустили процессы перемещений на огромные расстояния и, что немаловажно, сохраняли запас надежды на достойную, мирную и богатую жизнь даже в тисках полного отчаяния.
Горные народы хватались буквально за любые доступные им идеологические инструменты, чтобы выдвигать свои требования и дистанцироваться от равнинных государств. Исходные идеологические образцы они сначала заимствовали исключительно из собственных легенд и божеств, но затем начали находить призывы к освобождению и в религиях равнинных государств, особенно в Махаяне и буддизме Тхеравады. Когда в горные районы пришло христианство, ставшее идеологическим обрамлением грез горных народов, они и его дополнили пророческими призывами. В разное время социализм и национализм формулировали примерно похожие посулы. Сегодня «аборигенность», позиции которой отстаивают международные декларации, договоры и богатые неправительственные организации, предоставляет аналогичные возможности оформления этнических идентичностей и притязаний[832]. Но конечный пункт назначения и сегодня остается прежним — изменились только средства передвижения в заданном направлении. Все воображаемые сообщества сталкиваются с упреками в утопичности своих ожиданий и устремлений: большинство потерпели неудачу, у некоторых конец был не лучше, чем у милленаристских восстаний. Давайте лишь не будем заблуждаться: горные народы отнюдь не монополисты в сфере подражательства, фетишизма и утопических проектов.
Глава 9. Заключение
Дикость стала их характером и природой. Они наслаждаются ей, ибо она означает свободу от авторитетов и неподчинение руководству. Подобная, естественная, предрасположенность является, отрицанием и полной противоположностью цивилизации.
— Ибн Халъдун о кочевниках
Благодаря тому что причудливые обычаи и экзотические горные племена прославляются, в музеях, средствах массовой информации и туристической отрасли, люди — видимо, городской средний класс — приходят к самопознанию, понимая, кем они когда-то были и кем не являются сегодня.
— Ричард О’Коннор
Мир, который я пытался понять и описать в этой книге, стремительно исчезает. Почти всем моим читателям он кажется очень далеким от мира, в котором они живут. В современном обществе будущее свободы зависит от решения чрезвычайно сложной задачи — укрощения Левиафана, а не ускользания от него. Живя в полностью освоенном и заселенном мире, где продолжает возрастать число стандартизированных институциональных модулей, доминантное положение среди которых занимают североатлантические — частная (земельная) собственность и национальное государство, — мы боремся против резких разрывов в доходах и власти, порождаемых богатством, и против все более настойчивого вмешательства государства в нашу жизнь и жизнь окружающих нас людей. Как удачно выразился Джон Данн, никогда прежде «безопасность и благополучие населения не находились в столь унизительной зависимости от навыков и добрых намерений тех, кто им управляет»[833]. Данн добавляет, что единственный имеющийся в нашем распоряжении хрупкий и ненадежный инструмент усмирения Левиафана — еще один североатлантический модуль, заимствованный у Греции, — представительная демократия.
Мир, образ которого я пытаюсь воссоздать, в отличие от современного, сумел не подпустить государство к себе настолько близко, чтобы оно могло смести все на своем пути. В длительной исторической перспективе это тот самый мир, в котором вплоть до недавнего времени проживала большая часть человечества. Максимально упрощенная версия всемирной истории делит ее на четыре эпохи: 1) безгосударственную (на сегодняшний день самая длинная); 2) эпоху мелких царств, окруженных обширной и легкодоступной безгосударственной периферией; 3) эпоху сжатия и завоевания периферий вследствие государственной экспансии; и, наконец, 4) эпоху, когда практически весь земной шар превратился в «управляемое пространство», где периферия стала не более чем фольклорным пережитком. Переходы от одной эпохи к другой были крайне неравнозначны в географическом (Китай и Европа продвигались по этому пути очень быстро, в отличие от, скажем, Юго-Восточной Азии и Африки) и временном (расширение и сжатие периферийных пространств зависело от капризов государственного строительства) измерениях. Но в том, что именно эти стадии определяют долгосрочные исторические тенденции, не может быть ни малейших сомнений.
Так уж случилось, что высокогорная приграничная территория, которую мы решили назвать Вомией, представляет собой одну из древнейших и крупнейших в мире зон бегства и спасения населения, живущего в тени государств, но не полностью ими инкорпорированного. За последние полстолетия сочетание технологических достижений с претензиями на национальный суверенитет поставило под сомнение даже относительную автономию жителей Вомии, так что вряд ли мои аналитические изыскания позволяют оценивать ситуацию после Второй мировой войны. О середины XX века в Вомию хлынул массовый поток, как организованный, так и стихийный, ханьцев, кинов, тайцев и бирманцев — из равнинных государств в горные районы. Подобные миграционные перемещения решают двойную задачу: позволяют заселить приграничные территории достаточно лояльным населением, а также производить торговые культуры на экспорт при одновременном снижении демографического давления в долинах. О демографической точки зрения речь идет о стратегии окончательного захвата и поглощения государствами прежде безгосударственного пространства[834].
Тем не менее до недавнего времени горные массивы олицетворяли собой тот базовый политический выбор, который большая часть человечества могла сделать, противостоя гегемонии национального государства. Выбор состоял не в том, как именно укрощать неустранимого Левиафана, а как позиционировать себя по отношению к равнинным государствам. Доступные способы варьировали от занятий подсечно-огневым земледелием и собирательством в удаленных районах на вершинах горных хребтов в рамках эгалитарных сообществ, то есть пространственно максимально дистанцируясь от центров государственной власти, до расселения в формате иерархизированных сообществ вблизи равнинных государств, чтобы пользоваться предоставляемыми подобным размещением возможностями сбора дани, торговли и набегов. Ни один из вариантов не исключал возможности возвращения в исходное состояние. Группа могла регулировать параметры своего дистанцирования от государства, меняя свое местоположение, социальную структуру, обычаи или хозяйственные практики. Даже если группа не перестраивала свой образ жизни и традиции, ее самопозиционирование по отношению к ближайшему государству могло измениться, буквально уплыть из-под ног, в результате распада или подъема династии, войны или демографического давления.
Кем были жители Вомии? Изначально, конечно, все население материковой части Юго-Восточной Азии, будь то в горах или долинах, состояло из зомийцев в том смысле, что они не были подданными государств. Как только здесь возникли первые мелкие индуистские государства-мандалы, большинство не инкорпорированных ими людей в силу самого этого факта превратились в самоуправляемые народы в окружении (небольших) государств. Как все это происходило и как жило безгосударственное население, мы узнаём благодаря археологическим раскопкам. Полученные данные позволяют предположить, что безгосударственное население характеризовалось широким рассеянием, ремесленной специализацией и достаточно сложной структурой в условиях политической децентрализации и относительного эгалитаризма (судя по равноценному «погребальному инвентарю»). Имеющиеся находки не противоречат версии ряда археологов о существовании «гетерархии» — сложной социально-экономической структуры, в которой отсутствовала единая система социальной иерархии[835]. Данные, которыми мы располагаем, указывают, что горы были слабо заселены и значительная часть безгосударственных народов проживала на плодородных плато и в долинах, крайне редко — в подверженных затоплениям поймах.
По мере того как первые государства, особенно ханьская империя, расширялись, захватывая все новые равнинные территории, пригодные для поливного рисоводства, они порождали по крайней мере два типа «беженцев», со временем определивших облик населения гор. Первый тип составляли прежде безгосударственные народы равнин (многие, возможно, были подсечно-огневыми земледельцами), которые оказались на пути государственной экспансии в ее горизонтальном измерении. Именно из этих групп рисовые государства собрали своих первых подданных. Те из безгосударственных народов, что по каким-либо причинам желали избежать инкорпорирования в государства в качестве подданных, вынуждены были переместиться за пределы их досягаемости — на удаленные от государственных центров равнины или в труднодоступные горы. Таким образом, согласно такой интерпретации, существовал тип безгосударственного населения — те, кто проживал в горах, и те, кто уклонялся от поглощения первыми государствами, — который никогда не был напрямую инкорпорирован государственными структурами. Однако в длительной исторической перспективе горы во все большей степени заселялись благодаря волнам миграции подданных из равнинных государств, бегущих от барщины, налогов, воинских повинностей, войн, борьбы наследников престола, преследований религиозного инакомыслия, непосредственно связанных с процессами государственного строительства. Могло также случиться, что подданные внезапно оказывались в безгосударственном состоянии, когда война, неурожай или эпидемия уничтожали государство или вынуждали людей бежать, чтобы спасти свою жизнь. На замедленной съемке эти пульсирующие всплески миграционных перемещений были бы похожи на нелепую игру, в которой машины постоянно сталкиваются бамперами и каждый новый удар (волна миграции) отражается на уже столкнувшихся машинах (ранее мигрировавших), заставляя их, в свою очередь, сопротивляться давлению или же перебираться в новые районы, также заселенные в ходе предыдущих волн миграции. Этот процесс породил «осколочные зоны» и имеет огромное значение для понимания того, как сложилось то лоскутное одеяло из постоянно переформатируемых идентичностей и местоположений, которое мы обнаруживаем в горах.
Во всех смыслах Вомия — «эффект государства», или, точнее, результат процессов государственного строительства и государственной экспансии. Осколочные зоны и регионы бегства/спасения — неизбежный «темный двойник» проектов государственного строительства в долинах. Государства и осколочные зоны отражают значение этого выражения, которым часто злоупотребляют, в полном смысле слова — они являются теневым культурным порождением друг друга. Элиты равнинных государств определяли себя как цивилизацию через соотнесение с теми, кто жил вне зоны их досягаемости, но от кого они зависели в плане торговли и решения задач пополнения численности подданных (посредством захватов или уговоров). В свою очередь, горные народы зависели от равнинных государств, получая от них жизненно важные товары, и могли выступать плечом к плечу с ними, чтобы в полной мере пользоваться возможностями получения прибыли, в том числе и от грабежей, в целом оставаясь при этом вне сферы прямого политического государственного контроля. Другие горные народы, более отдаленные и/или эгалитарные, судя по всему, структурировали себя как своеобразную антитезу иерархии и властным отношениям в долинах. Народы равнин и гор представляют две противоположные политические модели: первая — централизованная и однородная, вторая — дисперсная и многоликая; каждая нестабильна и состоит из человеческого материала, в то или иное время принадлежащего другой стороне.
Горные сообщества — отнюдь не исходный, первичный «материал», из которого были изготовлены государства и «цивилизации», а скорее, целенаправленный результат процессов государственного строительства, представляющий собой сознательно сконструированный объект, максимально непривлекательный для поглощения. Как и кочевое скотоводство, расценивающееся как форма вторичной адаптации населения, желавшего оставить оседлый образ жизни в аграрных государствах, но при этом продолжать пользоваться предоставляемыми ими возможностями торговли и набегов, точно так же и подсечно-огневое земледелие, в свою очередь, представляет собой тип вторичной адаптации. Как и скотоводство, оно способствует рассеянию населения и не предполагает возникновения «нервных центров», которые может захватить государство. Нестабильная и ускользающая природа подобных хозяйственных технологий крайне усложняет их поглощение. Горные сообщества — с их целенаправленно выбираемыми труднодоступными местоположениями поселений, сложным набором лингвистических и культурных идентичностей, исключительным разнообразием хозяйственных практик, способностью делиться и рассеиваться, подобно «медузообразным» племенам Ближнего Востока, а также умением, отчасти благодаря космологиям равнинных государств, буквально в мгновение ока формировать новые устойчивые идентичности — будто бы специально созданы как самый страшный кошмар основателей государств и колониальных чиновников.
В аналитических целях мы должны вновь обратиться к элементарным единицам любого горного сообщества — это деревеньки, сегментированные генеалогические структуры, нуклеарные семьи и занимающиеся подсечно-огневым земледелием группы. Уникальность, многообразие и взаимозаменяемость идентичностей и социальных единиц в горах делают их неподходящим сырьем для государственного строительства. Эти единицы время от времени образовывали небольшие конфедерации и союзы в военных и торговых целях, под руководством харизматического пророка, но очень быстро распадались на составляющие их элементы. Потенциальные создатели государств считали их бесперспективными, историки и антропологи — в неменьшей степени обескураживающими. Отметив текучесть и химерный характер большинства этнических идентичностей, Франсуа Робинн и Мэнди Оадан не так давно предположили, что с этнографической точки зрения корректнее фокусироваться на анализе деревень, семей и сетей взаимных обменов, отказав этнической принадлежности в ее прежде привилегированном статусе «своего рода артефакта высшего порядка, охватывающего все прочие культурные маркеры; теперь она превратилась лишь в один из множества культурных маркеров»[836]. Учитывая проницаемость этнических границ, совершенно сбивающую с толку вариативность каждой конкретной идентичности и исторически причудливо меняющиеся трактовки того, что означало быть качином или кареном, здоровый агностицизм по отношению к категории этнической принадлежности выглядит исключительно правильным подходом. Если мы последуем мудрому совету Робинн и Оадан, подозреваю, что большинство проблем, связанных с текучестью и полным хаосом в горах, будет разрешено — как только мы станем исследовать социальный порядок и переформатирование идентичностей как стратегическое репозиционирование деревень, групп и социальных сетей относительно политического, экономического и символического притяжения ближайших равнинных государств.
Бегство от государства и предотвращение государства: глобальные и локальные стратегии
Свое исследование Вомии, точнее, ее горного массива, я начал не столько в целях изучения горных народов как таковых, сколько в качестве этапа написания своего рода глобальной истории народов, ускользающих от государства или выталкиваемых им. Несомненно, эта задача мне одному не по плечу и в идеале должна решаться совместными усилиями огромного числа ученых: только в юго-восточно-азиатском контексте мне пришлось бы осветить существенно больше вопросов, чем удалось рассмотреть в этой книге. Как минимум в нее следовало бы включить историю морских цыган (оранг-лаутов), которые в качестве стратегии избегания государственного состояния выбрали переселение на лодки. Будучи рассеяны по морским пространствам, они могли скрыться от работорговцев и государств в сложных переплетениях водных путей архипелага, совершая набеги, захватывая рабов и иногда служа наемниками. Некоторое время в малайском Малаккском султанате они были фактически морской версией казаков на службе царских вооруженных сил. Жизнь оранг-лаутов была многими нитями связана с населением мангровых побережий и вечно меняющихся дельт великих рек Юго-Восточной Азии. Каждое из этих мест серьезно усложняло государственный контроль, а потому служило зоной спасения от него.
Другие народы и географические условия, которые могут быть вписаны в глобальную историю внегосударственных пространств, упомянуты в книге попутно, в качестве иллюстративных примеров. Жизнь цыган, казаков, берберов, монголов и других кочевых скотоводов имеет принципиально важное значение для реконструкции истории государственных периферий. Общины беглецов везде, где несвободный труд был неотъемлемым элементом государственного строительства, как в большинстве регионов Нового Света, России, римского и исламского мира, отвечают за другую часть этой глобальной истории, не говоря уже об африканцах, подобных догонам, у которых избегание государства было главной жизненной ценностью. Безусловно, и рассказ о колониальных завоеваниях, в результате которых коренные народы оказывались под угрозой истребления или вынуждены были бежать из прежних мест обитания в новые, составил бы отдельную большую главу в нашей истории[837]. Сравнительное изучение зон бегства показывает, что, несмотря на всю их географическую, культурную и временную разбросанность, они обладают рядом общих черт. К какой бы исторической эпохе они ни принадлежали, большинство осколочных зон, куда с течением времени устремлялись самые разные группы, отличают то особое этническое и лингвистическое многообразие и подвижность, которые мы обнаружили в Вомии. Помимо предпочтения особо удаленных и труднодоступных приграничных территорий, переселяющиеся сюда народы, как правило, придерживались таких хозяйственных практик, которые максимально увеличивали их рассеяние, мобильность и сопротивляемость государственному поглощению. Их социальная структура также способствовала пространственному рассредоточению, разделению и переформатированию групп, в результате чего они казались внешнему миру некоей бесформенной массой, в которой отсутствовали явные институциональные рычаги для внедрения проектов унифицированного централизованного управления. И наконец, многие, но ни в коем случае не все группы на внегосударственном пространстве отличались сильными, даже жестокими традициями поддержания эгалитаризма и автономии одновременно на поселенческом и родовом уровнях, и эти традиции эффективно противостояли установлению тирании и постоянной социальной иерархии.
Большинство народов, проживающих в горном массиве Вомни, видимо, выбрали достаточно внушительное количество культурных способов, позволяющих уклоняться от поглощения государством, но при этом пользоваться всеми экономическими и культурными возможностями, которые гарантирует соседство с ним. Частью этого набора является исключительная подвижность и неопределенность идентичностей, которые горные народы могут примерять по мере необходимости. Эта поразительная черта так сильно раздражала государственных чиновников, что Ричард О’Коннор предположил: если обычно мы утверждаем, что группа обладает этнической идентичностью, то в Юго-Восточной Азии, «где народы меняют свою этническую принадлежность и местожительство достаточно часто, лучше говорить, что этническая идентичность заполучила народ»[838]. Пожалуй, это одна из базовых характеристик осколочных зон на пересечении границ нестабильных государственных образований, своего рода награда за поразительную адаптивность. Большинство горных сообществ имеют в своем распоряжении полностью собранный багаж для путешествий либо в пространстве, либо между идентичностями, либо по обоим маршрутам сразу. Обширный репертуар языков и этнических принадлежностей, способность к собственному переизобретению согласно пророческим откровениям, короткие и/или устные генеалогии и талант к фрагментации — вот базовые «вещи» в их внушительном дорожном наборе.
В заданном контексте следует обратиться к оценке горных народов Фернаном Броделем, а именно к его утверждению, что их «история сводится к полному отсутствию таковой и постоянному пребыванию на обочине великих цивилизационных волн»[839]. В отношении Вомии эта идея не работает и требует радикального пересмотра, поскольку горные народы имеют множество версий истории, которые используют по отдельности или в разных сочетаниях в зависимости от обстоятельств. Некоторые из них, например лису и карены, имеют предельно короткие родословные и обрывочные воспоминания о миграциях. У вас складывается впечатление, что у них нет определенной истории, только потому, что они научились путешествовать налегке, не зная, каким будет их следующий пункт назначения. Они не живут вне времени, без истории. Скорее, будто трамповые суда, идущие по великим торговым путям, или цыгане, колесящие по дорогам государств, они развили искусную ловкость, от которой зависит их жизненный успех. Их интересам соответствует сохранение как можно большего количества открытых возможностей, одна из которых — выбор из множества версий истории. Фактически они «имеют» ровно столько истории, сколько им требуется.
Подобные варианты культурного позиционирования наряду с географической удаленностью, мобильностью, выбором сельскохозяйственных культур и технологий земледелия, а также социальная структура без верховной власти и рычагов управления, несомненно, представляют собой приемы избегания государства. Но крайне важно понимать, что горные народы уклонялись не от отношений с государствами, а от статуса их подданных. Жители государственных периферий старательно избегали жесткого контроля со стороны фискальных органов с их способностью выбивать из подданных прямые налоги и трудовые отработки. Однако горцы стремились, иногда с очевидным пылом, установить с равнинными государствами такие отношения, которые сочетались бы с высокой степенью политической автономии. Так, огромное количество политических конфликтов породила борьба за привилегированный статус основного партнера того или иного торгового центра в долине. Как мы уже убедились, горы и равнины были дополняющими друг друга агро-экологическими нишами, что, как правило, означало постоянную конкуренцию равнинных государств за возможность получать товары гор и пополнять их жителями собственное население.
Как только благоприятный формат отношений устанавливался, он мог сразу же приобрести черты данничества, которое, несмотря на всю свою внешнюю асимметричность, зафиксированную в церемониалах и архивах равнинных государств, на практике нередко означало главенство горного партнера — не следует принимать самопрезентации равнинных государств за чистую монету. За пределами жестко регулируемой государственной властью сферы налогообложения и барщинного труда лежала существенно большая по масштабам теневая экономика, в которой обменные операции существовали в рамках данничества. Эта теневая зона обеспечивала устойчивые и взаимовыгодные торговые связи, которые, за крайне редким исключением, не предполагали ничего похожего на постоянное политическое подчинение. Чем выше была стоимость товаров и меньше их размер и вес, тем больше росла теневая экономика; когда речь шла о драгоценных камнях, редких лекарственных препаратах и опии, ее размеры были просто безграничны[840].
Символическое и космологическое влияние великих равнинных государств было одновременно широкомасштабным и поверхностным. Выли ли его корни китайскими, индийскими или экзотическим сочетанием тех и других — почти все идеи, легитимирующие властные претензии выше уровня отдельной деревни, были заимствованы у равнинных государств. Эти идеи, оттолкнувшись от своих причалов в долинах, уходили в свободное плавание и переформулировались в горах в соответствии с местными задачами. Термин «бриколаж» хорошо описывает этот процесс, поскольку фрагменты равнинных космологии, систем регалий и титулов, одеяний и архитектуры перемешивались и собирались пророками, целителями и амбициозными вождями в уникальные сочетания. Тот факт, что исходный символический материал импортировался из долин, совершенно не мешал высокогорным пророкам вплавлять его в милленаристские ожидания, посредством которых они мобилизовывали горные народы на борьбу с культурным и политическим господством равнинных государств[841].
Роль космологии в обеспечении коллективных действий и преодолении того, что некоторые обществоведы назвали бы транзакционными издержками социальной фрагментации, гипотетически вписывается в общую концепцию избегания государств. Те самые особенности горных сообществ, что помогали им уклоняться от инкорпорирования, — рассеяние, мобильность, этническая сложность, подсечно-огневое земледелие в небольших группах и эгалитаризм — способствовали социальной раздробленности и оказывались непреодолимыми препятствиями на пути к объединению и коллективным действиям. По иронии судьбы единственный ресурс и фундамент сотрудничества горных народов был заимствован из долин, где социальная иерархия и соответствующая ей космология воспринимались как должное.
Практически все горные сообщества демонстрируют тот или иной тип избегающего поведения. У одних оно сочетается с определенной степенью внутренней иерархии и время от времени с имитацией государственного строительства. Другие, напротив, совмещают стратегии избегания государства с практиками, предупреждающими формирование государственных структур внутри сообществ. Видимо, группы без институтов верховной власти, с сильными традициями равенства и санкциями против устойчивых иерархических отношений, например акха, лаху, лису и ва, следует отнести к последней категории. Сообщества, придерживающиеся стратегий предупреждения государства, обладают рядом общих характеристик: не допускают формирования постоянных иерархий родов через брачные союзы; как правило, имеют традицию предостерегающих легенд об убийствах или изгнаниях слишком амбициозных старост; наконец, их деревни и роды обычно распадаются на более мелкие и эгалитарные, если возникает угроза укрепления системы неравенств.
Вариативность расколов и форм адаптации
Пытаясь описать осколочные зоны или регионы бегства, такие как Вомия, мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. Чтобы отразить текучесть и пластичность горных сообществ, приходится с чего-то начинать, даже если это «что-то» тоже пребывает в движении. Я выполнил это условие, заведя разговор о «каренах», «шанах» и «хмонгах» так, будто они представляют собой цельные и статичные социальные единицы. Но они явно таковыми не являются, особенно если наблюдать за ними в длительной исторической перспективе. Поэтому, рискуя окончательно запутать читателя и самого себя, я был вынужден вернуться к описанию того, насколько радикально текучи были горные сообщества. Беглецы из долин постоянно, насколько можно судить, пополняли население гор, а горные народы поглощались и ассимилировались равнинными государствами, но «граница» между народами гор и долин сохранялась, невзирая на массовые перемещения в обоих направлениях. Горные сообщества весьма проницаемы: многокомпонентность свойственного им формата идентичности определяет абсолютную произвольность любых жестких «идентификационных разграничений». Если горные сообщества переформатируют себя, то так же поступают и составляющие их индивиды, родственные группы и общины. И если горные сообщества как-то позиционируют себя относительно проектов государственного строительства в долинах, то соответствующим образом они выстраивают и свои отношения с горными соседями в этом сложноустроенном смешении народов[842]. В этом нет ничего удивительного: процессы позиционирования и взаимной адаптации являются лейтмотивом политической жизни в горах. Нас все это буквально сводит с ума, но некоторым утешением может служить тот факт, что, хотя реалии гор ставили в тупик колониальные режимы и государственных чиновников, сами горцы никогда не путались и не сомневались в том, кем являются и что делают.
Адаптация к опасностям и искушениям со стороны соседних политических образований вряд ли является отличительной чертой народов, живущих на периферии государств. Населяющее их крестьянство также разработало ряд приемов, позволяющих использовать благоприятную конъюнктуру проживания в политическом центре и при этом ограждающих от наихудших последствий государственных потрясений. Имевшийся в распоряжении китайских крестьян в периоды правлений династий Мин и Цин набор стратегий адаптации к династическим кризисам и эпохам устойчивого социального порядка и процветания детально исследован Дж. У. Окиннером[843]. Для целей нашего анализа важно подчеркнуть общую характеристику подобных наборов: они представляли собой ряд защитных мер крестьянства, которое не желало покидать место своего проживания и оставлять оседлое сельское хозяйство. По сути эти меры являлись способом самообороны в крайне стесненных обстоятельствах. Изучение стратегий адаптации крестьянства в центрах государств позволяет понять, насколько большими возможностями располагали народы на периферии государственных пространств.
В периоды укрепления династий, мира и оживленной торговли, как поясняет Окиннер, местные сообщества становятся более открытыми и учатся извлекать пользу из появляющихся новых возможностей внешнего мира. По мере их использования они развивают свою экономическую специализацию и торговлю, налаживают административные и политические связи. И наоборот, в годы упадка династий, экономической депрессии, гражданских столкновений и бандитизма местные сообщества все больше закрываются от внешнего мира, прибегая к самоизоляции как средству самозащиты. Согласно Окиннеру, она обеспечивалась четко по схеме: сначала обязательное замыкание в себе, затем ограничение экономических контактов и, наконец, жесткая военная оборона. Образованные люди и торговцы возвращались домой, экономическая специализация сокращалась, местные запасы продовольствия прятались, чужаки изгонялись, формировались отряды для охраны урожая, возводились частоколы, организовывалось местное ополчение[844]. Если бегство и восстание были недоступны, то все, что оставалось местному сообществу перед лицом нарастающей угрозы со стороны внешнего мира, — оградиться от него социокультурными, экономическими и военными барьерами. Не сдвигаясь с места, оно пыталось создать автономное автократическое пространство и объявляло о независимости от более крупной социальной системы, если опасность сохранялась. Когда угроза отступала, местное сообщество постепенно открывалось внешнему миру, но в обратной последовательности: сначала в военном, затем в экономическом и, наконец, в социокультурном отношении.
Горные сообщества Вомии обладают сопоставимым, но более широким набором возможностей, при этом выбор тех или иных конфигураций определяется либо желанием более тесной интеграции с соседними государственными образованиями, либо же, наоборот, стремлением удержать их на расстоянии. В отличие от описанного Окиннером китайского крестьянства, застрявшего-в-грязи-для-выращивания-поливного-риса, жители возвышенностей были мобильны и могли перемещаться на значительные расстояния, располагали целым рядом хозяйственных технологий, которые можно было применять по отдельности или в разных сочетаниях, как того требовали обстоятельства. В конце концов, горные сообщества фактически были сформированы несколькими волнами сепаратизма, но могли регулировать и корректировать его степень. Подобные изменения могли касаться целого ряда критериев, мало доступных крестьянству в центрах равнинных государств. Первым из них было местоположение: чем выше и отдаленнее размещались поселения, тем дальше они оказывались от центров государств, набегов рабовладельцев и налогообложения. Второе измерение составляли размеры группы и мера ее пространственного рассредоточения: чем меньше были поселения и больше степень их рассеяния, тем менее привлекательным объектом группа оказывалась для работорговцев и государств. И наконец, горные народы имели возможность менять и меняли свои хозяйственные практики, каждая из которых означала определенное позиционирование по отношению к государствам, социальной иерархии и политическому поглощению.
В заданном контексте Хьёрлифур Йонссон противопоставляет три хозяйственные стратегии: 1) охоту-собирательство и сбор даров природы на продажу; 2) подсечно-огневое земледелие; 3) оседлое сельское хозяйство[845]. Собирательство практически гарантирует непоглощение государством и не способствует развитию социального неравенства. Подсечно-огневое земледелие устойчиво к поглощению государством, но может создавать излишки продукции и некоторую, обычно временную, иерархию[846]. Оседлое сельское хозяйство, особенно такая его разновидность, как поливное рисоводство, привлекательно для государства и набегов и неразрывно связано с крупными поселениями и устойчивыми социальными иерархиями. Перечисленные сельскохозяйственные технологии могли комбинироваться в разных сочетаниях и соотношениях, которые менялись со временем, но для яо/мьенов было совершенно очевидно, что любое решение о модификации хозяйственных практик влекло за собой политические последствия. Собирательство и подсечно-огневое земледелие воспринимались теми, кто этим занимался, как формы политического дистанцирования от равнинных государств, и собирательство было в этом случае более радикальным выбором[847].
Таким образом, жившие в горах группы имели в своем распоряжении широкий выбор мест, пригодных для поселений, и доступных социальных и агроэкологических стратегий, которые включали в себя весь диапазон жизненных практик, начиная с занятий поливным рисоводством в долинах и добровольного инкорпорирования в качестве крестьян в равнинное государство и заканчивая собирательством и подсечно-огневым земледелием в отдаленных, укрепленных, обнесенных частоколами поселениях, жители которых старательно поддерживали свою репутацию безжалостных убийц всех тех, кто посмеет вторгнуться на их территорию. Между этими двумя абсолютно полярными противоположностями находилось множество разных сложных комбинаций — какая именно из них задействовалась в конкретный момент времени, зависело частично, как у китайских крестьян Окиннера, от внешних обстоятельств. В мирное время, в периоды экономической экспансии и государственной поддержки поселений горные группы обычно переходили к оседлому земледелию, перемещались ближе к государственным центрам в долинах, стремились установить с ними отношения данничества и торговое партнерство, сближались в этническом и лингвистическом отношениях. В годы войн, социальных кризисов, непомерного налогового бремени и набегов за рабами горные народы начинали смещаться в обратном направлении и, по всей вероятности, к ним присоединялись беглецы из центров государственности.
Каждый горный народ в конкретный момент времени, как правило, придерживается определенной конфигурации хозяйственных практик, например занимаясь подсечно-огневым земледелием на больших высотах и выращивая опий. Может показаться, что именно культура определяет выбор той или иной сельскохозяйственной технологии, однако в длительной исторической перспективе мы, скорее всего, обнаружим значимые различия хозяйственных занятий этнической группы, поскольку зачастую ее подгруппы оказывались в разных ситуациях. И нет никаких оснований полагать, что трансформации происходили в одном-единственном направлении[848]. Напротив, чем больший временной отрезок мы берем, тем больше у нас поводов говорить о многократных переформированиях, которые имели целью сближение с равнинными государствами или дистанцирование от них и которые стали «традицией» в рамках гибкой устной культуры.
Здесь следует вспомнить, что большинство собирателей и кочевых народов, а возможно, и подсечно-огневых земледельцев — не сохранившиеся осколки коренных народов, а скорее, результат многочисленных адаптационных процессов, происходивших в тени государств. Пьер Кластр полагал, что сообщества собирателей и подсечно-огневых земледельцев, в которых отсутствуют институты верховной власти, превосходно приспособлены для того, чтобы пользоваться всеми преимуществами своих агроэкологических ниш в торговле с близлежащими государствами, но при этом умудряться ускользать от подчинения им в качестве подданных. Социальный дарвинист расценил бы мобильность горных народов, свободное пространственное рассеяние их общин, их модель социальной иерархии, отвергающую наследственную передачу социального статуса, устную культуру, внушительный набор хозяйственных и идентификационных стратегий и, возможно, пророческие наклонности как гениальные механизмы адаптации к беспокойной внешней среде. Горные народы лучше подготовлены к выживанию в качестве автономных субъектов в политическом окружении государств, чем к роли их создателей.
Цивилизация и ее враги
Британские и французские колониальные власти, оправдывая новое налоговое бремя, нередко объявляли его неизбежной платой своих подданных за возможность жить в «цивилизованном обществе». Посредством этого дискурсивного лукавства они искусно провернули три трюка: навесили на своих подданных ярлык «доцивилизованных» и подменили имперские идеалы колониальной реальностью, а «цивилизацию» — государственным строительством.
«Правильная» история цивилизации нуждается в диком антагонисте, как правило, вне зоны непосредственной досягаемости, который в конечном итоге будет усмирен и инкорпорирован. О какой именно цивилизации идет речь — французской, ханьской, бирманской, киньской, британской или сиамской — неважно, ибо каждая определяет себя через подобное отрицание. Собственно поэтому племена и этнические группы «возникают» там, где заканчиваются суверенитет и налогообложение.
Можно мгновенно понять, почему так-и-должно-быть истории, сочиненные в целях повышения самооценки и сплоченности правителей, оказывались неубедительными на границах империй. Представьте классическое китайское образование по конфуцианскому канону — сыновняя почтительность, соблюдение ритуалов и обязанностей правителя, доброжелательная забота о благополучии подданных, достойное поведение, добродетельность, — скажем, в ситуации, сложившейся в середине XIX века на границах провинции Юньнань или Гуйчжоу. Невозможно было не поразиться той пропасти, что отделяла эти идеалы от реалий жизни на окраинах империй Мин и Цин. «Живущая полной жизнью» граница, в отличие от своего дискурсивного образца, просто кишела коррумпированными гражданскими судьями, которые принимали судебные решения в пользу тех, кто предлагал самую высокую цену, вооруженными авантюристами и бандитами, сосланными чиновниками и преступниками, незаконными захватчиками земель, контрабандистами и доведенными до полного отчаяния ханьскими поселенцами[849]. Неудивительно, что идеалы ханьской цивилизации были здесь не в ходу. Напротив, расхождение жизненных реалий с идеальными образцами было достаточной причиной и для местных жителей и для имперских чиновников не верить цивилизационному дискурсу[850].
Государственные образования ханьцев и буддистов Тхеравады в Китае и Юго-Восточной Азии придерживались различных трактовок понятия идеального, «цивилизованного» подданного. Ханьцы не включали в список критериев цивилизованности религиозную принадлежность, ограничиваясь патриархальным типом семьи, табличками (культом) предков и знанием иероглифов как условиями этнической ассимиляции. Бирманцы и тайцы подчеркивали важность религиозной принадлежности, требуя принятия буддизма и почитания сангхи, но, с другой стороны, страдающие от нехватки рабочей силы государства материковой части Юго-Восточной Азии не могли позволить себе этнического снобизма. Классические царства индийского типа, как, например, ханьские, были жестко иерархическими, но с этнической точки зрения весьма всеядными.
Все подобные государства, по очевидным фискальным и военным соображениям, были рисовыми и потому делали все от них зависящее, чтобы стимулировать плотное концентрированное заселение своих центров и поливное рисоводство, ему способствующее. Пока подданные рисовых государств выращивали одни и те же зерновые примерно одними и теми же способами в общинах, которые были достаточно социально однородными, решение задач оценки земель, сбора налогов и управления не представляло особой сложности. Восприятие ханьцами патриархального домохозяйства как базовой единицы отношений собственности и управления еще больше упростило социальный контроль. Идеальный подданный рисового государства также должен был соответствовать институциональным определениям пространства и поселений, согласно которым расчищенные равнины, занятые орошаемыми рисовыми полями и обрабатывающими их общинами, представляли идеальное сочетание окультуривания природы и человека.
О другой стороны, чиновники препятствовали всем формам поселений, хозяйственных практик и социальной организации, которые создавали неприемлемый для государства пейзаж. Они противодействовали, а если могли, то и запрещали дисперсное расселение, собирательство, подсечно-огневое земледелие и миграцию из центра государства. Рисовые поля стали символом цивилизованного пейзажа и правильной социальной организации жизни подданных и производства; как следствие, те, кто жил в отдаленных горных или лесных районах, предпочитал менять местоположение своих полей, а часто и собственную идентичность и основывал всё новые небольшие деревеньки, считались нецивилизованными. Самый удивительный здесь факт — насколько четко идеальные модели цивилизованного пейзажа и демографии совпадали с теми, что максимально подходили для государственного строительства, и насколько часто пространство, ему не способствующее, и населяющие таковое люди объявлялись нецивилизованными и варварскими. В итоге самыми точными индикаторами цивилизованности оказались агроэкологические условия, наиболее приемлемые для государственного строительства, и не более того.
У имперских элит тесная взаимосвязь жизни на окраинах государства с примитивностью и отсталостью не вызывала сомнений. Достаточно перечислить самые яркие характеристики пейзажей и народов, находящихся вне пределов досягаемости государства, чтобы получить каталог маркеров примитивности. Проживание в труднодоступных лесах и на вершинах гор — признак нецивилизованности. Собирательство, сбор даров леса даже в коммерческих целях и подсечно-огневое земледелие — признаки отсталости. Рассеяние и небольшие по размерам поселения — признаки архаичности. Пространственная мобильность и недолговечные изменчивые идентичности — признаки одновременно примитивности и угрозы. Если сообщество не исповедовало религию великих равнинных государств и не состояло из подданных, исправно платящих налоги монархам и десятину духовенству, то автоматически определялось как не принадлежащее цивилизованному миру.
В представлении долин все перечисленные характеристики — маркеры первых этапов социальной эволюции, на вершине которой находятся элиты равнинных государств. Горные народы олицетворяют ее первые стадии и являются «пред−» по всем пунктам: занимаются пред-рисовыми формами земледелия, ведут пред-городской образ жизни, исповедуют пред-религиозные верования и признаются пред-письменными предками подданных равнинных государств. Как уже отмечалось, признаки и черты, на основе которых осуществлялась стигматизация горных народов, в точности совпадали с теми, что старательно развивало и совершенствовало ускользающее от государств население, чтобы избежать подчинения и сохранить автономию. Воображение империй извратило историю горных народов, которые на самом деле ничему не пред-шествуют. В действительности к их истории следовало бы применить слово «после»: после поливного рисоводства, после оседлого образа жизни в качестве поданных государств и, возможно после обладания письменностью. В длительной исторической перспективе они олицетворяют целенаправленную безгосударственность как ответную реакцию народов, адаптировавшихся к жизни в мире государств, но сумевших ускользнуть от их жесткого контроля.
Сложно назвать конкретные ошибки в восприятии равнинными государствами агроэкологии, социальной организации и мобильности ускользнувших от них народов — государства просто рассортировали их по правильным со своей точки зрения категориям. Проблема в том, что государства радикально ошиблись не только в трактовке логики исторического процесса, но и в обозначении самих этих категорий. Если бы они заменили бирку «цивилизованный» на «подданный государства», а «нецивилизованный» на «не-подданный-государства», это было бы честнее и правильнее.
Глоссарий
Большая часть данного глоссария заимствована, практически дословно, из замечательной книги Жана Мишо «Исторический словарь народов горных массивов Юго-Восточной Азии» [Michaud J. Historical Dictionary of the Peoples of the Southeast Asian Massif. Latham, Mo!.: Scarecrow, 2006) — с разрешения автора и с моей глубочайшей благодарностью.
- Ава
-
столица Бирмы с 1364 по 1841 год, основана князем Тадоминбья на искусственном острове в месте слияния Иравади и Мьитнге, для чего был выкопан канал, связавший две реки. До Авы столицей Бирмы был Сикайн (Сагаинг), но после его разрушения шанами королевский двор пересек реку и обосновался в Аве. Князья Авы стремились восстановить свою верховную власть в регионе, утраченную с распадом Паганского государства после нашествия монголов во главе с Хубилай-ханом, которое положило конец первой Бирманской империи, основанной королем Анорахтой в 1057 году.
- Лиха
-
общее название, данное исследователями горных массивов большой группе народов из тибето-бирманской языковой семьи, исторической родиной которых считается юг провинции Юньнань. Иные названия: ико в Таиланде, ко в Бирме и Лаосе, ха ньи во Вьетнаме и хани в Китае. Численность определяемых таким образом акха составляет примерно 1750 тысяч человек, 80 % из которых проживают на территории Китая.
- Ва
-
народ из мон-кхмерской языковой группы палаунгов-ва, проживающий на приграничных территориях Китая-Бирмы-Лаоса-Таиланда. В Китае 396 тысяч (на 2000 год) ва проживают на юго-западе провинции Юньнань, в частности в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе. Существует мнение, что лава на севере Таиланда (насчитывали 15 711 человек в 1995 году) также должны быть включены в языковую семью палаунгов-ва.
- Гуйчжоу
-
в переводе с китайского «цветочная страна». Население провинции в 2000 году составляло 35 миллионов человек. Это одна из четырех главных горных провинций на юго-западе Китая. Перепись 2000 года показала, что 34,7 % населения Гуйчжоу, или 12 миллионов человек, составляют официально признанные меньшинства, которые, в свою очередь, принадлежат к числу двадцати зарегистрированных малых народов. Наиболее многочисленные из них — мяо.
- И
-
официальное китайское название группы, также называемой лоло (ло ло) в Юго-Восточной Азии. В Китае численность и, согласно данным национальной переписи 2000 года, составила 7,7 миллиона человек. С таким демографическим показателем и — самый многочисленный и широко распространенный из шестнадцати говорящих на тибето-бирманских языках народов Китая.
- Нарены
-
основной народ тибето-бирманской языковой семьи, насчитывающий более 4,3 миллиона человек, проживающих преимущественно в Бирме (примерно 3,9 миллиона в 2004 году), но со значительным присутствием в Таиланде (438 тысяч в 2002 году, в два раза больше с беженцами из Бирмы). Их язык входит в каренскую ветвь тибето-бирманской семьи языков.
- Начины
-
название, используемое в Бирме для обозначения группы, именовавшей себя джингпо (чжингхпо, цзинпо) на сопредельной китайской территории, где она считалась этническим меньшинством и была зарегистрирована под этим названием. Бирманских качинов, многие из которых живут в Качинском штате на севере страны, насчитывалось 446 тысяч в 2004 году, что в три раза превышало численность джингпо в Китае. Будучи частью тибето-бирманской языковой семьи, качинский язык дал название ее ветви.
- Ная/наренни
-
народ тибето-бирманской языковой семьи, проживающий в Бирме и, частично, в Таиланде. В Бирме номинально имеет собственный национальный округ — штат Кая (в 1952 году название было изменено с Каренни на Кая), который пересекает река Салуин, со столицей в городе Лойко.
- Нинь/вьеты
-
буквально означает «столица» и, соответственно, «народ столицы»; официальный этноним самого многочисленного «народа» (дан то) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) (более 65 миллионов в 1999 году, или 87 % населения страны). Кинь — так большинство этнических вьетнамцев предпочитает себя называть, чтобы выделить среди других доминирующих равнинных идентичностей региона, таких как ханьцы в Китае, тайцы в Таиланде, лаосцы в Лаосе и т. д. Как раз перечисленные группы предпочитают название «вьеты» для обозначения этнических меньшинств кинь в соседних странах, с которыми они делят горный массив.
- Нхмеры
-
этнические камбоджийцы, составляют более 90 % населения страны. Формируют большую часть кхмерской ветви монкхмерской языковой семьи. Кхмеры и кхамены — также официальные названия говорящих на кхмерском языке этнических меньшинств во Вьетнаме, Лаосе и Таиланде.
- Нхму
-
народ из мон-кхмерской языковой семьи, часть ветви кхму, названной его именем; 568 тысяч проживают в горном массиве материковой части Юго-Восточной Азии, в основном в Лаосе (88 %), но представлены также во Вьетнаме (10 %) и Таиланде (2 %). Примечательно количество вариантов написания названия народа, использованных за всю его историю: кхаму, кхму, кхо-му, кмхму, кхмоу, кхому, каму, кхамук и др.
- Лава (луа)
-
в Таиланде, где их также называют луа (луа’), лава являются официальным высокогорным меньшинством (22 тысячи человек в 2002 году), рассеянным по пяти провинциям, хотя большая часть лава проживает в Чиангмае, Мэхонгсоне и Чианграе. Лингвисты и этнологи полагают, что лава следует объединить с говорящими на мон-кхмерском языке ва в Китае и Бирме, а также с языковой подгруппой палаунгов-ва, с которыми лава имеют общие черты.
- Ламеты
-
народ из мон-кхмерской языковой семьи, из ветви палаунгов, насчитывавший в 1995 году в Лаосе 16 740 человек, равномерно распределенных между провинциями Луангнамтха и Бокео на северо-западе страны. Ламеты назывались в прошлом кхаламетами, сегодня — рмеетами; известны западным обществоведам, в частности, благодаря классической монографии «Ламеты: горные крестьяне Французского Индокитая», опубликованной в 1951 году шведским антропологом Карлом Густавом Изиковицем.
- Лан На/Ланна
-
буквально «миллион рисовых полей»; игравшее важную роль тайское государство, расцвет которого пришелся на период с XIV по XVI век, с центром в городе Чиангмай в сердце области Тайюань, охватывающей практически всю территорию современного Таиланда. В высокогорьях королевства Лан На проживало множество групп, политически и экономически зависящих от этого тайского муанга.
- Лао
-
этническое обозначение всех представителей лаосской (юго-западной) ветви тай-кадайской языковой семьи, распространенной в нескольких странах. В Таиланде проживает подавляющее большинство из примерно 28 миллионов человек, говорящих на лаосском языке в Азии, около 25 миллионов из них составляет группу под названием исан (северо-восточная этническая идентичность). Также лаосские меньшинства официально зарегистрированы в соседних странах — на северо-западе Вьетнама (11 611 человек в 1999 году) и на севере Камбоджи (19 819 в 1995 году).
- Лaxy
-
народ из тибето-бирманской языковой семьи, сформировавшийся изначально на юге Китая, откуда расселился по всему горному массиву за последние два-три столетия. Сегодня лаху проживают в пяти странах в материковой части Юго-Восточной Азии, их насчитывается примерно 650 тысяч. В Китае, где сосредоточено 70 % лаху (450 тысяч в 2000 году), они проживают на юге провинции Юньнань между реками Нуцзян (Салуин) и Ланьцанцзян (Меконг).
- Лису (лисо)
-
меньшинство, численностью около миллиона человек, говорящих на разных наречиях тибето-бирманской языковой семьи; лису в основном проживают в Китае, откуда они приходят (83 %), а также в Бирме (10 %) и Таиланде (7 %).
- Луе (лу, лти, лё, пай-и)
-
говорящая на тайском группа и одно из немногих высокогорных меньшинств, проживающих в горном массиве на территории пяти стран Юго-Восточной Азии. Лингвисты считают, что на языке луе на юге Китая говорят примерно 260 тысяч человек, известных здесь как пай-и (дай); еще примерно 87 тысяч говорящих на луе проживают в Бирме и 70 тысяч — в Таиланде. Около 119 тысяч (на 1995 год) луе зарегистрировано в Лаосе и 4 тысячи (1999) во Вьетнаме, в обеих странах они официально признаны этническим меньшинством.
- Мандалай
-
второй по величине город в Бирме с населением в 927 тысяч человек (согласно переписи 2005 года), а с учетом столичной агломерации — в 2,5 миллиона. Город был последней столицей(1860–1885)независимого бирманского королевства до его аннексии Великобританией, сегодня это центр Мандалайского административного округа. На западе по границе Мандалая протекает река Иравади; город расположен в 716 километрах (445 милях) к северу от Рангуна, крупнейшего города Бирмы и столицы страны до 2007 года.
- Моны
-
народ королевства Пегу, сегодня это Нижняя Бирма.
- Мьены
-
самоназвание подгрупп языковой семьи яо в ряде горных районов материковой части Юго-Восточной Азии. Например, в Таиланде и Лаосе большинство яо называет себя ин мьен (ю мьен), а во Вьетнаме использует само название ким мьен (ким мум). Американские лингвисты полагают, что, поскольку подгруппа мьен — самая многочисленная в языковой семье яо, следует переименовать в «яо» лингвистическую категорию «языковая семья мяо-яо».
- Мяо
-
одно из крупнейших официально признанных национальных меньшинств Китая, насчитывавшее 9 миллионов человек в 2000 году и говорящее на разных наречиях языковой семьи мяо-яо. Примерно половина мяо проживает в Гуйчжоу, где оно считается важнейшим национальным меньшинством. Мяо также составляют значительную часть национальных меньшинств в провинциях Юньнань, Хунань, Гуанси, Сычуань и Хубэй. Хмонги — самая многочисленная подгруппа мяо в Юго-Восточной Азии, особенно в Таиланде, Вьетнаме и Лаосе.
- Муонги
-
во Вьетнаме говорят на наречиях муонгской ветви вьетнамо-муонгской подгруппы австроазиатской языковой семьи. Согласно национальной переписи 1999 года, муонгов насчитывалось 1,1 миллиона человек, что делает их третьим по численности национальным меньшинством Вьетнама после тау и тай.
- Наньчжао (Чау)
-
«южный князь» или «южное царство»; между VIII и XIII веками — высокогорное феодальное царство, процветавшее на пересечении верховий Янцзы, Красной реки (Юаньцзян), Меконга (Ланьцанцзяна) и Салуина (Нуцзян). Сегодня это север провинции Юньнань и северо-восток Бирмы.
- Оранг-асли
-
в переводе с малайского «коренные» или «исконные» люди; универсальное название, используемое в Малайзии для обозначения всех меньшинств австроазиатской (асли, семанги и сенои) и австронезийской (малайцы) групп, прежде считавшихся аборигенным населением Малайского полуострова и насчитывающих примерно 100 тысяч человек.
- Падаунги
-
говорящая на языке каренни подгруппа тибето-бирманской языковой семьи, часть бирманских кая (красных каренов, каренни), которую не следует путать с монкхмерскими палаунгами. Хотя официально падаунги не признаны этнической группой в Бирме, считается, что подавляющее их большинство живет именно здесь. В Таиланде предположительно проживает примерно 30 тысяч падаунгов, все в провинции Мэхонгсон. Некоторые падаунги выступают в роли туристической достопримечательности благодаря многослойным медным спиралям, которые их женщины носят на шее.
- Палаунги
-
народ из мон-кхмерской языковой семьи, обнаруженный в Бирме (400 тысяч человек в 2004 году) на северной окраине штата Шан, на больших высотах, в виде двух отдельных подгрупп. Палаунги называют себя та-анг. Хотя тому имеется мало свидетельств, историки убеждены, что палаунги основали поселения в этом регионе еще до шанов и качинов.
- Пегу-Иома
-
горный хребет на юге Центральной Бирмы, растянувшийся на 435 километров (270 миль) с севера на юг между реками Иравади и Ситаун и заканчивающийся в Рангуне. Его высота в среднем составляет примерно 600 метров (2000 футов), достигая максимума на севере — это потухший вулкан, гора Попа (1518 метров [4981 фут]). Этнические меньшинства (горные народы) занимаются здесь подсечно-огневым земледелием, выращивая горный рис, кукурузу (маис) и просо. В 1960-е годы горы Пегу-Иома были зоной бегства повстанцев — каренов и коммунистов.
- Тай/тайцы
-
не следует путать эту группу тайских народов с намного более многочисленными тайцами — основным этносом Таиланда. Тайские народы формируют юго-западную говорящую на тайском языке группу и второе по численности национальное меньшинство Вьетнама. В 1999 году официальная численность тайцев на северо-западе Вьетнама, в верховьях Да (Черной реки) и Ма и далее к западу бассейна Красной реки составляла 1,3 миллиона человек. Эта группа тайских народов занимает большую часть расположенных на средних высотах районов вдоль лаосской границы от Китая до юга провинции Нгхе Ан. Считается, что тайцы переселились во Вьетнам из Китая около тысячи лет назад и с тех пор проживают на северо-западе страны.
- Хани (или вони)
-
важное национальное меньшинство Китая из тибето-бирманской языковой семьи. Официально их численность составляла более 1,4 миллиона в 2000 году. Хани живут на юго-востоке провинции Юньнань в Хунхэ-Хани-Ийском автономном округе, который включает в себя уезды Хунхэ, Юаньянг, Лучунь и Шипин вдоль Красной реки и ее притоков. Хани также проживают за пределами Китая в Юго-Западной Азии, где их, как правило, называют акха.
- Ханьцы
-
этнические китайцы, которые, используя название влиятельной династии Хань (202 год до н. э. — 222 год н. э.), называют себя «хань минцу», то есть «народ хань» (1,1 миллиарда в 2001 году, или 91,5 % населения Китая). Ханьцы говорят на том или ином языке из китайской группы сино-тибетской языковой семьи; эта группа включает в себя такие диалекты-прародители, как мандаринский (обычно именно его называют китайским языком), кантонский, хакка, ву, юэ, сианьский и т. д.
- Хмонги (на английском произносятся как «монги»)
-
численностью около 4 миллионов человек, хмонги составляют крупнейшее национальное меньшинство в горном массиве материковой части Юго-Восточной Азии. Кроме того, наряду с еще более крупной тайской языковой семьей, хмонги — единственное высокогорное национальное меньшинство, которое сегодня проживает во всех шести странах на территории горного массива. Хмонги — также самая многочисленная подгруппа мяо.
- Чжуаны
-
крупнейшее китайское национальное меньшинство и самый многочисленный из народов, проживающих в горном массиве материковой части Юго-Восточной Азии. Официальная численность чжуанов составляет ошеломляющие 16 миллионов человек (на 2000 год), что в три раза больше населения Лаоса и равно совокупному числу жителей Лаоса и Камбоджи.
- Чины
-
народ из тибето-бирманской языковой семьи, проживающий в нижней западной приграничной зоне Бирмы, в Минских горах — части Араканского горного хребта; часто называются хьянгами в бирманских текстах. Примерная численность чинского населения Бирмы в 2004 году составила 258 тысяч. Большинство чинов в Бирме проживает в штате Чин, который начинается на западной границе долины Иравади.
- Чинские горы
-
горный хребет на северо-западе Бирмы, который тянется до индийского штата Манипур. Также известны как часть Араканских гор (Аракан Йома).
- Шаны
-
основная говорящая на тайском группа из юго-западной ветви тайцев, живущих в Верхней Бирме (2,6 миллиона человек в 2004 году). Шаны в Бирме ассоциируются со штатом Шан (столица — Таунджи), хотя составляют только половину его населения. Большая часть шанов в Бирме называет себя тай йи («великие тайцы»). Все шанские поселения в Бирме и на ее границах — остатки существовавших здесь с XIII по XVI век, а возможно и раньше, тайских феодальных княжеств, или муангов, форма которых была заимствована в Китае и быстро распространилась на средних высотах в горных районах, где шаны создавали феодальные города-государства, с экономикой, основанной на поливном рисоводстве. В 1947 году, в соответствии с новой конституцией независимой Бирмы, был создан штат Шан, поглотивший прежние государственные образования ва, а также значительное число качинов, лаху, акха и палаунгов вместе с большинством других пий не — высокогорных этнических государств, которые существуют и сегодня.
- Штат Шан
-
административный район Бирмы, получивший свое название благодаря шанам, одной из этнических групп, населяющих этот регион. Это крупнейший из четырнадцати административных районов страны по занимаемой площади. Штат является преимущественно сельскохозяйственным, здесь расположено лишь три достаточно больших города — Лашо, Кенгтунг и столица Таунджи. Шан граничит с Китаем на севере, Лаосом — на востоке и Таиландом — на юге. Он также имеет общие границы с пятью административными районами Мьянмы. Площадь штата Шан — 155 800 квадратных километров (60 тысяч квадратных миль), то есть почти четверть территории страны. Большая часть штата расположена на горном плато с высокими горами на севере и на юге; здесь пролегает ущелье реки Салуин.
- Юньнань (буквально «К югу от облаков»)
-
самая юго-западная провинция Китая (с населением в 43 миллиона человек в 2000 году), граничащая с Вьетнамом, Лаосом и Бирмой, а внутри страны — с Тибетом и провинциями Сычуань, Гуйчжоу и Гуанси. С географической и культурной точек зрения Юньнань — сердце горного массива материковой части Юго-Восточной Азии. Здесь проживает огромное количество горных народов и официально зафиксировано более двадцати пяти национальных меньшинств Китая.
- Яо (мьен)
-
вместе с мяо составляют языковую семью мяо-яо; насчитывают примерно 3,3 миллиона человек, проживающих в горном массиве материковой части Юго-Восточной Азии. Будучи родом из Китая, возможно, из южных районов провинции Хунань, яо постепенно расселились западнее под демографическим давлением живущих на побережьях ханьцев.
[1] Карты и рисунки для издания на русском языке переработаны Михаилом Федоровым. (Примеч. ред.)
[2] Guiyang Prefectural Gazetteer. Цит. по: Elvin М. The Retreat of the Elephants: // An Environmental History of China. New Haven: Yale University Press, 2004. P. 236–237.
[3] Scoff G. J., Hardiman J. P. Gazetteer of Upper Burma and the Shan States / Compiled from official papers by J. G. Scott, assisted by // J. P. Hardiman. Rangoon: Government Printing Office, 1893. Vol. 1. Part 1. P. 154.
[4] Hooker E. R. Religion in the Highlands: Native Churches and Missionary Enterprises in the Southern Appalachian Area. New York: Home Missions Council, 1933. P. 64–65.
[5] Жители равнин и государств могли проводить и иные, значимые в местных условиях различия между теми, кто вел оседлый образ жизни в деревнях, и жителями лесов — скорее, кочевниками.
[6] Тема влияния взаимоотношений бедуинских племен и жителей арабских городов на становление государств и цивилизационное развитие пронизывает работы известного арабского историка и философа XIV века Ибн Хальдуна.
[7] Судя по археологическим находкам, добыча меди и металлургическое производство в индустриальных масштабах, везде сопровождавшиеся формированием государства, в северо-восточном Таиланде существовали без каких-либо признаков такового. Скорее всего, здесь это были внесезонные занятия сельских жителей, которые достигли в них удивительного мастерства. См.: Pigoff V. Prehistoric Copper Mining in Northeast Thailand in the Context of Emerging Community Craft Specialization// Social Approaches to an Industrial // Past: The Archeology and Anthropology of Mining / Ed. by A. B. Knapp, V Pigott, E. Herbert. London: Routledge, 1998. P. 205–225. Я благодарен Магнусу Фискесьё за то, что он обратил мое внимание на эту проблематику.
[8] Ре/с/A. Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680. New Haven: Yale University Press, 1988. Vol. 1. The Lands Below the Winds. P. 15. В Китае плотность населения составляла 37 человек на квадратный километр (на Тибете цифра была чуть меньше), то есть страна была более плотно заселена, чем Южная Азия с аналогичным показателем в 32 человека и Европа, где в то время проживало примерно 11 человек на квадратный километр.
[9] O’Connor Р. А. Founder’s Cults in Regional and Historical Perspective // Founder’s Cults in Southeast Asia: Polity and Identity / Ed. by N. Tannenbaum, C. A. Kammerer. New Haven: Yale University Press, 2003 (= Yale Southeast Asia Monograph Series № 52). P. 281–282. Иная и в целом нелинейная версия истории становления государств представлена в книге: Johnson A. W., Earle Т. The Evolution of Human Societies: From Foraging Group to Agrarian State. Stanford: Stanford University Press, 2000.
[10] См., например: Mann M. The Sources of Social Power. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 63–70.
[11] O’Connor P. A. Agricultural Change and Ethnic Succession in Southeast Asian States: A Case for Regional Anthropology // Journal of Asian Studies. 1995. № 54. P. 968–996.
[12] Tilly С Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992. Cambridge, Mass.: Blackwell, 1990. P. 162.
[13] Навязывание оседлого образа жизни — вероятно, древнейший «государственный проект», неразрывно связанный с другим процессом — созданием системы налогообложения. Первый проект в течение тысячелетия и на протяжении маоистского периода лежал в основе китайской модели государственного управления: тысячи солдат Народно-освободительной армии Китая были брошены на окапывание и выравнивание постоянно затопляемых земельных участков, чтобы заставить «диких» ва выращивать поливной рис.
[14] Brody /У. The Other Side of Eden: Hunters, Farmers, and the Shaping of the World. Vancouver: Douglas and Mclntyre, 2000.
[15] Subramanyum S. Connected Histories: Notes toward a Reconfiguration of Early Modern Eurasia// Modern Asian Studies. 1997. № 31. P. 735–762.
[16] Прекрасное описание этих процессов во Вьетнаме и Индонезии представлено в книге: Koninck de R. On the Geopolitics of Land Colonization: Order and Disorder onthe Frontier of Vietnam and Indonesia// Moussons. 2006. № 9. P. 33–59.
[17] Колониальные и ранние постколониальные государства, как и классические царства древнего мира, считали эти территории «ничьей» или «никчемной землей» (в этом суть традиционного противопоставления La France utile и La France inutile) в том смысле, что они не оправдывали затрат на управление с точки зрения объемов получаемого зерна и доходов. Продукты лесов и гор могли высоко цениться, их жители — угоняться в рабство, но и тогда периферия не считалась административно контролируемой, экономически эффективной зерновой зоной, от которой зависят политическая мощь и доходы государства. В эпоху колониализма здесь использовалось так называемое косвенное управление: местные правители не заменялись, а подчинялись центральным колониальным властям. Подобная форма непрямого управления, так называемая система tusi, использовалась в Ханьской империи начиная с династии Юань и почти на всем протяжении правления Мин.
[18] Жители гор крайне редко — по разным причинам — принимают веру основного населения страны, и даже символическое принятие таковой необязательно влечет за собой встраивание в государственную систему. См., например: Brailey N. A Re-investigation of the Gwe of Eighteenth Century Burma // Journal of Southeast Asian Studies. 1970. Vol. 1. № 2. P. 33–47.
[19] Pelley P. M. Post-Colonial Vietnam: New Histories of the National Past. Durham: Duke University Press, 2002. P. 96–97.
[20] Эту официальную версию убедительно опровергает работа: Taylor К. Surface Orientations in Vietnam: Beyond Histories of Nation and Region // Journal of Asian Studies. 1998. № 57. P. 949–978.
[21] Каждая их этих четырех этнических групп сегодня образует национальное государство, поглотившее множество прежде существовавших здесь государств, за исключением Камбоджи и Лаоса, которые захватили безгосударственные земли на собственных территориях.
[22] Wade G. The Bai-Yi Zhuan: A Chinese Account of Tai Society in the 14th century. Доклад на 14-й Международной конференции историков Азии (Бангкок, май 1996 года). Приложение 2, 8. Цит. по: Andaya В. The Flaming Womb: Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2006. P. 12.
[23] Schendel van W. Geographies of Knowing, Geographies of Ignorance: Southeast Asia from the Fringes. Доклад на семинаре «Locating Southeast Asia: Genealogies, Concepts, Comparisons and Prospects» (Амстердам, 29–31 марта 2001 года).
[24] Michaud J. Historical Dictionary of the Peoples of the Southeast Asian Massif. Lanham, Md.: Scarecrow, 2006. P. 5. См. также: Turbulent Times and Enduring Peoples: Mountain Minorities in the Southeast Asian Massif/ Ed. by J. Michaud. Richmond, England: Cur-zon, 2000.
[25] Michaud J. Op. cit. P. 2. Если прибавить к горным жителям население равнин, то это число, наверное, увеличится еще на пятьдесят миллионов и будет расти ежедневно.
[26] Gellner F. Tribalism and the State in the Middle East//Tribes and State Formation in the Middle East/ Ed. by P. Khoury, J. Kostiner. Berkeley: University of California Press, 1990. P. 124. Аналогии с пуштунами, курдами и берберами менее уместны, потому что представители всех трех групп имеют, или, точнее, предположительно разделяют общую культуру. Великие горные королевства, о которых здесь идет речь, не обладали подобным культурным единством, хотя некоторые составлявшие их народы (например, дай, хмонги, акха/хани) сильно рассеяны по территории региона. Прекрасная работа об исламских сектах в горах принадлежит Роберту Лерою Кенфилду: Canfield R. L. Faction and Conversation in a Plural Society: Religious Alignments in the Hindu-Kush. Ann Arbor: University of Michigan, 1973. Anthropological Papers № 50.
[27] Лаос — в некотором роде исключение, поскольку, как и Швейцария, это в значительной степени «горное государство» // с небольшой долиной вдоль Меконга, которую он делит с Таиландом.
[28] См. в этой связи убедительную работу: Pollard S. Marginal Europe: The Contribution of Marginal Lands since the Middle Ages. Oxford: Clarendon, 1997.
[29] В число явных сторонников систематического взгляда с периферии входит Мишо (см.: Turbulent Times and Enduring Peoples: Mountain Minorities in the South-East Asian Massif/ Ed. by J. Michaud. Richmond, England: Curzon, 2000; особенно его введение к книге, написанное вместе с Джоном МакКинноном [стр. 1–25]), а также Хьёрлифур Йонссон (Jonsson Н. Mien Relations: Mountain Peoples, Ethnography, and State Control. Ithaca: Cornell University Press, 2005).
[30] Chit Hiding F. K.L [Lehman F. K.] Some Remarks upon Ethnicity Theory and Southeast Asia, with Special Reference to the Kayah and Kachin// Exploring Ethnic Diversity in Burma/ Ed. by M. Gravers. Copenhagen: NIAS Press, 2007. P. 107–122, особенно 109–110.
[31] Braudel. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II / Trans, by S. Reynolds. New York: Harper and Row, 1966. Vol. I.
[32] Reid A. Southeast Asia in the Age of Commerce… Vol. I.
[33] Ван Шендель очень точно выразился: «Если моря вдохновляют исследователей на конструирование региональных миров, подобных броделевским, почему же на это не способны горные массивы?» (Schendel van W. Op. cit. P. 10) Однако, как оказалось, пока не способны. Изучение различных районов Зомии продолжается, однако эти исследования не адресованы сообществу «профессиональных исследователей Зомии» и не преследуют цели разработать общую ее модель, которая поставила бы перед социальными науками новые вопросы и предложила новые методологические решения.
[34] Конечно, «анархию» здесь мог увидеть только внешний наблюдатель. Горные народы четко и без сомнений знали, кто они такие, даже если колониальные власти не могли их идентифицировать.
[35] Leach E. R. The Frontiers of Burma // Comparative Studies in Society and History. 1960. № 3. P. 49–68.
[36] Прекрасный анализ тендерных отношений у народности лаху представлен в книге: Du Sh. Chopsticks Only Work in Pairs: Gender Unity and Gender Equality among the Lahu of Southeast China. New York: Columbia University Press, 2002.
[37] Наньчжао/Нан Джао и его наследник — королевство Дали на юге провинции Юньнань, примерно с IX по XIII столетие; Чёнгтун/Чанг тун/Кьянг тун, королевство в Восточных Шанских штатах Бирмы, независимое примерно с XIV столетия до завоевания бирманцами в XVII веке; Нан, маленькое независимое государство в долине реки Нан на севере Таиланда; Ланна, расположенное недалеко от нынешнего Чиангмая в Таиланде, независимое примерно с XIII до XVIII века. Очень показательно, что каждое из этих королевств занималось преимущественно выращиванием риса, а их жители говорили на тайских наречиях — это самые частые характеристики, присущие процессам государственного строительства в горах.
[38] Sturgeon J. Border Practices, Boundaries, and the Control of Recourse Access: A Case from China, Thailand, and Burma // Development and Change. 2004. № 35. P. 463–484.
[39] Schendel van W. Op. cit. P. 12.
[40] Braudel F. Op. cit. Vol. I. P. 32, 33 [Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. М.: Языки славянской культуры, 2002. Ч. 1. С. 41]. Мне кажется, Бродель не заметил тех народов, которые, так сказать, тащат свою цивилизацию за собой в заплечном мешке, куда бы они ни перемещались, как, например, рома (цыгане) и евреи.
[41] Khaldun Ibn. The Muqaddimah: An Introduction to History/Trans, by F. Rosenthal. New York: Pantheon, 1958 (= Bollinger Series 43). Vol. I. P. 302.
[42] Wolters O. W. History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives. Singapore: Institute for Southeast Asian Studies, 1982. P. 32. Цит. no: Wheatley P. Satyanrta in Suvarnadvipa: From Reciprocity to Redistribution in Ancient Southeast Asia // Ancient Trade and Civilization / Ed. by J. A. Sabloff et al. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1975. P. 251.
[43] Цит. no: Hardy A. Red Hills: Migrants and the State in the Highlands of Vietnam. Honolulu: University of Hawaii Press, 2003. P. 4.
[44] Laftimore O. The Frontier in History // Studies in Frontier History: Collected Papers, 1928–1958. Oxford: Oxford University Press, 1962. P. 469–491, цитата со стр. 475.
[45] Leach F. The political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure. Cambridge: Harvard University Press, 1954.
[46] Barfield T. The Shadow Empires: Imperial State Formation along the Chinese-Nomad Frontier// Empires: Perspectives from Archeology an History / Ed. by S. E. Alcock, T. N. DAItroy, et al. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 11–41. Карл Маркс называл такие паразитические милитаризированные периферии, занимавшиеся работорговлей и грабежами на окраинах Римской империи, «германским способом производства». Лучший обзор подобного вторичного формирования государства у народности ва представлен в книге: Fiskesjo М. The Fate of Sacrifice and the Making of Wa History, Ph.D. thesis. University of Chicago, 2000.
[47] Я заимствовал термин у Гонсало Агирре Бельтрана, который утверждал, что большая часть коренного населения на испанских территориях Америки после Конкисты проживала «в районах, особенно враждебных или недоступных человеку» // и маргинальных с точки зрения колониальной экономики. По большей части речь идет о скалистых горах, хотя Бельтран включал сюда также тропические джунгли и пустыни. Он склонен считать подобные регионы скорее «зонами спасения» доколониальных народов, чем географическими ареалами, куда те сбегали или выталкивались. См.: Beltrdn G. A. Regions of Refuge. // Washington, D.C., 1979 (= Society of Applied Anthropology Monograph Series № 12). P. 23 и др.
[48] Michaud J. Op. cit. P. 180, цитата со стр. 199. Рассуждая о горных народностях Вьетнама («горцах»), Мишо всегда возвращается к этой теме. «В некоторой степени горцы — это беженцы с территорий военных действий, стремящиеся оказаться вне сферы прямого влияния государственных властей, которые хотят контролировать трудовые, производящие налоги ресурсы и иметь доступ к населению для набора солдат, слуг, наложниц и рабов. Вот почему горцы постоянно находились в движении — убегали» (Turbulent Times and Enduring Peoples: Mountain Minorities in the Southeast Asian Massif/ Ed. by J. Michaud. Richmond, England: Curzon, 2000. P. 11).
[49] См.: Gailey С. W., Patterson T. C. State Formation and Uneven Development// State and Society: The Emergence and Development of Social Hierarchy and Political Centralization / Ed. by J. Gledhill, B. Bender, M.T Larsen. London: Routledge, 1988. P. 77–90.
[50] Fiskesjo M. Op. cit. P. 56.
[51] В число классических текстов, обосновывающих данную аргументацию, входят: C/astres P. Society against the State: Essays in Political Anthropology/Trans, by R. Hurley. New York: Zone, 1987; Beltrdn G. A. Op. cit.; Schwartz S., Salomon F. New Peoples and New Kinds of People: Adaptation, Adjustment, and Ethnogenesis in the South American Indigenous Societies (Colonial Era) // The Cambridge History of Native Peoples of the Americas/ Ed. by S. Schwartz, F Salomon. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 443–502. Обзор последних данных по теме представлен в книге: Mann С. С. 1491: New Revelations of the Americas before Columbus. New York: Knopf, 2005.
[52] Keesing F. M. The Ethno-history of Northern Luzon. Stanford: Stanford University Press, 1976; Scott W. H. The Discovery of the Igorots: Spanish Contacts with the Pagans of Northern Luzon / Rev. ed. Quezon City: New Day, 1974.
[53] См., например: Menning В. W. The Emergence of a Military-Administrative Elite in the Don Cossack Land, 1708–1836// Russian Officialdom: The Bureaucratization of Russian Society from the Seventeenth to the Twentieth Century/ Ed. by P. W. MacKenzie, // D. C. Rowney. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980. P. 130–161.
[54] Lucassen L., Willems W., Cotfaar A. Gypsies and Other Itinerant Groups: A Socio-historical Approach. London: Macmillan, 1998.
[55] Мартин Клейн отмечает, что более централизованные африканские сообщества часто сами становились хищными работорговцами (последовательно наращивая процессы централизации), а децентрализованные отступали в горные и лесные районы, если они были, где строили укрепления, чтобы уберечь свои поселения от рейдов работорговцев [Klein М. А. The Slave Trade and Decentralized Societies // Journal of African History. 2001. № 42. P. 49–65). См. также: Searing J. F. «No Kings, No Lords, // No Slaves»: Ethnicity and Religion among the Sereer-Safen of Western Bawol (Senegal), 1700–1914//Journal of African History. // 2002. № 43. P. 407–429; Cordell D. D. The Myth of Inevitability and Invincibility: Resistance to Slavers and the Slave Trade in Central Africa, 1850–1910 // Fighting the Slave Trade: West African Strategies / Ed. by S. A. Diouf. Athens: Ohio University Press, // 2003. P. 50–61. Попытка статистического анализа представлена в работе Nunn N., Рида D. Ruggedness: The Blessing of Bad Geography, в специальном номере «Американского исторического обозрения» (American Historical Review. 2007. March. Geography, History, and Institutional Change: The Causes and Consequences of Africa’s Slave Trade).
[56] Слово «мандала», заимствованное из языков юга Индии, обозначает такой тип политического устройства, когда власть из государственного центра расходится лучами определенного радиуса благодаря политическим союзам и харизматическим лидерам, однако четких границ здесь не существует. Фактически это слово всегда используется во множественном числе, поскольку возможны объединения конкурирующих мандал, хитростью получающих право сбора дани или вступающих в альянсы, причем развитие мандал носит маятниковый характер — от взлетов к падениям или даже к полному исчезновению — и зависит от конкретных исторических условий. См.: Mabbeft I. W. Kingship at Angkor// Journal of the Siam Society. 1978. № 66. // P. 1058, и особенно: Wolters О. W. Op. cit.
[57] В целом ученые Юго-Восточной Азии более объективны, чем, скажем, их коллеги в Индии или Китае, хотя сложно не замечать повсеместности зон смешения, столкновения, заимствований и адаптации религиозных верований, символов власти и форм политической организации. Элиты мандал нередко сами с гордостью демонстрировали подобный эклектизм. Тем не менее «эффект гор» в анализе равнинных культур и социальной организации городов обычно игнорируется.
[58] Примеры минангкабау и батаков на Суматре, где долгое время существовало поливное рисоводство и развитая культура, но не возникло государство, напоминают нам, что поливное рисоводство практически всегда является предпосылкой государственного строительства, но все же недостаточной.
[59] Судя по всему, логика формирования ханьской государственной системы в более ранний период была принципиально иной.
[60] Deleuze G., Guaftari F. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia/Trans, by // B. Massum. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987. P. 360.
[61] Clastres P. Society against the State: Essays in Political Anthropology/Trans, by R. Hurley New York: Zone Books, 1987. В Африке много подобных осколочных зон, возникших потому, что население, пытавшееся спастись от закабаления, искало здесь спасения от работорговцев. Одна из зон, жители которой говорят на языке ламе, расположена вдоль нынешней границы Гвинеи и Либерии (из личной беседы с Майклом Макговерном в ноябре 2007 года).
[62] Griaznov М. Р. The Ancient Civilization of Southern Siberia/Trans, by J. Hogarth. New York: Cowles, 1969. P. 97–98, 131–133. Цит. no: Deleuze G., Guaftari F. A. Op. cit. P. 430.
[63] Lattimore O. Op. cit. P. 472.
[64] Gellner F. Saints of the Atlas. London: Weidenfeld and Nicolson, 1969. P. 1–2.
[65] Ibid. P. 1–2, 14, 31.
[66] Цит. no: Tapper R. Anthropologists, Historians, and Tribespeoples on Tribe and State Formation//Tribes and State Formation in the Middle East/ Ed. by P. Khoury, J. Kostiner. Berkeley: University of California Press, 1990. P. 66.
[67] Упрощение социальной структуры, как и обращение к изменчивым и мобильным жизненным практикам и подвижной идентичности, способствовали адаптации к капризам естественной и политической среды. См., например: Heterarchy and the Analysis of Complex Societies / Ed. by R. E. Ehrenreich, C. L. Crumley, J. E. Levy // Archeological Papers of the American Anthropological Society. 1995. № 6.
[68] Этот момент, как мне кажется, постоянно упускается из виду в непрекращающихся дискуссиях о том, от чего в большей степени зависели классические государства Юго-Восточной Азии — от торговли или от рабочей силы. Полагаю, что выгодные местоположения — пересечения рек, горные перевалы, залежи рубинов и нефрита — требовали военной защиты от алчных претендентов.
[69] Coedes G. The Indianized States of Southeast Asia. Honolulu: East-West Center Press, 1968. Первоначально книга была опубликована во Франции в 1948 году.
[70] Leur van J. C. Indonesian Trade and Society. The Hague: V. van Hoeve, 1955. P. 261.
[71] Smail J. On the Possibility of an Autonomous History of Modern Southeast Asia // Journal of Southeast Asian History. 1961. № 2. // P. 72–102.
[72] Bellwood P. Southeast Asia before History// The Cambridge History of Southeast Asia/ Ed. by N. Tarling. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Vol. I. From Early Times to 1800. Ch. 2. P. 90.
[73] По сравнению с другими культурами, прибрежные города Юго-Восточной Азии, расположенные в устьях и дельтах рек, мало что оставили археологам. Длительные поиски артефактов империи Шривиджайя — наверное, наиболее показательный пример. В книге «Исторический словарь народов горных массивов Юго-Восточной Азии» Жан Мишо пишет, что и строения, и погребальные практики в горах почти не оставляют археологического материала (Michaud J. Op. cit. P. 9). В этой связи следует отметить, что в долинах простолюдинам часто запрещалось строить дома из кирпича, камня и даже тикового дерева, чтобы эти сооружения не смогли служить укреплениями в случае бунта (из личной беседы с Хьёрлифуром Йонссоном 6 июня 2007 года).
[74] Суть этого факта в том, что государство, не оставившее после себя письменных свидетельств, вряд ли сможет попасть в исторические хроники. Жорж Кондоминас отмечает, что высокогорное королевство Луа (а позже и кхмерская империя в Юго-Восточной Азии) исчезло почти бесследно, потому что не имело письменности, несмотря на то что оставило руины и устный эпос о своем возникновении в результате брака короля народа луа и королевы народа мон, принесшей с собой в горы буддизм. См.: From Lawato Mon, From Saa’toThai: Historical and Anthropological Aspects of Southeast Asian Social Spaces/ Trans, by S. Anderson, et. al. Canberra: Australian National University, 1990 (= An Occasional Paper of Anthropology in Association with the Thai-Yunnan Project, Research School of Pacific Studies).
[75] Подобные хроники действительно выполняют символическую функцию в интересах государства. Я признателен Индрани Чаттержи за то, что обратила мое внимание на это обстоятельство.
[76] Единственное значимое исключение — бирманские Sit-tans — административные акты, благодаря которым были установлены объекты налогообложения (собственность, экономическая деятельность, граждане в соответствии со своим налоговым статусом). См.: Trager F. N., Koenig W. J., У/У/. Burmese Sit-tans, 1784–1826: Records of Rural Life and Administration. Tucson: University of Arizona Press, 1979 (= Association of Asian Studies. Monograph № 36).
[77] O’Connor R. Review of Thongchai Winichakul, Siam Mapped: A History of the Geo-body of a Nation. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1994 // Journal of Asian Studies. 1997. № 56. P. 280. Весьма показателен пример подготовленной бирманским двором официальной версии дипломатического письма от китайского императора, в котором он как император Востока обращается к королю Бирмы как к императору Запада, то есть они равны и возвышаются над всем цивилизованным миром. Как заметил Фан Тан, «вероятно, эта бирманская дворцовая версия письма из Китая радикально отличается от его оригинала, но вполне соответствует убеждениям короля Бирмы, который не признавал никаких иных превосходящих его по власти монархов» (Royal Orders of Burma, A.D. 1598–1885 / Ed. by Than Tun. Kyoto: Center for Southeast Asian Studies. 1983. Part I. A.D. 1598–1648. P. 1). Официальные придворные версии истории напоминают мне газету The Sun Dial в моей средней школе и ее девиз «Мы замечаем только то, что сияет».
[78] Одна из первых попыток исправить эту историческую близорукость была предпринята в книге: Taylor Т. Surface Orientations in Vietnam: Beyond Histories of Nation and Region // Journal of Asian Studies. 1998. № 57. P. 949–978. Следует отметить, что в последние годы в Юго-Восточной Азии стали появляться значимые работы, демистифицирующие национальные версии истории.
[79] Benjamin W. Theses on the Philosophy of History // Benjamin W. Illuminations / Ed. by H. Arendt. New York: Schocken Books, 1968. P. 255–256. Я благодарен Чарльзу Лещу за то, что он обратил мое внимание на данное обстоятельство в своей неопубликованной работе «Anarchist Dialectics and Primitive Utopias: Walter Benjamin, Pierre Clastres, and the Violence of Historical Progress» (2008).
[80] См.: Kulke H. The Early and Imperial Kingdom in Southeast Asian History // Southeast Asia in the 9th to 14th Centuries / Ed. by D Магг, A. C. Milner. Singapore: Institute for Southeast Asian Studies, 1986. P. 1–22. Венетт Бронсон говорит о том же, отмечая, что на севере Южной Азии за три тысячелетия сложилось «лишь два относительно долго просуществовавших и охватывавших весь регион государства — гуптов и великих моголов. Но ни они, ни более мелкие государства не прожили дольше двух веков, тогда как анархические междуцарствия были повсеместны, продолжительны и жестоки» (Bronson В. The Role of Barbarians in the Fall of States //The Collapse of Ancient States and Civilizations/Ed. by N. Yoffee, G. L. Cowgill. Tuscon: University of Arizona Press, 1988. P. 196–218).
[81] Day A. Ties that (Un)Bind: Families and States in Рге-modern Southeast Asia// Journal of Asian Studies. 1996. № 55. P. 398. Дей здесь критикует государствоцентричный подход в важных историографических работах Энтони Рида и Виктора Либермана.
[82] См.: Taylor К. Op. cit. Тейлор весьма оригинально рассматривает несколько периодов в ранней истории территорий, где расположен современный Вьетнам, тщательно избегая обращений к нынешним национальным и региональным нарративам, не подкрепленным соответствующими документальными и археологическими данными.
[83] Сара (Мэг) Дэвис критикует работы Кондоминаса в статье «Досовременные миграции и постмодернистский Китай: глобализация и тайское государство Сипсонгпанна»: «Сельские жители постоянно перемещались между деревнями и городами; альянсы городов и сел разваливались и реформировались; знать иногда была вынуждена совершать длительные поездки на отдаленные территории, чтобы поддерживать целостность своих владений… Подобные устойчивые и постоянные миграции и трансформации затрудняют описание региона, хотя здесь можно обнаружить три константы: объединение деревень, сильные традиции независимости и свободу перемещений» [Davis S. Premodern Flows and Postmodern China: Globalization and the Sipsongpanna Tai // Modern China. 2003. № 29. P. 187).
[84] Reid A. «Tradition» in Indonesia: The One and the Many // Asian Studies Review. 1998. № 22. P. 32.
[85] Akin Rabibhadana. The Organization of Thai Society in the Early Bangkok Period, 1782–1873. Ithaca: Cornell University, 1969. // (= Thailand Project, Interim Report Series. № 12). P. 27.
[86] White R. The Middle Ground: Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1650–1815. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
[87] Thucydides. The Peloponnesian War / Trans, by R. Warner. New York: Penguin, 1972.
[88] Фраза Василия Никитина цитируется в моем переводе с французского по книге: Tapper R. Op. cit. P. 55.
[89] Слова сэра Стэмфорда Раффлза приводятся по: Reid A. «Tradition» in Indonesia… P. 31.
[90] Муанг — обозначение древнего города (в Лаосе, Таиланде, северном Вьетнаме, на юге провинции Юньнань и др.), обнесенного массивной стеной, правителю которого подчинялись соседние деревни. (Здесь и далее звездочкой отмечены примеч. пер.).
[91] Цит. по: Yong Хие. Agrarian Urbanization: Social and Economic Changes in Jiangnan from the 8th to the 19th Century. Ph.D. diss. Yale University, 2006. P. 102. Используемая здесь логическая модель заимствована из стандартных формулировок «теории центральных мест», разработанной Иоганном Генрихом фон Тюненом, Вальтером Кристаллером и Джорджем Уильямом Скиннером. Такая логика, именно потому что она столь схематична, иногда плохо срабатывает. Например, что, если вдоль маршрута передвижения имеются свободные весенние пастбища? В этом случае тягловые животные легко наберут вес за время пути, а потому сами могут рассматриваться как часть груза, если будут проданы в пункте назначения!
[92] Как отметил Питер Беллвуд, плотность населения в районах поливного рисоводства примерно в десять раз больше, чем в горных регионах подсечно-огневого, неорошаемого земледелия, что, как будет показано ниже, является решающим преимуществом для государства: BellwoodР. Southeast Asia before History //The Cambridge History of Southeast Asia/Ed. by N. Tarling. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Vol. I. From Early Times to 1800. P. 90.
[93] Конечно, если они того желали, чиновники могли наказать земледельца или целую деревню, дотла спалив сухой созревший урожай.
[94] Отметим также, что запас зерна позволял армиям преодолевать большие расстояния (например, легионам Юлия Цезаря), будучи обеспеченными, таким образом, продовольствием, но в свою очередь, он же помогал защитникам осажденного государственного центра дольше продержаться. Досовременные военные вторжения часто планировались так, чтобы совпасть с периодом сбора урожая — тогда армия могла добывать себе пропитание в пути, а не тащить за собой обозы с продовольствием.
[95] См.: The Gift of Water: Water Management, Cosmology, and the State in Southeast Asia/ Ed. by J. Rigg. London: School of Oriental and African Studies, 1992; особенно см. статьи: Stoft P. Ankor: Shifting the Hydraulic Paradigm (P. 47–58) и Staargardt J. Water for Courts or Countryside: Archeological Evidence from Burma and Thailand Revisited (P. 59–72). Частично задача этой работы — окончательно отказаться от тезиса о гидравлических обществах, предложенного Карлом Виттфогелем в книге «Восточный деспотизм: сравнительное исследование тотальной власти» (Wittfogel К. Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power/9th ed. New Haven: Yale University Press, 1976), по крайней мере для Юго-Восточной Азии. Кроме всего прочего, демографические реалии и возможности бегства предотвращали любую широкомасштабную мобилизацию рабочей силы. Консенсус ученых по данному вопросу лучше всего выразил Клиффорд Гирц, рассматривая сложную балийскую систему террасирования и ирригации: «В действительности роль государства в… строительстве была в лучшем случае незначительной… Прежде всего создание системы субак практически всегда представляло собой последовательный и постепенный процесс, а не одномоментное коллективное усилие, требующее для своего осуществления авторитарного контроля за огромными людскими массами. К XIX веку система, по сути, сформировалась, но уже до этого времени ее распространение замедлилось, стало устойчивым и почти незаметным. Убеждение, что внушительные ирригационные проекты нуждаются в высокоцентрализованных государствах для своего осуществления, основано на игнорировании того факта, что подобные проекты не совершаются одним махом» (Geertz С. Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali. Princeton: Princeton University Press, 1980. P. 197). См. также ссылки в работе Гирца, особенно относительно Бали, в частности: Lansing S. Priests and Programmers: Technologies of Power and the Engineered Landscape of Bali. Princeton: Princeton University Press, 1991.
[96] Andaya B. W. Political Development between the Sixteenth and Eighteenth Centuries // The Cambridge History of Southeast Asia / Ed. by N. Tarling. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Vol. I. From Early Times to 1800. P. 426.
[97] Christie J. W. Water from the Ancestors: Irrigation in Early Java and Bali //The Gift of Water: Water Management, Cosmology, and the State in Southeast Asia/ Ed. by J. Rigg. London: School of Oriental and African Studies, 1992. P. 12.
[98] Andaya B. W. Op. cit. P. 426.
[99] Этой идеей я обязан книге: Fox E. W. History in Geographical Perspective: The Other France. New York: Norton, 1971. P. 25.
[100] Полагаю, что использование слонов для введения противника в состояние «шока и трепета» в ходе военной кампании имело более важное значение, чем их ценность как вьючных животных. Я благодарен Кэтрин Боуи, которая напомнила мне о подобном военном применении слонов.
[101] The Man Shu (Book of the Southern Barbarians)/Trans, by G. H. Luce, ed. by G.R Oey. Ithaca: Cornell University, 1961 (= Data paper № 44 Southeast Asia Program). P. 4–11.
[102] Я благодарен Александру Ли за сбор и расчет этой информации: Ainslie С. Report on a Tour through the Trans-Salween Shan States, Season 1892–1893. Rangoon: Superintendent, Government Printing, 1893. Я выбрал два параллельных пути, обследованных Эйнсли, из Панъяна в Монпан. Он пишет, что «есть и другой путь — дорога Лонг-лок, которая проложена высоко в горах и считается очень плохой даже для тяжело нагруженных людей». Эйнсли также отмечает наличие или отсутствие мест для стоянки. Многие из них (чистые, пологие склоны вблизи воды) оказываются затоплены в сезон дождей. Единица измерения в представленной ниже таблице — «этап», или дневной отрезок пути.
[103] Цифры для оценки пеших путешествий и возможностей носильщиков и навьюченных телег взяты из книги: Reid A. Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680. New Haven: Yale University Press, 1992. Vol. 2. Expansion and Crisis. P. 57. Джереми Блэк в работе о военных передвижениях в Европе XVII века называет пятнадцать миль (двадцать четыре километра) в качестве наибольшего расстояния, которое может пройти армия задень: Black J. European Warfare, 1660–1815. New Haven: Yale University Press, 1994. P. 37. Более крупная армия, нуждающаяся в обозе, могла осилить в среднем лишь десять миль (шестнадцать километров) в день (что объясняет тактическую важность быстро передвигающейся кавалерии): Feeding Mars: Logistics in Western Warfare from the Middle Ages to the Present / Ed. by J. A. Lynn. Boulder: Westview, 1993. P. 2.
[104] См. расчеты передвижения повозки, запряженной четверкой лошадей, в книге: Feeding Mars… P. 19. Возможно, благодаря прославленным дорогам Римской империи, по мнению Питера Хизера, запряженная волами повозка могла преодолеть примерно двадцать пять миль (сорок километров) в день. Указ Диоклетиана о ценах, однако, зафиксировал двукратное удорожание стоимости телеги пшеницы каждые следующие пятьдесят миль (восемьдесят километров) пути. См.: Heather P. The Fall of the Roman Empire: A New History of Rome and the Barbarians. Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 107, 111.
[105] Fox F. W. Op. cit. P. 25.
[106] Lehman F. K. [Chit Hiding] Burma: Kayah Society as a Function of the Shan-Burma-Karen Context // Contemporary Change in Traditional Society/ Ed. by J. Steward. Urbana: University of Illinois Press, 1967. Vol. 1. P. 1–104, цитата со стр. 13.
[107] Reid A. Op. cit. Vol. 2. P. 54.
[108] Tilly С. War Making and State Making as Organized Crime // Bringing the State Back In / Ed. by P. Evans, D. Rueschmeyer, T. Skocpol. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 178.
[109] Приводится no: Fitzherbert G. Review of M. C. Goldstein. A History of Modern Tibet. Berkeley: University of California Press, 2008. Vol. 2. The Calm before the Storm, 1951–1955 //Times Literary Supplement. 2008. March 28. P. 24.
[110] Выражение «прямой кратчайший путь» // в английском языке дословно звучит «как летит ворона», что идеально отражает легкость перемещения по воздуху, хотя, конечно, штормы, потоки воздуха и сильные ветры вряд ли позволяют рассматривать воздух как среду без препятствий.
[111] Thongchai Winichakul Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1994. P. 31.
[112] Braude/FThe Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II / Trans, by S. Reynolds. New York: Harper and Row, 1966.
[113] Вторжение Вильгельма в Великобританию — исключение, которое лишь подтверждает правило, поскольку большая часть Великобритании расположена вблизи судоходных путей к морю.
[114] Andaya В. W. Op. cit. P. 427. Андайя приводит столь же впечатляющие цифры, характеризующие военную мощь Матарама (Ява) и Авы (Бирма).
[115] Поливное земледелие прежде и сегодня распространено вдоль подобных рек, однако здесь оно оказалось менее стабильным и надежным, чем у небольших постоянных водных потоков. См.: Staargardt J. Op. cit. По сути, это иронический комментарий в адрес широко дискредитированного тезиса Карла Виттфогеля о том, что, хотя экстенсивное ирригационное земледелие могло развиваться и развивалось независимо от государства, широкомасштабные дренажные работы, необходимые для сельскохозяйственного использования открытых низменностей в дельтах рек, могли потребовать иного типа «гидравлического государства» и предоставления кредитов первопроходцам.
[116] Leach E. R. The Frontiers of Burma// Comparative Studies in Society and History. 1960. № 3. P. 58.
[117] Ibid.
[118] Ibid. P. 56.
[119] Релевантной мне кажется трактовка стандартной рыночной зоны Дж. В. Скиннером, заимствованная им из работ фон Тюнена и Кристаллера и дополненная. См.: Skinner G. W. Chinese Peasants and the Closed Community: An Open and Shut Case // Comparative Studies in Society and History. 1971. № 13. P. 270–281. Поскольку модель Скиннера базируется на понятии стандартного плоского рельефа, ее следует скорректировать с учетом изменчивого воздействия судоходных рек, с одной стороны, или болотистых и горных местностей — с другой. Весьма показательный пример — религиозные верования куда быстрее и легче распространяются вниз по реке, чем через холмы. См., например, созданное Чарльзом Кисом описание Телахона, пророческого культа у каренов в горах за Мулмейном/ Мауламиином (Ethnic Adaptation and Identity: The Karen on the Thai Frontier with Burma/ Ed. by OF Keyes. Philadelphia: ISHII, 1979. P. 66–67).
[120] Leach E. R. Op. cit. P. 58.
[121] Anderson B. The Idea of Power in Javanese Culture //Culture and Politics in Indonesia/ Ed. by C. Holt et al. Ithaca: Cornell University Press, 1972.
[122] Royal Orders of Burma, A.D. 1598–1885. Part I. A.D. 1598–1648 / Ed. by Than Tun. Kyoto: Center for Southeast Asian Studies, 1983. P. 72.
[123] Wolters O. W. History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives / Rev. ed. // Ithaca: Cornell University Press; Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1999. P. 28.
[124] Thongchai Winichakul. Op. cit.
[125] Ibid. P. 88. Тонгчай утверждает, что это была целенаправленная стратегия Камбоджи в XIX веке — платить дань одновременно и Сиаму, и Вьетнаму.
[126] Ibid. P. 73, 86. Тонгчай отмечает, что маленькое княжество Лая платило дань одновременно Китаю, Тонкину и Луангпхабангу. Признанное сегодня классическим исследование подобных зон раздробленного суверенитета и порождаемых ими текучих социальных и политических идентичностей, которые они порождают, представлено в книге: White R. The Middle Ground: Empires and Republics in the Great Lakes Region, 1650–1815. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
[127] См.: Royal Orders of Burma… Part 3. P. vii.
[128] Можно было бы предположить, что путешествие по реке было исключением из этого правила. Однако за месяцы обильных дождей реки превращались в бурные потоки, по ним крайне трудно было плыть, не говоря уже об обратном пути против быстрого течения.
[129] Desawarnana (Nagarakartagama) цит. по: Wolters О. W. Op. cit. P. 36.
[130] См., например: Glass Palace Chronicle: Excerpts Translated on Burmese Invasions of Siam/ Compiled and annotated by Nai Thein // Journal of the Siam Society. 1908. № 5. P. 1–82; 1911. № 8. P. 1–119.
[131] Gazetteer of Upper Burma and the Shan States / Compiled from official papers by J. G. Scott, assisted by J. P. Hardiman. Rangoon: Government Printing Office, 1893. Vol. I. Part I. P. 136.
[132] Вероятно, наиболее поразительный пример из колониального периода — захват французского форпоста в Дьен Бьен Фу силами Северного Вьетнама при поддержке горных народов. Более показательные примеры представлены в прекрасном анализе Вильяма Генри Скотта стратегий борьбы игоротов против испанцев в Северном Лусоне: Scott W. H. The Discovery of the Igorots: Spanish Contacts with the Pagans of Northern Luzon / Rev. ed. Quezon City: New Day, 1974. P. 31–36, 225–226.
[133] Reid A. Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680. New Haven: Yale University Press, 1988. Vol. I. The Lands Below the Winds. P. 20. Оуэн Латтимор, рассуждая о государственном центре и границах, предложил шкалу хозяйственных практик, на полюсах которой находятся наиболее экстенсивные и интенсивные из них: охота-собирательство, кочевое скотоводство, богарное и ирригационное земледелие. Последнее, в силу предоставляемой им возможности концентрировать рабочую силу и зерно, по мнению Латтимора, в наибольшей степени благоприятствует государственному строительству [Lattimore О. The Frontier in History// Studies in Frontier History: Collected Papers, 1928–1958. Oxford: Oxford University Press, 1962. P. 469–491, особенно 474).
[134] O’Connor R. A. Agricultural Change and Ethnic Succession in Southeast Asian States: // A Case for Regional Anthropology // Journal of Asian Studies. 1995. № 54. P. 988, n. 11. О’Коннор ссылается на работу: Lehman F. K. [Chit HIaing] Empiricist Method and Intentional Analysis in Burmese Historiography: William Koenig’s The Burmese Polity, 1752–1819, A Review Article // Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies. 1991. № 6. P. 77–120.
[135] На самом деле выращивающие рис крестьяне могли заниматься богарным и подсечно-огневым земледелием наряду с ирригационным. Земледельцам сложный набор повседневных хозяйственных практик давал возможность для маневра. Они могли снизить какой-то один налоговый сбор или облегчить все налоговое бремя, засеивая меньшую площадь земли облагаемым высокими налогами рисом и увеличивая посадки облагаемых меньшими налогами культур.
[136] Condominas С. From Lawa to Mon, from SaatoThai: Historical and Anthropological Aspects of Southeast Asian Social Spaces / // Trans, by S. Anderson et al. Canberra: Australian National University, 1990 (= An Occasional Paper of the Department of Anthropology in Association with the Thai-Yunnan Project, Research School of Pacific Studies). Майкл Манн в книге «Источники социальной власти» использует удивительно схожую метафору «социального заключения» для обозначения попыток первых государств ограничить перемещения населения: Mann М. The Sources of Social Power. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 54–58.
[137] Цит. no: Elvin M. The Retreat of the Elephants: An Environmental History of China. New Haven: Yale University Press, 2004. P. 104.
[138] См.: Trager F. N., Koenig W. J. Burmese Sittans, 1784–1826: Records of Rural Life and Administration. Tucson: University of Arizona Press, 1979 (= Association of Asian Studies. Monograph № 36). Трагер и Кёниг подчеркивают, что даже истории районов в доколониальной Бирме фокусируются на том, что они называют «тень трона», то есть «периферия предназначалась в основном для обслуживания интересов королевского двора». Примечательное исключение из данного правила — sit-tans, ситтаны (обычно переводятся как «документальные свидетельства»), которые состояли из последовательных отчетов глав всех населенных пунктов о подконтрольной им территории, земельных участках, высеянных на них культурах и прежде всего обо всех источниках ежегодно выплачиваемых в государственную казну доходов. По сути, это реестр доходов, в котором особое внимание уделено самым прибыльным землям: орошаемым рисовым полям, в год дающим один или два урожая.
[139] Trager F. N., Koenig W. J. Op. cit. P. 77–78.
[140] Термин принадлежит Роберту Элсону: // El son R. International Commerce, the State, and Society: Economic and Social Change // Cambridge History of Southeast Asia/ Ed. by N. Tarling. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Vol. 2. The Nineteenth and Twentieth Centuries. P. 131.
[141] Carniero R.L A Theory of the Origin of the State // Science. 1970. № 169. P. 733–738.
[142] Geertz С. Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali. Princeton: Princeton University Press, 1980. P. 24.
[143] Thongchai Winichakul. Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1994. P. 164.
[144] Andaya B. W. Political Development between the Sixteenth and the Eighteenth Centuries// Cambridge History of Southeast Asia / Ed. by N. Tarling. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Vol. I. From Early Times to 1800. P. 402–459, особенно 422–423. Понятие Dato / Data в малайском мире означает «господин с вассалами». Бирманские чиновники выше уровня деревенских старост нередко назначались получателями местных доходов (часто упоминаются города — пожиратели доходов, или myo-sa). Это был не уровень правителей района, поскольку местные доходы обычно распределялись долями между множеством высокопоставленных сановников. Причем данное право обычно не передавалось по наследству. Кроме того, чиновники, управлявшие конкретным населенным пунктом или извлекавшие из него доходы, сохраняли право распоряжаться его жителями или собирать с них налоги даже после того, как те уезжали жить в другое место. Британцы были крайне удивлены, обнаружив, что жители одного населенного пункта приносили клятву верности или платили налоги сразу нескольким господам.
[145] Kathirithamby-Wells J. The Age of Transition: The Mid-eighteenth Century to Early Nineteenth Centuries // Cambridge History of Southeast Asia/ Ed. by N. Tarling. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Vol. I. From Early Times to 1800. P. 883–884.
[146] Reid A. Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680. New Haven: Yale University Press, 1993. Vol. 2. Expansion and Crisis. P. 108.
[147] Ibid. P. 129.
[148] См., например, прекрасные доказательства, собранные Кеничи Киригайя (Kenichi Kirigaya. The Age of Commerce and the Tai Encroachments on the Irrawaddy Basin, draft paper. 2008. June); а также модели взаимоотношений центра и периферии в работе Нобору Ишикавы (Noboru Ishikawa. Centering Peripheries: Flows and Interfaces in Southeast Asia. Kyoto University: Center for Southeast Asian Studies. 2008. December [= JSPS Global СОЕ Program. Kyoto Working papers on Ares Studies № 10. Series 7. // In Search of Sustainable Humanosphere in Asia and Africa. Subseries 8]).
[149] Lieberman V. B. Strange Parallels… Vol. I. P. 88.
[150] Амар Сиамвалла обращает внимание на усилия государственных центров, расположенных в Мандалае, Бангкоке и Ханое, по предотвращению массовой миграции населения в южные дельты рек вне сферы их контроля (Amar Siamwalla. Land, Labour, and Capital in Three Rice-growing Deltas of Southeast Asia, 1800–1840. Discussion paper № 150. Yale Economic Growth Center, 1972. July). В грубых терминах «транспортной экономики» практически всегда имеет смысл перемещать людей на плодородные земли, а не продукты плодородных земель в столицу. Людей перемещать проще, чем зерно: они передвигаются самостоятельно, а после переселения производят излишки, которые уже не нужно перевозить на большие расстояния.
[151] См., например: Tilly С. Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992. Cambridge, Mass.: Blackwell, 1990. Ch. 5; Black J. European Warfare, 1660–1815. New Haven: Yale University Press, 1994. P. 9–15; Fox RW. History in Geographical Perspective: The Other France. New York: Norton, 1971. Ch. 2. Англия, конечно, яркое исключение. Ее успехи как в первую очередь морской державы, считает Блэк, опирались на полученные от торговли огромные богатства, которые позволяли стране оплачивать участие других вместо себя во многих битвах.
[152] Цит. по: Akin Rabibhadana. The Organization of Society in the Early Bangkok Period, 1782–1873. Cornell University Thailand Project. Interim Report Series № 12. 1969. July. P. 16–18.
[153] The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma/Trans, by Pe MaungTin, G. H. Luce/ Text Publication Fund of the Burma Research Society. Oxford: Oxford University Press, Humphrey Milford, 1923. P. 177.
[154] Akin Rabibhadana. Op. cit. P. 16–18.
[155] The Glass Palace Chronicle… P. 177, 150.
[156] См., например, длинный список вассалов королевы Тирусандеви: Ibid. P. 95.
[157] Правитель Палембанга в 1747 году отметил: «Подданному очень легко найти господина, но господину сложно найти подданного». Проясняющую ситуацию дискуссию и набор пословиц по теме (включая некоторые уже процитированные выше) см.: Reid A. «Closed» and «Open» Slave Systems in Precolonial Southeast Asia // Slavery, Bondage, and Dependency in Southeast Asia/Ed. by A. Reid. New York: St. Martin’s, 1983. P. 156–181, особенно 157–160.
[158] Thucydides. The Peloponnesian War/Trans, by R. Warner. New York: Penguin Books, 1972. Например, стр. 67, 96, 221, 513 и 535. Фукидид всячески восхваляет спартанского военачальника Брасида, который путем переговоров добился мирной капитуляции городов, что увеличило налоговые поступления и ресурсы рабочей силы Спарты без человеческих жертв с ее стороны.
[159] Elvin М. Op. cit. P. 104. Цитата из свитка Гуанси конца IV века до н. э.
[160] Ibid. Цитата из книги «The Book of the Lord of Shang».
[161] Herbst J. States and Power in Africa: Comparative Lessons in Authority and Control. Princeton: Princeton University Press, 2000. P. 18.
[162] Kopytoffl. The African Frontier: The Reproduction of Traditional African Societies. Bloomington: Indiana University Press, 1987. // P. 40. Превосходное эссе Копытоффа проясняет многие моменты в жизни страдающих от недостатка рабочей силы политических систем.
[163] Ibid. P. 62, 53.
[164] Ibid. P. 62.
[165] O’Connor Я. А. Rice, Rule, and the Tai State // State Power and Culture in Thailand / Ed. by E.R Durrenberger. New Haven, 1996 (= Yale Southeast Asia Series. Monograph № 44). // P. 68–99, цит. со стр. 81.
[166] Thant Myint. W The Crisis of the Burmese State and the Foundations of British Colonial Rule in Upper Burma. Ph.D. diss. Cambridge University, 1995. P. 46–47.
[167] Больше информации по этой теме приведено в моей работе: Scoff J. Seeing Like a State: How Certain Schemes for Improving the Human Condition Have Failed. New Haven: Yale University Press, 1998. См. особенно главы 1 и 2.
[168] Ситтаны содержат свидетельства агроэкологической специализации этнических групп. Так, карены, проживавшие в Хантавади/Пегу, в основном были подсечно-огневыми земледельцами и собирателями, которые платили налоги как с производства меда и серебра, так и с небольших зерновых урожаев. См.: Toshikafsu Ifo. Karens and the Kon-baung Polity in Myanmar// Acta Asiatica. 2007. № 92. P. 89–108.
[169] Furnivall J. S. The Fashioning of Leviathan: The Beginnings of British Rule in Burma / Ed. by G. Wijeyewardene. Canberra: Department of Anthropology, Research School of Pacific Studies, Australian National University, 1991 (1-е изд.: 1939). P. 116.
[170] Здесь может быть полезна простая аналогия с пчеловодством. Еще примерно столетие назад сбор меда был достаточно сложным предприятием. Даже если пчелиные рои содержались в соломенных ульях, сбор меда обычно предполагал, что пчел выкуривали из ульев огнем или дымом и нередко при этом уничтожали весь рой. Создание больших ульев и медовых сот привело к формированию разнообразных моделей пчеловодства, которые менялись от улья к улью, усложняя сбор урожая и делая его слишком затратным. Современный пчелиный улей, наоборот, призван решить проблемы пчеловода. Приспособление, называемое изолятором для матки, отделяет нижнюю часть улья с расплодом от находящихся наверху основных запасов меда, что не дает матке попасть в другие помещения и отложить там яйца сверх определенной нормы. Соты аккуратно организованы в вертикальных рамках, от девяти до десяти штук на улей, что позволяет легко, рамка за рамкой, извлекать мед, воск и прополис. Сбор урожая меда производится по результатам наблюдения за «пчелиным пространством» — расстоянием между рамками (примерно девять с половиной миллиметров), которое пчелы оставляют свободным, не строя соты между ними. С точки зрения пчеловода современный улей — организованное, «подотчетное» ему пространство, позволяющее инспектировать состояние роя и матки, оценивать урожай меда (обычно по весу), увеличить или уменьшить его размер посредством стандартных запасных частей, переносить улей на новое место и прежде всего забирать ровно то количество меда (в умеренном климате), чтобы сохранить рою шанс успешно перезимовать. И ровно так же как пчеловод совершает набег на улей, когда тот переполнен медом, военные вторжения были приурочены к конкретным сезонам и совпадали с началом сухого сезона и созреванием урожая — для грабежей и обеспечения армии питанием. Фукидид отмечал, что вторжения начинались тогда, когда вдоль пути следования армии созревал урожай и что неверный расчет, то есть слишком раннее, пока злаки еще не созрели, нападение грозило смертельной опасностью. В случае карательной операции вторгшаяся армия могла также сжигать поля с созревшим урожаем (что было невозможно, если речь шла о корнеплодах), таким образом вынуждая враждебное население бежать или оставляя его без средств к существованию (Thucydides. Op. cit. P. 173, 265, 267). He развивая данную аналогию дальше, чем она того заслуживает, подчеркнем еще раз: концентрация и единообразие монокультурного земледелия — в нашем случае поливного рисоводства — обеспечивают налоговым сборщикам и военным вербовщикам примерно то же, что современный улей — пчеловоду.
[171] Hardy A. Red Hills: Migrants and the State inthe Highlands of Vietnam. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2003. P. 288. Харди цитирует одновременно работу на вьетнамском языке авторства Май Хак Унга и, среди прочих, Масайю Шираиши: Маsaya Shiraishi. State, Villagers, and Vagabonds: Vietnamese Rural Society and the Phan BaVanh Rebellion//Senri Ethnological Studies. 1984. № 13. P. 345–400.
[172] Цит. no: Hardy A. Op. cit. P. 240–255. В книге Харди представлен хороший обзор французской политики, как и в работе Оскара Салеминка: Salemink О. The Ethnography of Vietnam’s Central Highlanders: // A Historical Contextualization, 1850–1990. London: Routledge-Curzon, 2003. См. также: Turbulent Times and Enduring Peoples: Mountain Minorities inthe Southeast Asian Massif/ Ed. by J. Michaud. Richmond, England: Curzon, 2000; McElwee P. Becoming Socialist or Becoming Kinh: Government Policies for Ethnic Minorities in the Socialist Republic of Vietnam//Civilizing the Margins: Southeast Asian Government Policies for the Development of Minorities / Ed. by C. R. Duncan. Ithaca: Cornell University Press, 2004. P. 182–221. Описание переселенческой политики злосчастного сайгонского режима см.: Stan В-Н Tan. Dust beneath the Mist: State and Frontier Formation in the Central // Highlands of Vietnam, the 1955–1961 Period. Ph.D. diss. Australian National University, 2006.
[173] Empire at the Margins: Culture and Frontier in Early Modern China/ Ed. by P. K. Crossley, H. Siu, D. Sutton. Charlottesville: University of Virginia Press, 2006. См. особенно статьи Джона Хермана, Дэвида Фора, Дональда Саттона, Энн Сет, Винг-хой Чана, Хелен Сиу и Луи Живея.
[174] Evans G. Central Highlands of Vietnam // Indigenous Peoples of Asia/ Ed. by R. H. Barnes, A. Gray, B. Kingsbury. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995 (= Association of Asian Studies. Monograph № 48).
[175] Tapp N. Sovereignty and Rebellion: The White Hmong of Northern Thailand. Singapore: Oxford University Press, 1990. P. 38. См. также: Geddes W. R. Migrants of the Mountains: The Cultural Ecology of the Blue Miao [Hmong Njua] of Thailand. Oxford: Clarendon, 1976. P. 259.
[176] Tapp N. Op. cit. P. 31, 34.
[177] Эта особенность материковой части Юго-Восточной Азии воспроизводится на юге малайского мира. Султаны Перака (Малайзия) постоянно настаивали, чтобы проживавшие на равнинах, но высоко мобильные семаи создавали постоянные поселения. ВСараваке правительство Малайзии неизменно стремилось «заставить пунанов следовать нормам земледельческих народов». «Прогресс и развитие предполагали стандартизацию по модели крестьянства: рисоводство в масштабах самообеспечения». См.: Tribal Communities in the Malay World: Historical, Cultural, and Social Perspectives/ Ed. by G. Benjamin, C. Chou. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002. P. 47; Denton R. K., Endicott K, Gomes A., Hooker M. B. Malaysia and the Original People: A Case Study of the Impact of Development on Indigenous Peoples, Cultural Survival Studies in Ethnicity and Change. Boston: Ally n and Bacon, 1997; Leary J. D. Violence and the Dream People: The Orang Asli and the Malayan Emergency, 1948–1960. Athens: Ohio University Center for International Studies, 1995 (= Monographs in International Studies, Southeast Asian Studies № 95); Sellato B. Nomads of the Borneo Rainforest: The Economics, Politics, and Ideology of Settling Down/Trans. by S. Morgan. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1994. P. 171–173.
[178] Malseed K. «We Have Hands the Same as Them»: Struggles for Local Sovereignty and Livelihoods by Internally Displaced Karen Villagers in Burma. Unpublished research paper/ Karen Human Rights Group, 2006. P. 9.
[179] Wolters O. W. History Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives/ Rev. ed. Ithaca: Cornell University Press; Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1999. Разные стр., но особенно 58–67.
[180] Empire at the Margins… См. особенно статью: Siu H., Liu Zhiwei. Lineage, Market, Pirate, and Dan: Ethnicity in the Pearl River Delta. P. 285–331. Авторы полагают, что процесс, в ходе которого народ дань превратился в народ хань, типичен для начала государственного строительства в рамках Ханьской империи.
[181] Wolters О. W Op. cit. P. 86.
[182] Тайская языковая семья включает в себя огромное количество народов, проживающих на территории от севера Вьетнама до северо-востока Индии. На востоке Бирмы (в шанских государствах), большей части северного Таиланда и на юге провинции Юньнань это в основном занимающиеся поливным рисоводством, формирующие государственные структуры и исповедующие буддизм народы. Именно об этих тайцах я и веду речь. Однако по всему региону рассеяны другие тайские народы (иногда их называют «горные тайцы»), которые не исповедуют буддизм, занимаются подсечно-огневым земледелием и живут без каких бы то ни было государственных структур.
[183] Wyatt D. Цит. по: Wolters О. W Op. cit. P. 128п10.
[184] Lieberman V. B. Strange Parallels… Vol. I. P. 271–273, 318–319.
[185] Ibid. P. 319. Мне кажется, Либерман придает слишком большое значение этническому и религиозному сознанию. Скорее всего, идентичности были весьма подвижны, их носители говорили на двух или больше языках и, вероятно, в большей степени идентифицировали себя с местом рождения или жительства, чем с некой лингвистической или этнической общностью.
[186] Heather P. The Fall of the Roman Empire: // A New History of Rome and the Barbarians. Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 201. С помощью этого примера Хизер стремится показать, что римляне на кельтской периферии своей империи, несмотря на незначительную численность, могли тем не менее культурно доминировать.
[187] Condominas G. Op. cit. P. 65–72.
[188] Ibid. P. 41.
[189] Вскользь упоминается в статье Мэнди Садан: Sac/an М. Translating gumlau: History, the «Kachin», and Edmund Leach // Social Dynamics in the Highlands of Southeast Asia: Reconsidering Political Systems of Highland Burma by E. R. Leach / Ed. by F. Robinne, // M. Sadan. Leiden: Brill, 2007 (= Handbook of Oriental Studies, section 3, Southeast Asia). P. 76.
[190] Leach E The Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure, 1954. Boston: Beacon Press, 1968. P. 39.
[191] «В тайской социальной системе только вожди и свободные крестьяне владели полями поливного рисоводства, не-тайцы не могли их иметь» [Condominas G. Op. cit. P. 83).
[192] Весьма проницательный анализ представлен в книге: Friedman J. Dynamique et transformations du systeme tribal, I’example des Katchins // L’homme. 1975. № 15. P. 63–98. Возникавшие на юго-западе Китая многочисленные мелкие тайские княжества всегда располагались на плодородном плоскогорье, пусть и на достаточно большой высоте. Такие плоскогорья по-китайски назывались bazi, что можно перевести как «небольшая долина» или «равнина на горном плато». Я благодарен Шаншан Ду за объяснение этих терминов.
[193] Малайское государство, если сравнивать государственные образования доколониальной Юго-Восточной Азии с точки зрения их потребности в рабочей силе, наверное, особый случай. Оно было исключительно открытым, плюральным, легко поглощающим окружающие народы, поскольку механизм их ассимиляции базировался в большей степени на принятии подданства, чем на общей культурной идентичности. Практически все, что нужно было делать, — говорить на малайском (торговый язык, как суахили), исповедовать ислам и стать подданным малайского государства. Присоединение к этому колоссальному по своим человеческим ресурсам государству не исключало насилия. Малакка и другие малайские государства контролировали большую часть невероятно прибыльной рабовладельческой торговли в регионе. Хотя классические малайские государства обычно были торговыми портами, служа связующим звеном между лесными продуктами и международной торговлей, самым дорогостоящим грузом в трюмах кораблей были пленники, которых продавали или удерживали в рабстве. Насколько космополитическим малайское государство было в начале XVI века (незадолго до португальского завоевания), хорошо отражено в утверждении Томе Пиреша, что на улицах Малакки можно услышать восемьдесят четыре языка. Она не только соперничала и, пожалуй, превосходила Венецию и Константинополь своим разнообразием, но и была социально-политической системой, благоволящей к талантам. Величайший из правителей Малакки, султан Мансур, назначил управлять своими финансами «короля язычников» из Индии, который принял ислам и стал родоначальником известной династии придворных советников. Тот же султан возвысил одного из своих рабов-немусульман из Палембанга, который, в свою очередь, основал мощную династию Лаксамана. Как подчеркивает Рид, чужаки могли быстро стать своими и занять видное положение. «Некоторые иностранные торговцы, исповедующие ту же религию и говорящие на том же языке, могли очень быстро войти в состав местной аристократии, хотя все желающие могли сделать то же самое в рамках одного поколения, если соглашались принять господствующую религию и культуру». Как и тайское рисовое государство, малайский тип государственности, negeri, был эффективной центростремительной демографической машиной. Одним из показателей ее успешности является тот факт, что большинство малайцев, выражаясь современным языком, были «малайцами иностранного происхождения»: бенгальцами/яванцами/китайцами/минангкабау-малайцами и т. д. Даже самые ранние поселения малайского мира, скорее всего, формировались из разнообразных этнических источников для использования торговых возможностей. Таким образом, каждый малайский город обладает собственным культурным своеобразием, в значительной степени обусловленным особенностями поглощенного им местного населения, // не говоря уже о рабах и торговцах, которых он также вобрал в себя. В этом смысле малайскость — скорее приобретенный статус (иногда по принуждению!): в меньшей степени этническая идентичность, чем набор минимальных культурных и религиозных критериев членства в торговом государстве и его иерархии. Малайская идентичность еще более подвижна, чем тайская, но основу каждой составляло признание себя подданным государства, обладавшего всеми возможностями для поглощения максимального количества человеческих ресурсов.
[194] См.: Aung-Thwin М. Irrigation in the Heartland of Burma: Foundations of the Precolonial Burmese State. DeKalb: Northern Illinois University, Center for Southeast Asian Studies. 1990 (= Occasional paper № 15); Reid A. Southeast Asia in the Age of Commerce… Vol. I. P. 20, 22.
[195] Lieberman V. B. Strange Parallels… Vol. I. P. 90.
[196] Ibid. Здесь мне также кажется, что Либерман ретроспективно приписывает идентичности, которые, учитывая би- и даже трилингвальность и пространственную мобильность, были куда более размытыми, чем обозначено в представленном списке. Либерман приводит его практически всегда, когда пишет об идентичности бирманцев и монов в XVIII веке: Lieberman V. B. Ethnic Politics in Eighteenth-Century Burma// Modern Asian Studies. 1978. № 12. // P. 455–482.
[197] Lieberman V. B. Strange Parallels… Vol. I. P. 114.
[198] См., например: ThantMyintU. Op. cit. P. 35.
[199] Reverend Father Sangermano. A Description of the Burmese Empire/Trans, by W. Tandy. Rome: John Murray, 1883.
[200] Lieberman V. B. Ethnic Politics in Eighteenth-Century Burma…
[201] Речь может идти и идет об исторических предпосылках культурных различий, которые сегодня рассматриваются одновременно как принципиально важные и очень древние. Так, Эрнест Геллнер утверждает, что многие говорящие сегодня на арабском языке регионы Северной Африки состоят «в значительной степени из арабизированных берберов» (Gellner £. Saints of the Atlas. London: Weidenfeld and Nicolson, 1969. P. 13). Николас Тапп, рассуждая о юго-западном Китае, заявляет, что «процесс синизации/китаизации… был не столько обусловлен вторжением в юго-западный Китай ханьцев с севера, сколько стал результатом превращения в китайцев коренных народов, особенно проживающих на равнинах». Тапп пишет: «Таким образом, множество „китайцев“ в этом регионе не были потомками, в биологическом смысле, группы северных ханьцев, а, скорее, решили играть роль китайцев, когда это стало им выгодно» (Тарр N. Op. cit. P. 172).
[202] Скотт цитирует «Анти-Дюринг» Ф. Энгельса.
[203] O’Connor R. A. Agricultural Change and Ethnic Succession… Разные стр.
[204] Reid A. Introduction // Slavery, Bondage, and Dependency in Southeast Asia… P. 27.
[205] Gibson T. Raiding, Trading, and Tribal Autonomy in Insular Southeast Asia//An Anthropology of War/Ed. by J. Hess. New York: Cambridge University Press, 1990. P. 125–145.
[206] Эта проблематика хорошо описана в прекрасной статье: Bowie К. Slavery in Nineteenth-Century Northern Thailand: Archival Anecdotes and Village Voices // State Power and Culture in Thailand / Ed. by E.P Durrenberger. New Haven: Yale University Press, 1996 (= Southeast Asia Studies. Vol. № 44). P. 100–138.
[207] Ibid. P. 110.
[208] С 1500 no 1800 год в регионе наблюдался постоянный приток рабов из Африки, многие из них были искусными ремесленниками и моряками, которые, двигаясь на восток, пересекали Индийский океан. Этот малоизвестный факт о работорговле за пределами Атлантического океана был открыт совсем недавно.
[209] Bowie К. Op. cit. Цитируется работа: Colquhoun A. R. Amongst the Shans. London: Field and Tuer, 1885. P. 257–258.
[210] Островная часть Юго-Восточной Азии — аналогичный случай с двумя исключениями. Во-первых, морские экспедиции за рабами полностью опустошали небольшие острова и береговые линии, захватывая пленников и вынуждая остальных жителей отступать вглубь страны, нередко вверх по течению рек или в горы. На пляжах обычно возводились сторожевые вышки, чтобы предупреждать жителей побережья о пиратах-работорговцах. Во-вторых, мусульманам запрещалось угонять в рабство других мусульман, хотя этот запрет часто нарушался. Насколько мне известно, роль данного запрета как причины обращения в ислам еще не изучена, хотя это должен был быть сильный стимул. Матарам начала XVII века следовал материковому запрету; он уничтожал мятежные государства-данники (например, Панджанг, Сурабая) и переселял их население в Матарам. Он совершал набеги на горные районы. «Будучи заселены немусульманами, горы Тенгер были санкционированными источником рабов… Между 1617 и 1650 годами военные силы Матарама совершали неоднократные набеги на горные территории… за рабами» [Hefner R. W. The Political Economy of Mountain Java: An Interpretative History. Berkeley: University of California Press, 1990. P. 37).
[211] Gazetteer of Upper Burma and the Shan Stated / Compiled from official papers by J. G. Scott, assisted by J. P. Hardiman. Rangoon: Government Printing Office, 1893. Vol. I. Parti. P. 432.
[212] Т. Гибсон в работе «Набеги, торговля и племенная автономия» хорошо показал, как работал этот принцип в островной части Юго-Восточной Азии. Он описывает бундов (Филиппины) как пример общества, на которое велась охота, и ибанов как организованное сообщество охотников на рабов. Прекрасное описание морского рабства представлено в работе: Warren J. F. The Sulu Zone, 1768–1898: The Dynamics of External Trade, Slavery, and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State. Singapore: Singapore University Press, 1981.
[213] Crosthwaite С. The Pacification of Burma. London: Edward Arnold, 1912. P. 318.
[214] Condominas G. Op. cit. P. 53.
[215] Salemink O. Op. cit. P. 28; Evans G. Tai-ization: Ethnic Change in Northern Indochina// Civility and Savagery: Social Identity in Tai States / Ed. by A. Turton. Richmond, England: Curzon, 2000. P. 263–289, цитата со стр. 4. См. также: Izikowitz K. G. Lamet: Hill Peasants in French Indochina. Gothenburg: Ethnografiska Museet, 1951. P. 29.
[216] Kunstadter P. Ethnic Group, Category, and Identity: Karen in North Thailand // Ethnic Adaptation and Identity: The Karen and the Thai Frontier with Burma/ Ed. by C. F. Keyes. Philadelphia: ISHI, 1979. P. 154.
[217] Izikowitz K. G. Op. cit. P. 24.
[218] Von Geusau L. A. Akha Internal History: Marginalization and the Ethnic Alliance System// Civility and Savagery: Social Identity in Tai States / Ed. by A. Turton. Richmond, England: Curzon, 2000. P. 122–158. На островной части Юго-Восточной Азии большинство, если не все те группы, что назывались «горными племенами», сегодня обладают культурной памятью, для которых характерен сильный страх перед похищением и рабством. Все, что мы знаем о пенанах/пунанах и мокенах (народах, живущих на лодках, или «морских пиратах» западного берега Бирмы), говорит о том, что избегание похищения составляет основу их образа жизни. Наиболее документально подтвержденный пример — так называемые оранг-асли (семай, семанги, джакуны, батеки, сенои, темуаны), на которых активно охотились до 1920-х годов. У них были причины спасаться бегством в годы Второй мировой войны и последовавшей за ней вооруженной партизанской борьбы против английских колонизаторов: они могли быть захвачены теми, кто желал превратить их в запасных солдат, следопытов и носильщиков или, чего они, собственно, и боялись, принудительно согнать их на одну территорию и поселить в охраняемых лагерях. Многие из этих групп придумали способы тайной меновой торговли и были предельно осторожны, торгуя с жителями равнин, всячески скрывая путь назад, к своему поселению в лесу, чтобы за ними не смогли проследить работорговцы.
[219] Glass Palace Chronicle: Excerpts Translated on Burmese Invasions of Siam / Compiled and annotated by Nai Thein // Journal of the Siam Society. 1911. № 8. P. 1–119, особенно стр. 15.
[220] Сложно сказать, что нам дают цифры, приведенные, например, в Хронике Стеклянного Дворца. В отчете о вторжении в Сиам утверждается, что более чем полумиллионная армия выступила из Хантавади. Данное утверждение, судя по нашим знаниям о досовременных войнах, откровенно нелепо. Вероятно, это пример того «космологического бахвальства», которое будет рассмотрено позже. В другом источнике говорится о чуть более позднем вторжении в Чиангмай, в котором якобы участвовала армия в 630 тысяч человек, из которых 120 тысяч прислал король Авы и его шанские данники, еще 120 тысяч — Хантавади, 120 — Проме, 150 — Анаврата, еще 120 — неуказанные города. Совпадающие цифры, конечно, придуманы специально и отражают, как я подозреваю, результат некоторого симбиоза дипломатии, традиций ведения хроник и астрологически благоприятных чисел (Journal of the Siam Society. 1908. № 5. P. 1–82, особенно стр. 20, 32).
[221] Renard R. D. Kariang: History of Karen-Tai Relations from the Beginnings to 1923. Ph.D. diss. University of Hawai’i, 1979. P. 143–144.
[222] См.: Trager F. N., Koenig W. J. Op. cit; Lieberman V. B. Burmese Administrative Cycles: Anarchy and Conquest, 1580–1760. Princeton: Princeton University Press, 1984.
[223] Lee J. Z. The Political Economy of a Frontier Region: Southwest China, 1250–1800. Cambridge: Harvard University Press, 2000.
[224] Koenig W. J. The Burmese Polity, 1752–1819: Politics, Administration, and Social Organization in the Early Kon-baung Period. Ann Arbor: University of Michigan, 1990 (= Papers on South and Southeast Asian Studies. // № 34). P. 160.
[225] Полнейшая информация представлена в работе: Lieberman V. B. Burmese Administrative Cycles… P. 152–177.
[226] Koenig W. J. Op. cit. P. 224.
[227] Цит. no: Kirsch A. T. Cosmology and Ecology as Factors in Interpreting Early Thai Social Organization // Journal of Southeast Asian Studies. 1984. № 15. P. 253–265.
[228] Lang ham-Carter R. R. The Burmese Army // Journal of the Burma Research Society. 1937. № 27. P. 254–276.
[229] Король Таксин (1768–1782) ввел татуирование подданных короны, чтобы предотвратить их захват принцами и знатными сановниками в качестве «частной собственности». Принятые в целом в тайском обществе приемы «маркировки» представлены в прекрасной статье: Pingkaew Laungaramsri. Contested Citizenship: Cards, Colours, and the Culture of Identification. Manuscript, 2008.
[230] Koenig W. J. Op. cit. Особенно глава 5 «Чиновники».
[231] Lieberman V. B. Strange Parallels… Vol. I. P. 61; Wo/ters O. W Op. cit. P. 141.
[232] Цит. no: Ma/seed К. Op. cit. P. 14.
[233] Ibid.
[234] Эта аргументация тщательно и убедительно проработана в книге: Lieberman V. B. // Burmese Administrative Cycles… См. также: Koenig W. J. Op. с it; Akin Rabibhadana. Op. cit.
[235] Lieberman V. B. Strange Parallels… Vol. I. R156.
[236] Thant Myint U. Op. cit. P. 5.
[237] Andaya B. W. Op. cit. P. 447.
[238] На ранних стадиях формирования государственности, когда численность его населения была меньше и он имел легкий доступ к сухопутным границам, Китай столкнулся с теми же дилеммами. См. обсуждение способов контроля населения в Ханьской империи в работе: Ebery Р. В. The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 73–75.
[239] Более детально см.: Scoff J. The Moral Economy of the Peasant: Subsistence and Rebellion in Southeast Asia. New Haven: Yale University Press, 1976, особенно глава 4.
[240] Нет ясного и рационального объяснения и внезапному решению генерала Тана Шве в 2006 году перенести столицу Бирмы из Янгона в отдаленный Нейпьидо.
[241] Эти притязания были прежде всего космологическими; они формировали язык дискурса монархической власти. Отсюда комическое противостояние мелких соседних государств, чьи монархи имели вселенские амбиции, хотя господствовали лишь над несколькими деревнями за пределами того, что каждый из них воспринимал как стены своего дворца. В Бирме и Таиланде брахманические знания, особенно астрология, все еще оказывают серьезное влияние на общество и его элиты, включая военных правителей Бирмы. См., например: Kirsch А. Т. Complexity in the Thai Religious System: An Interpretation//Journal of Asian Studies. 1972. № 36. P. 241–266. Кирш утверждает, что широко распространенный брахманизм и поклонение натам и пхи/фи (nat/phi) призваны символизировать «посюсторонний», мирской компонент буддийской традиции Тхеравады, в целом, сфокусированной на идее спасения. См. также: Ni Ni Hlaing. History of the Myanmar Ponna, M.A. thesis. University of Mandalay, 1999.
[242] Ф. К. Лиман (Чит Хлаинг) отмечает, что тайские и лаосские государства были «галактическими» в том смысле, что верховному правителю в принципе подчинялись все мелкие царьки — по модели бога Индры, у которого было тридцать два девата (мелких божества), хотя Бирма была более единым имперским государством (из личного разговора в январе 2008 года).
[243] Основное исключение из этого правила — Ханьская империя, которая не учитывала религиозный критерий для инкорпорирования подданных: человек просто должен был признать конфуцианство государственной религией.
[244] Pelley P. M. Post-Colonial Vietnam: New Histories of the National Past. Durham: Duke University Press, 2002. P. 89. Дуронг объясняет, почему мяо/хмонги, жившие на больших высотах, считались самыми нецивилизованными.
[245] Geusau von L. A. Akha Internal History: Marginalization and the Ethnic Alliance System // Civility and Savagery: Social Identity in Tai States/ Ed. by A. Turton. Richmond, England: Curzon, 2000. P. 122–158, цитата со стр. 141–142.
[246] Например, в Великобритании говорят, что студенты «восходят» в Оксфорд или Кембридж, даже если они спускаются с уэльских или шотландских холмов.
[247] Первоначально, конечно, использованная терминология обозначала бегство Мохаммеда в Медину из Мекки, но со временем стала обозначать миграцию и принятие нового образа жизни, таким образом, // в случае берберов речь шла о переходе к оседлости.
[248] Havelock Е. Л. The Muse Learns to Write: Reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the Present. New Haven: Yale University Press, 1986. P. 105.
[249] Можно вспомнить определение дома в стихотворении Роберта Фроста «Смерть батрака»: «Дом — значит место, где нас принимают, когда приходим мы» [пер. М. Зенкевича].
[250] Hardy A. Red Hills: Migrants and the State inthe Highlands of Vietnam. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2003. P. 25.
[251] В эпоху правления династии Конбаун бродяжничество ассоциировалось с бегством из королевских придворных служб (ahmudan) в частное услужение, а потому имело под собой внятные налоговые и административные основания (из личной беседы с Лиманом (Чит Хлаингом) в январе 2008 года).
[252] Khoo Thwe Pascal. From the Land of the Green Ghosts. London: Harper Collins, 2002. // P. 184–185.
[253] Цит. no: Giersch C. P. Qing China’s Reluctant Subjects: Indigenous Communities and Empire along the Yunnan Frontier, Ph.D. thesis. Yale University, 1998. P. 75.
[254] Возможно, вследствие того, что центры рисовых государств были окружены сообществами собирателей и подсечно-огневых земледельцев, бирманские короли называли свои земли окруженными «кольцом огня» (Andaya B.The Flaming Womb: Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2006. P. 25).
[255] Цит. no: Walker A. R. Merit and the Millennium: Routine and Crisis in the Ritual Lives of the Lahu People. Delhi: Hindustan Publishing, 2003. R 69–71, 88 и все последующие. См. также: Glahn von R. The Country of Streams and Grottoes: Expansion, Settlement, and the Civilizing of the Sichuan Frontier in Song Rimes. Cambridge: Harvard University Press, 1987.
[256] Бирманский эквивалент «сырого» (китайского слова shang) — lu sein (со ©&), // а для «приготовленного» (китайского слова shu) — /и s eg (со sjm). Первый можно перевести как «новичок» и «незнакомец», второй — как «приготовленный» или «зрелый».
[257] Гонсало Агирре Бельтран описывает те же процессы в Новом Свете, где население уходило от испанской колонизации в отдаленные горные районы (Beltran G. A. Regions of Refuge. Washington, DC, 1979 [= Society of Applied Anthropology Monograph Series № 12]. P. 87).
[258] Ни почитание своих (по отцовской линии) предков, по сути, частный внутрисемейный ритуал, ни публичный конфуцианский кодекс поведения не могли и претендовать на подобную роль.
[259] Giersch С. Р. Op. cit. P. 125–130.
[260] Blum S. D. Portraits of «Primitives»: Ordering Human Kinds in the Chinese Nation. Oxford: Rowman and Littlefield, 2001. Опрос, проведенный Блам среди ханьцев в Куньмине, показал, что кочевой образ жизни, проживание в горных районах, невыращивание поливного риса, хождение босиком и географическая отдаленность ассоциируются одновременно со статусом меньшинства и отсутствием цивилизации и развития, что, в свою очередь, воспринимается как соперничество с ханьцами. Были обозначены «фольклорные» меньшинства, например дайцы, которые находятся якобы «на пути» к превращению в ханьцев, и противоположные им ва, которые считаются крайне нежелательными и «сырейшими из сырых». Сложнее всего оказалось определить статусные позиции народов хуэй (мусульман) и занг (тибетцев), которые, почти как евреи на заре становления современной Европы, были грамотны и цивилизованны, но отказались от ассимиляции.
[261] O’Connor R. A. Agricultural Change and Ethnic Succession in Southeast Asian States: // A Case for Regional Anthropology // Journal of Asian Studies. 1995. № 54. P. 968–996, цитата со стр. 986.
[262] Как мы уже увидели, рисовое государство, будучи государством рабочей силы, не могло позволить себе избирательность в выборе объектов для поглощения в качестве своих подданных. Предполагалось, что постепенно горные народы ассимилируются к образу жизни в долинах. Что касается царского двора, то тут монархи радушно принимали индусов, португальцев, армян и китайцев как цивилизованных иностранцев и не предпринимали особых попыток их обращения.
[263] Литература по этой теме весьма обширна и в то же время запутанна. Схематичное описание рассматриваемых практик представлено в книге: Bronson В. Exchange at the Upstream and Downstream Ends: Notes toward a Functional Model of the Coastal State in Southeast Asia// Economic Exchange and Social Interaction in Southeast Asia: Perspectives from Prehistory, History, and Ethnography/ Ed. by K. Hutterer. Ann Arbor: Center for Southeast Asian Studies, University of Michigan, 1977. Здесь мы сфокусировались на взаимоотношениях жителей верховий и низовий рек, поскольку они максимально схожи с системой обменов между центральными и периферийными районами государства. Тем не менее следует отметить, что прибрежные государства (pasisir) нередко выступали пунктом сбора продукции сообществ мореплавателей (известных как оранг-лауты, или морские цыгане) в той же мере, как и горных товаров.
[264] Fienardfi D. The Role of the Karens in Thai Society during the Early Bangkok Period, 1782–1873 // Contributions to Asian Studies. 1980. № 15. P. 15–28.
[265] Salemink O. The Ethnography of Vietnam’s Central Highlanders: A Historical Contextualization, 1850–1990. London: Routledge-Curzon, 2003. P. 259–260.
[266] Lehman F. K. [Chit Hiding] Burma: Kayah Society as a Function of the Shan-Burma-Karen Context // Contemporary Change in Traditional Society/ Ed. by J. H. Steward. Urbana: University of Illinois Press, 1967. Vol. I. P. 1104, особенно 22–24.
[267] Дж. Дж. Скотт приводит более полный список того, что в начале века импортировалось в Кенгтунг в Восточном Шане, из различных соседних с ним государств. // Из Бирмы: дешевые ткани из Манчестера и Индии, ковры, бархат, атлас, анилиновые красители, зеркала, спички, керосин, сгущенное молоко, цветная бумага, свечи, мыло, графитные карандаши, эмалированная посуда. Из Западных Шанских штатов: все виды железных орудий, лакированные шкатулки, рыбный паштет и листья для скрутки сигар. Из Китая: соль, соломенные шляпы, медные и железные горшки, шелк, атлас, принадлежности для курения опиума, натуральные красители, чай, свинец, пистоны. См.: Gazetteer of Upper Burma and the Shan States / Compiled from official papers by J. G. Scott, assisted by J. P. Hardiman. Rangoon: Government Printing Office, 1893. Vol. I. Part 2. P. 424.
[268] Большинство авторов работ по истории малайского мира за последние два десятилетия согласны с этой интерпретацией. См., например: Sellato В. Nomads of the Borneo Rainforest: The Economics, Politics, and Ideology of Settling Down/Trans, by S. Morgan. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1994; Drakard J. A Malay Frontier: Unity and Duality in a Sumatran Kingdom. Studies on Southeast Asia. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1990; Bros/us J. P. Prior Transcripts: Resistance and Acquiescence to Logging in Sarawak// Comparative Studies in Society and History. 1997. № 39. P. 468–510; Hoffman C. L. Punan Foragers in the Trading Networks of Southeast Asia // Past and Present in Hunter Gatherer Studies / Ed. by С. Shrire. Orlando: Academic Press, 1984. P. 123–149. Хоффман утверждает, как мне кажется, весьма убедительно, что пунаны — это общее название множества групп, чьи связи с их торговыми партнерами в низовьях рек намного прочнее, чем друг с другом. И хозяйственные практики пунанов формировались с учетом их роли в коммерческих обменах, а не наоборот. Иными словами, они коммерческие спекулянты, надеющиеся на выгодную сделку.
[269] Renard R. D. Kariang: History of Karen-Tai elations from the Beginnings to 1923. Ph.D. diss. University of Hawai’i, 1979. P. 22.
[270] Практически повсеместно в регионе традиция «культа отцов-основателей» признает ритуальное (а не политическое) первенство первых поселенцев/тех, кто расчистил землю, от чьих взаимоотношений с духами природы зависит благоденствие и плодородие местности. См.: Lehman F. K. The Relevance of the Founders’ Cults for Understanding the Political Systems of the Peoples of the Peoples of Northern Southeast Asia and its Chinese Borderlands // Founders’ Cults in Southeast Asia: Ancestors, Polity, and Identity/ Ed. by N. Tannenbaum, C. A. Kammerer. New Haven: Council on Southeast Asian Studies, 2003 (Monograph № 52). P. 15–39.
[271] См., например: Tribal Communities in the Malay World: Historical, Cultural, and Social Perspectives / Ed. by G. Benjamin, C. Chou. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002. P. 50; Sellato B. Op. cit. P. 29, 39; Scoff W. H. The Discovery of the Igorots: Spanish Contacts with the Pagans of Northern Luzon / Rev. ed. Quezon City: New Day, 1974. P. 204.
[272] Банальный, но показательный современный пример: наклейку на автомобильном бампере с текстом «горжусь, что я американец» можно понять только как ответ на невысказанное, но подразумеваемое утверждение «стыжусь того, что я американец», причем без второго высказывания у первого просто нет причин для появления.
[273] Laffimore О. The Frontier in History // Studies in Frontier History: Collected Papers, 1928–1958. P. 469–491, цитаты со стр. 472–475. Латтимор, видимо, упускает из виду поразительные масштабы миграции безгосударственного населения из южных районов Китая у Желтой реки (Хуанхэ) на запад и юго-запад. Наиболее поразительный, но вряд ли единственный, пример — мяо. См.: Wiens H. J. China’s March toward the Tropics: A Discussion of the Southward Penetration of China’s Culture, Peoples, and Political Control in Relation to the Non-Han Chinese Peoples of South China in the Perspective of Historical and Cultural Geography. Hamden, Conn.: Shoe String, 1954.
[274] Как уже отмечалось, Латтимор говорит о северной части Великой Китайской стены. Информация о стенах мяо представлена в проницательной статье Магнуса Фискесьё [Fiskesjo М. On the «Raw» and the «Cooked» Barbarians of Imperial China// Inner Asia. 1999. № 1. P. 139–168). И вновь важно вспомнить, что ханьская культура сама была сплавом множества элементов. Поскольку безусловно подразумевалось, что ханьцы преобразовывали природу, тогда как варвары «жили в ней», Мэн-цзы говорил, что слышал, будто китайцы меняли варваров, но никогда не знал о варварах, меняющих китайцев. Последнее утверждение Фискесьё убедительно опровергает (Ibid. P. 140).
[275] Jonsson Н. Shifting Social Landscape: Mien (Yao) Upland Communities and Histories in State-Client Settings. Ph.D. diss. Cornell University, 1996. P. 231.
[276] Dove M. On the Agro-Ecological Mythology of the Javanese and the political Economy of Indonesia//Indonesia. 1985. № 39. P. 1136, цитата со стр. 35.
[277] Tribal Communities in the Malay World… P. 44.
[278] Wheafley P. The Golden Kheronese: Studies in the Historical Geography of the Malay Peninsula before A.D 1500. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1961. P. 186.
[279] Coedes G. The Indianized States of Southeast Asia/Trans. by S. B. Cowing. Honolulu: East-West Center, 1968. P. 33. Что действительно широко распространилось, так это брахманические ритуалы, астрология в форме народных гаданий и истории из эпосов «Рамаяна» и «Махабхарата». Ф. К. Лиман (Чит Хлаинг), наоборот, убежден, что буддийская космология, благодаря индийским торговцам, могла очень быстро обрести широкую популярность среди народа, поэтому любой претендент на королевскую власть понимал выгодность заимствования ритуалов буддийских/индуистских монархий (из личного разговора в январе 2008 года). Другие ученые, например Уолтере и Уитли, уверены, что космология изначально привлекла внимание амбициозных лидеров как способ подтверждения их притязаний на власть посредством своеобразного театрализованного самогипноза и лишь позже проникла в народную культуру.
[280] Wolfers О. History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspective. Singapore: Institute for Southeast Asian Studies, 1982. P. 64.
[281] Ricklefs M.C Jogjakarta under Sultan Mangkubumi, 1749–1792. London: Oxford University Press, 1974.
[282] Pollack S. India in the Vernacular Millennium: Literature, Culture, Polity // Daedalus. 1998. № 197. P. 41–75.
[283] Wolfers O. History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspective / Rev. ed. Ithaca: Cornell University Press; Singapore: Institute for Southeast Asian Studies, 1999. P. 161.
[284] Ibid. Цитируется фраза Яна Маббетта из книги: Mabbeff I., Chandler D. The Khmers. Oxford: Blackwell, 1995. P. 26.
[285] Wolfers O. History, Culture, and Region… 1999. P. 12, n. 45. Цитируется работа: Chandler D. A History of Cambodia. Boulder: Westview, 1992. P. 103.
[286] О феномене прибрежных равнин см.: Wheaf/ey P. Op. cit. P. 294.
[287] Jonsson H. Shifting Social Landscape… P. 133.
[288] Mitton G. E. [Lady Scott] Scott of the Shan Hills: Orders and Impressions. London: John Murray, 1936. P. 246. Бамбук, благодаря своим водонепроницаемым свойствам и прочности, широко использовался как емкость для хранения официальных писем, в том числе и чиновниками равнинных государств.
[289] Leach Е. The Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure. Cambridge: Harvard University Press, 1954. P. 281.
[290] Collis M. Lords of the Sunset. London: Faber and Faber, 1938. P. 83. См. также сопоставимое описание шанского дворца в Монгмите (р. 203) и Кенгтунге (р. 277).
[291] Leach Е. Op. cit. P. 286.
[292] Lehman F. K. [Chit H/aing] Op. cit. Vol. I. P. 15–18.
[293] Leach E. Op. cit. P. 112–114.
[294] Geusau von L. A. Op. cit. P. 151.
[295] Ebrey P. B. The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 67.
[296] Цит. no: Pelley P. M. Op. cit. P. 92. См. также: Taylor К. On Being Muonged // Asian Ethnicity. 2001. № 1. P. 25–34. Тейлор отмечает, что первые французские этнографы считали, что муонги — это протокинь. См. также: Salemink О. Op. cit. P. 285.
[297] Pelley P. M. Op. cit. P. 92. Сколь бы странным ни казалось это утверждение, но в начале XX века среди американских ученых было принято считать горное население Аппалачей «нашими современными предками» [Billings D., В/ее С. The Road to Poverty: The Making of Wealth and Hardship in Appalachia. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 8).
[298] Цит. no: Ebrey P. B. Op. cit. P. 57.
[299] Leach Е. Op. cit. P. 39; O’Connor Я. Л. Op. cit. P. 974–975.
[300] Цит. по: Lieberman V. B. Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, с 800–1830. Cambridge: Cambridge University press, 2003. Vol. I. Integration on the Mainland. P. 431; цитируется Chandler D. Op. cit. P. 126, 130. Метафора перины, видимо, получила свой горный аналог в поговорке качинов: «Камень не станет тебе подушкой, как ханьцы не могут быть твоими друзьями». Цит. по: Zhushent Wang. The // Jingpo Kachin of the Yunnan Plateau. Tempe: Arizona State University Press, 1997 (= Program for Southeast Asian Studies, Monograph Series). P. 241.
[301] См.: Faure D. The Yao Wars in the Mid-Ming and Their Impact on Yao Ethnicity // Empire at the Margins: Culture and Frontier in Early Modern China/ Ed. by R. K. Crossley, H. Siu, D. Sutton. Charlottesville: University of Virginia Press, 2006. P. 171–189; Ebrey P. B. Op. cit. P. 195–197.
[302] Woodside A. Territorial Order and Collective Identity Tensions in Confucian Asia: China, Vietnam, Korea// Daedalus. 1998. № 127. // P. 206–207. Сравните с аргументацией Джона Стюарта Милля, почему баски или бретонцы должны желать стать гражданами цивилизованной Франции, а не «корпеть в своих скалах в качестве полудикого остатка прежних времен, вращаться в узком кругозоре собственных понятий без всякого участия в общем мировом движении» [Mill J. S. Utilitarianism, Liberty, and Representative Government. London: Everyman, 1910. P. 363–364 [Милль Дж. С. Рассуждения о представительном правлении. Челябинск: Социум, 2006. С. 321]). Цит. по: Hobsbawm E. J. Nations and Nationalism since 1780 / 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 34. Я хотел бы выразить мою глубочайшую благодарность Шаншан Ду за детальное объяснение истории и принципа функционирования системы tusi (старост) на юго-западе Китая (из личного общения в июле 2008 года).
[303] Цит. по: Wiens H. J. Op. cit. P. 219.
[304] Ibid. P. 251–252.
[305] Против этого лицемерия протестует Флори, измученный герой романа Джорджа Оруэлла «Дни в Бирме»: «Дорогой доктор, а в чем же здесь наши цели кроме воровства? Ведь все столь очевидно. Чиновник держит бирманца за горло, пока английский бизнесмен обшаривает у того карманы» [Orwell С Burmese Days. New York: Harcourt-Вгасе, 1962. P. 39–40 [Пер. B. M. Домитеевой]).
[306] Тарр N. Sovereignty and Rebellion; The White Hmong of Northern Thailand. Singapore: Oxford University Press, 1990. P. 38.
[307] Понятие «социальные ископаемые» заимствовано из книги: Fiskesjo М. Rescuing the Empire: Chinese Nation-Building in the 20th Century// European Journal of East // Asian Studies. 2006. № 5. P. 15–44. Как отмечает Фискесьё, поглощение подобных сообществ ускорялось прежде всего за счет демографического заполнения миллионами ханьских поселенцев высокогорных районов.
[308] Я полагаю, что среди бесчисленных языковых групп, рассеянных по всей Зомии, можно обнаружить некий условный культурный водораздел, по северную и восточную стороны которого государственные образования были втянуты в орбиту влияния ханькитайской цивилизации, а по южную и западную — буддизма Тхеравады и санскритской культуры. Вероятно, по мере того как династии и государства набирали силу или, наоборот, приходили в упадок, эта условная граница менялась, но если где-то сферы влияния двух цивилизаций совпадали, доступная горным народам культурная и политическая зона для маневра существенно расширялась.
[309] Leach E. Op. cit. P. 39; O’Connor R. A. Op. cit. P. 974–975.
[310] Lieberman V. B. Op. cit. Vol. I. P. 114.
[311] Fiskesjo M. Op. cit. P. 143, 145, 148. Я в большом долгу у Фискесьё за его точный и проницательный анализ данной терминологии в рамках хань-китайского искусства государственного строительства.
[312] Ebrey P. B. Op. cit. P. 56.
[313] Csete A. Ethnicity, Conflict, and the State in the Early to Mid-Qing: The Hainan Highlands, 1644–1800// Empire at the Margins… P. 229–252, цитата со стр. 235.
[314] Например, документ XV века, описывая народ на границе провинции Юньнань и Бирмы, утверждает, что эти варвары «возрадуются тому дню, когда все префектуры и округа в их землях будут подсчитаны и они наконец будут управляться чиновниками [династии Мин]». Цит. по: Herman J. F. The Cant of Conquest: Tusi Offices and China’s Political Incorporation of the Southwest Frontier//Empire at the Margins… P. 135–168, цитата со стр. 145, курсив автора.
[315] Fiskesjo М. Op. cit. P. 153.
[316] Гааге D. The Yao Wars in the Mid-Ming. См. также: Faure D. The Lineage as a Cultural Invention: The Case of the Pearl River Delta// Modern China. 1989. № 15. P. 4–36. Яо утверждают, что владеют специальным разрешением китайского императора, зафиксированным в указе, который они бережно хранят: он освобождает их от барщинного труда и налогов и признает за ними право свободно перемещаться по всей их территории.
[317] Diamond N. Defining the Miao: Ming, Qing, and Contemporary Views // Cultural Encounters on China’s Ethnic Frontiers/ Ed. by S. Harrell. Seattle: University of Washington Press, 1995. P. 92–119.
[318] The Man Shu… P. 37.
[319] Wing-hoi Chan. Ethnic Labels in a Mountainous Region: The Case of the She Bandits// Empire at the Margins… P. 255–284. Чан утверждает, что этногенез известного странствующего народа хакка может быть объяснен схожим образом. She также обозначает горные поля, где выращивается суходольный рис, а потому данное «этническое» имя одновременно описывает и способ существования, и «горное» место обитания.
[320] Tribal Communities in the Malay World… P. 36.
[321] Lowenhaupt Tsing A. In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the Way Place. Princeton: Princeton University Press, 1993. P. 28. Подсечно-огневое земледелие у горного хребта Мератус также описывается как тип сельского хозяйства, который пока-еще-не-был-упорядочен (pertanian yang tidak terator).
[322] Keesing F. M. The Ethno-history of Northern Luzon. Stanford: Stanford University Press, 1962. P. 224–225.
[323] Gellner £. Saints of the Atlas. London: Weidenfeld and Nicholson, 1969. Ch. 1.
[324] Beck L. Tribes and the State in 19th- and 20th-century lran//Tribes and State Formation in the Middle East/ Ed. by P. Khoury, J. Kostiner. Berkeley: University of California Press, 1990. P. 158–222.
[325] Bronson B. The Role of Barbarians in the Fall of States //The Collapse of Ancient States and Civilizations/ Ed. by N. Yoffee, G. L. Cowgill. Tucson: University of Arizona Press, 1991. P. 203–210, цитата со стр. 200. Большая часть параграфа посвящена проработке аргументации Бронсона.
[326] Этот и два следующих параграфа написаны с привлечением данных великолепной книги: Burns T. S. Rome and the Barbarians, 100 BC-AD 400. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003.
[327] Driscoll S. T. Power and Authority in the Early Historic Scotland: Pictish Symbol Stones and other Documents // State and Society: The Emergence and Development of Social Hierarchy and Political Centralization / Ed. by J. Gledhill, B. Bender, M. T. Larsen. London: Routledge, 1988. P. 215.
[328] Burns T. S. Op. cit. P. 182. Куда более мрачный образ римской экспансии, чем таковая могла казаться варварам, предстает перед нами благодаря словам, которые Тацит вкладывает в уста побежденного британского вождя Калгака: «Грабежу, кровопролитию и разбою дают они лживое имя империи; они сеют опустошение и называют его миром». Цит. по: Ibid. P. 169.
[329] Цит. по: Giersch С. Р. Q’ing China’s Reluctant Subjects: Indigenous Communities and Empire along the Yunnan Frontier. Ph.D. diss. Yale University, 1998. P. 97.
[330] Empire at the Margins… Введение.
[331] Wing-hoi Chan. Op. cit. P. 278.
[332] Sutton D. S. Ethnicity and the Miao Frontier in the Eighteenth Century // Empire at the Margins… P. 469–508, цитата со стр. 493.
[333] Та же тесная взаимосвязь между прямым ханьским правлением и цивилизованным статусом прослеживалась в дельте Жемчужной реки (Чжуцзян). Сам факт регистрации домохозяйства (помещения его на карту) «трансформировал идентичности его членов с чужаков (yi) на простолюдинов (min)… В периоды династических кризисов не редки были ситуации, когда домохозяйства отказывались от своего статуса официально зарегистрированных, чтобы не платить налоги и не нести воинские повинности. Их члены становились бандитами, пиратами и чужаками, судя по отчетам чиновников» (Siu H. F., Zhiwei Liu. Lineage, Marketing, Pirate, and Dan // Empire at the Margins… P. 285–310, цитата со стр. 293).
[334] Цит. по: Woodside A. Op. cit. P. 213. Свидетельства того, что вьетнамцам было свойственно перемещаться на нагорья и ассимилироваться в культурах местных сообществ, см.: Taylor К. Op. cit. P. 28.
[335] См.: New York Times. 2004. July 23;The Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks upon the United States. Washington, DC: Government Printing Office, 2004. P. 340, 368 [http://www.gpoaccess.gov/911/index.html].
[336] Turbulent Times and Enduring Peoples: Mountain Minorities in the Southeast Asian Massif / Ed. by J. Michaud. Richmond, England: Curzon, 2000. P. 11. Далее Мишо отмечает, что горные народы время от времени начинали собственные проекты государственного строительства.
[337] Партизанское сопротивление непосредственно в зоне государственной экспансии редко было успешным в долгосрочной перспективе, если только у партизан не было мощных государственных союзников. Французская военная поддержка, например, позволила многим группам коренных американцев некоторое время противостоять экспансии английских колонистов.
[338] Beltran G. A. Regions of Refuge. Washington, D.C., 1979 (= Society of Applied Anthropology Monograph Series № 12). P. 23, 25. Если в горной местности обнаруживались ценные ресурсы, как, например, серебряные месторождения в Потоси, то она захватывалась.
[339] Ibid. P. 39.
[340] Schwartz S., Salomon F. New Peoples and New Kinds of People: Adaptation, Adjustment, and Ethnogenesis in South America Indigenous Societies (Colonial Era) //The Cambridge History of Native Peoples of the Americas / Ed. by S. Schwartz, F. Salomon. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 443–502, цитата со стр. 448. См. также недавнюю попытку обобщить нашу демографическую трактовку Конкисты, которая сфокусирована на подобных миграциях и социальной структуре, в работе: Mann С. С. 1491: New Revelations of the Americas before Columbus. New York: Knopf, 2005. Хотя эти демографические факты вызывают жаркие дискуссии, очевидно, что численность населения Нового Света была больше, чем ранее предполагалось. Речь вряд ли идет о пустом континенте — возможно, он даже был «полностью заселен». В этой связи важно отметить, что если вызванный эпидемией демографический коллапс был так драматичен, как нам сегодня кажется, то собирательство и подсечно-огневое земледелие могли стать принципиально более выгодной агроэкологической стратегией в условиях наличия свободных земель, обещая более высокую отдачу на единицу труда по сравнению с оседлым земледелием. Джаред Даймонд утверждает то же самое об австралийском «аборигенном» населении: изначально оно плотно населяло самые плодородные регионы континента (например, речную систему Муррей — Дарлинг на юго-востоке), а затем было вынуждено переместиться в засушливые районы, которые не интересовали европейцев [Diamond J. Guns, Germs, and Steel: The Fate of Human Societies. New York: Norton, 1997. P. 310; Даймонд Дж. Ружья, микробы и сталь. М.: ACT, 2010. С. 395–396]).
[341] Schwartz S., Salomon F. Op. cit. P. 452.
[342] Ibid. Более подробное описание бегства населения из испанских поселений в Андах, в которых их принуждали жить, см.: Wightman A. M. Indigenous Migration and Social Change: The Forasteros of Cuzco, 1570–1720. Durham: Duke University Press, 1990; Rowe J. H. The Incas under Spanish Colonial Institutions// Hispanic American Historical Review. 1957. № 37. P. 155–199.
[343] Mann C. C. Op. cit. P. 225.
[344] Schwartz S., Salomon F. Op. cit. P. 460.
[345] White R. The Middle Ground: Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1650–1815. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 1, 14. Здесь также в перемещениях людей эпидемии играли ключевую роль наряду с войнами конкурентов по государственному строительству.
[346] См. замечательную работу: Lucassen L., Willems W., Cottaar A. Gypsies and Other Itinerant Groups: A Socio-historical Approach. Centre forthe History of Migrants, University of Amsterdam. London: Macmillan, 1998.
[347] Ibid. P. 63. Неудивительно, что подобные преследуемые группы часто объединялись, чтобы грабить поселения этой зоны по мере притока беженцев. В ответ местные власти начинали травлю и убивали цыган и других бродяг. Авторы зафиксировали подобные преследования цыган (богемиан) во Франции, которых отлавливали для работ на галерах.
[348] Прослеживаются интересные параллели между «коридором вне закона» и так называемым коридором ва в сердце территорий между верховьями рек Меконг и Салуин/Нуцзян, который обладал дополнительным преимуществом исключительной изрезанности водными потоками: Fiskesjo М. The Fate of Sacrifice and the Making of Wa History. Ph.D. thesis. University of Chicago, 2000. P. 51.
[349] Здесь я полностью доверяю прекрасному описанию Роберта Хефнера: Hefner R. W. The Political Economy of Mountain Java: An Interpretive History. Berkeley: University of California Press, 1990. Более подробный культурологический анализ представлен в его же ранней работе: Idem. Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam. Princeton: Princeton University Press, 1985.
[350] Hefner R. W. The Political Economy… P. 9.
[351] Ibid. P. 182. Слово ngoko обозначает неформальный стиль яванского языка, в котором отсутствуют какие-либо специальные формы, применяющиеся при обращении подчиненного к вышестоящему и наоборот.
[352] В отличие от Зомии, раскол в горах Тенгер не имел этнического подтекста. Как отмечает Хефнер, если бы горы Тенгер были более изолированы в течение более длительного времени, различия могли быть «этнизированы». Однако жители этого горного региона, наоборот, считают себя яванцами: одеваются как яванцы (хотя нарочно избегают показной роскоши), говорят на яванском (но не используют статусно нагруженные обращения в деревнях). Они называют себя wong дипипд — (горными) яванцами, то есть особой подгруппой этого народа. Хефнер полагает, что и другие относительно недавно поглощенные государствами автономные народы в островной части Юго-Восточной Азии сохранили отчетливое восприятие себя как особого, нередко более эгалитарного общества, хотя подобная самобытность необязательно обретает форму ярко выраженных этнических черт (из личной беседы в феврале 2008 года). См., например: Cederroth S. The Spell of the Ancestors and the Power of Mekkah: A Sasak Community on Lombok. Goteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1981; Rossler M. Striving for Modesty: Fundamentals of Religion and Social Organization of the Makassarese Patuntung. Dordrecht: Floris, 1990.
[353] Keesing F. M. The Ethnohistory of Northern Luzon. Stanford: Stanford University Press, 1976. P. 4. Этот и следующий параграфы в значительной степени основаны на аргументации Кисинга.
[354] Вильям Генри Скотт мыслит в том же направлении: «Подобные reducciones, естественно, требовали помещения рассеянных племен и полуоседлых земледельцев в поселения, где к ним могли… иметь постоянный доступ духовенство, сборщики дани и ответственные за строительство дорог» (Scoff W. H. The Discovery of the Igorots: Spanish Contacts with the Pagans of Northern Luzon / Rev. ed. Quezon City: New Day, 1974. P. 75).
[355] Keesing F. M. Op. cit. P. 2, 304. Такая точка зрения в целом совпадает с исторической концепцией Скотта, изложенной им в книге: Scoff W. H. Op. cit. P. 69–70.
[356] Кисинг дополняет собственную аргументацию, допуская, что существовали и иные причины бегства в горы: поиск золота, желание собирать и продавать горные продукты или скрыться от междоусобиц, войн и эпидемий долин. Впрочем, он подчеркивает, что основополагающей причиной бегства была созданная испанцами колониальная система трудовых повинностей. Эта точка зрения высказывается и Скоттом в «Открытии игоротов», причем он пишет не только о Северном Лусоне, но о Филиппинах в целом (см. стр. 69–70).
[357] Keesing F. M. Op. cit. P. 3.
[358] Кульминационным событием для яо/мьенов стало поражение в битве в Великом Виноградном ущелье в Гуанси в 1465 году. Победители послали восемьсот пленников в Пекин для обезглавливания. Вскоре после, в 1512 году, ученый-солдат Ван Янмин предложил возродить политику династии Юань — «использования варваров для управления варварами», политику косвенного управления, которая стала известна как система туей (tusi).
[359] Giersch С. Р. A Motley Throng: Social Change on Southwest China’s Early Modern Frontier, 1700–1880 // Journal of Asian Studies. 2001. № 60. P. 67–94, цитата со стр. 74.
[360] Ричард фон План убедительно показывает, что группы без лидерской верхушки реже поднимали восстания, чем более централизованные «племена», например дай или и, способные организовать широкомасштабное сопротивление. Однако из этого совершенно не следует, что их было легче поглотить, — они более склонны к рассеиванию и бегству, чем к борьбе за свои территории. На самом деле, чем более централизована и иерархизирована социальная структура группы, тем она нормативно более схожа с жителями долин и тем проще ей приспособиться к равнинной культуре: The Country of Streams and Grottoes: Expansion Settlement, and the Civilizing of the Sichuan Frontier in Song Times/Council on East Asian Studies, Harvard University Cambridge: Harvard University Press, 1987. P. 213. См. также: F/vin M. The Retreat of the Elephants: An Environmental History of China. New Haven: Yale University Press, 2004. P. 88. Элвин отмечает, что «эмиграция» — нередко единственный путь избежать барщины и подчинения.
[361] Wiens H. J. China’s March toward the Tropics: A Discussion of the Southward Penetration of China’s Culture, Peoples, and Political Control in Relation to the Non-Han-Chinese Peoples of South China in the Perspective of Historical and Cultural Geography. Hamden, Conn.: Shoe String, 1954. P. 186. Мне кажется, более правдоподобна противоположная убеждению Вьенса точка зрения, согласно которой многие современные горные народы когда-то очень давно были жителями долин, но стали крестьянами в горах вследствие адаптации. Нужно также подчеркнуть, что на большем протяжении своей истории хань-китайцы продолжали экспансию на юг и юго-запад, испытывая, в свою очередь, давление монгольских армий с севера.
[362] Wiens H. J. Op. cit. P. 69.
[363] Ibid. P. 81–88, 90. Эта фраза резко контрастирует с обычно спокойным и беспристрастным авторским тоном Вьенса на всем протяжении книги.
[364] Ibid. P. 317.
[365] Те, кто предпочитал остаться, часто поглощались прибывающим горным сообществом точно так же, как ханьцы ассимилировали все те группы, что захватывали.
[366] Backus С. The Nan-chao Kingdom and Tang China’s Southwestern Frontier. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. С момента публикации книги Бэкуса «тайскость» Наньчжао серьезно оспаривается (из личной беседы с Жаном Мишо в апреле 2008 года).
[367] Цит. по: Wyaft D. Thailand: A Short History. New Haven: Yale University Press, 1986. // P. 90.
[368] Время от времени расширяющиеся военные рисовые государства в горах вынуждали другие горные народы бежать в долины в низинах. Начиная с XIII века тайская группа ахом согнала население соперничающего с их государством королевства Димаса на равнины, где то в итоге растворилось в бенгальском большинстве. Сами ахомы позже покорили народы долины Брахмапутры и восприняли индо-ассамскую культуру. См. прекрасную статью: Ramirez P. Politico-Ritual Variation on the Assamese Fringes: Do Social Systems Exist?// Social Dynamics in the Highlands of Southeast Asia: Reconsidering «Political Systems of Highland Burma» by E. R. Leach / Ed. by // F. Robinne, M. Sadan. Leiden: Brill, 2007 (= Handbook of Oriental Studies. Section 3 «Southeast Asia»). P. 91–107.
[369] Gazetteer of Upper Burma and the Shan States/ Compiled from official papers by J. G. Scott, assisted by J. P. Hardiman. Rangoon: Government Printing Office, 1893. 5 vols. Эпиграф к этому параграфу взят из книги: Reverend Father Sangermano. A Description of the Burmese Empire/Trans, by W. Tandy. Rome: John Murray, 1883. P. 81, курсив мой.
[370] Это в полной мере подтверждается указами XVII века, рекомендующими воинам в походе «не убивать птиц и зверей, чтоб съесть», «не промышлять грабежами и разбоем», «не приставать к девушкам и замужним молодым женщинам» (Royal Orders of Burma, A.D. 1598–1885 / Ed. by Than Tun. Kyoto: Center for Southeast Asian Studies, 1983. Part I. A.D. 1598–1648. P. 87).
[371] Elson R. E. International Commerce, the State, and Society: Economic and Social Change // The Cambridge History of Southeast Asia/ Ed. by N. Tarling. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Vol. 2. The Nineteenth and Twentieth Centuries. P. 164.
[372] Одним из первых историков, кто счел подобную практику широко распространенной формой политического протеста, был Майкл Адас. См. его новаторский подход в книге: Adas М. From Avoidance to Confrontation: Peasant Protest in Рге-colonial and Colonial Southeast Asia// Comparative Studies in Society and History. 1981. № 23. P. 217–247.
[373] Gazetteer of Upper Burma… Vol. I. Part 2. P. 241.
[374] Scott J. G. [Shway Voe] The Burman: His Life and Notions. New York: Norton, 1963. P. 243.
[375] Gazetteer of Upper Burma… Vol. I. Part I. P. 483.
[376] Наиболее сопоставимые исторические условия, упоминания о которых мне встречались, — зона бегства в регионе Великих озер в Северной Америке XIX века, проницательно и тщательно описанная Ричардом Уайтом в книге: White R. Op. cit.
[377] Wheatley P. The Golden Kheronese: Studies in the Historical Geography of the Malay Peninsula before a.d. 1500. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1961. P. xxiv.
[378] Но не вне зоны контроля других структур власти, таких как враждующие группировки, бандиты и работорговцы, использующих отсутствие управления, чтобы захватывать незащищенное население.
[379] Gazetteer of Upper Burma… Vol. I. Part 2. P. 508. Эпиграф к этому параграфу взят из книги: The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma/Trans, by Pe MaungTin, G. H. Luce, issued by the Text Publication Fund of the Burma Research Society. Oxford: Oxford University Press; London: Humphrey Milford, 1923. P. 177.
[380] Или, иначе говоря, нынешний и постоянный статус налогоплательщика был основным и определяющим индикатором превращения в этнического бирманца, тайца или китайца. Я убежден, что только в таком контексте обретает смысл факт трепетного отношения мьен/яо к неким императорским свиткам, в которых император даровал им вечную свободу от налогового и барщинного бремени всех ханьских подданных и право по собственному разумению перемещаться в горах. Огромное значение для этнического самоопределения мьен/яо имел именно такой формат неподданства. См., например, прекрасное исследование: Jonsson Н. Mien Relations: Mountain People and State Control in Thailand. Ithaca: Cornell University Press, 2005. Жан Мишо предполагает, что мьен/яо много лет назад могли быть вытеснены на запад из провинции Хунань жившими на побережьях ханьцами: Michaud J. Historical Dictionary of the Peoples of the Southeast Asian Massif. Latham, Maryland: Scarecrow Press, 2006. P. 264.
[381] Jonsson H. Shifting Social Landscape: Mien (Yao) Upland Communities and Histories in State-Client Settings. Ph.D. diss. Cornell University, 1996. P. 274.
[382] Salemink O. The Ethnography of Vietnam’s Central Highlanders: A Historical Contextualization, 1850–1990. London: Routledge-Curzon, 2003. P. 298. См. также: Sedentarization and Selective Preservation among the Montagnards in the Vietnamese Central Highlands//Turbulent Times and Enduring Peoples: Mountain Minorities in the Southeast Asian Massif / Ed. by J. Michaud. Richmond, England: Curzon, 2000. P. 138–139.
[383] Пример подобного перехода приведен в описании Инь Шао-тингом деангов, занимающихся подсечно-огневым земледелием в провинции Юньнань: Yin Shao-ting. Yunnan Swidden Agriculture in Human-Ecological Perspective/Trans, by M. Fiskesjo. Kunming: Yunnan Educational Publishing, 2001. P. 68.
[384] Tilly С. Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992. Cambridge, Mass.: Blackwell, 1990. P. 14, ch. 3. Первый эпиграф к этому параграфу взят из книги: Lang H. J. Fear and Sanctuary: Burmese Refugees in Thailand. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program Publications, 2002 (= Studies in Southeast Asia № 32). P. 79. Сравните его с высказыванием народа буги с острова Сулавеси: «Мы будто птицы, сидящие на дереве. Когда дерево падает, мы слетаем с него и ищем другое большое дерево, где можем расположиться». Цит. по: Andaya L. Interactions with the Outside World and Adaptation in Southeast Asia Society, 1500–1800 // The Cambridge History of Southeast Asia / Ed.by N. Tarling. Vol. 1. P. 417. Второй эпиграф взят из книги: Scoff J. G. [Shway Yoe] Op. cit. P. 533.
[385] Reid A. Economic and Social Change, 14001800//The Cambridge History of Southeast Asia / Ed. by N. Tarling. Vol. 1. P. 460–507, особенно стр. 462.
[386] Keefon CHI. King Thibaw and the Ecological Rape of Burma: The Political and Commercial Struggle between British India and French Indo-China in Burma, 1878–1886. Delhi: Mahar Book Service, 1974. P. 3.
[387] Black J. European Warfare, 1600–1815. New Haven: Yale University Press, 1994. // P. 99; Crevald van M. Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. Цит. no: Tilly С. Coercion, Capital, and European States. P. 81. См. также: Feeding Mars: Logistics in Western Warfare from the Middle Ages to the Present / Ed. by J. A. Lynn. Boulder: Westview, 1993.
[388] Feeding Mars… P. 21.
[389] Koenig W. J. The Burmese Polity, 1752–1819: Politics, Administration, and Social Organization in the Early Kon-baung Period. Ann Arbor, 1990 (= Center for South and Southeast Asian Studies. University of Michigan Papers on South and Southeast Asian Studies. № 34). P. 34.
[390] Gazetteer of Upper Burma… Vol. I. Part 2. P. 231; Part I. P. 281.
[391] Renard R. D. Kariang: History of Karen-Tai Relations from the Beginnings to 1923. Ph.D. diss. University of Hawai’i, 1979. P. 78, 130 и далее.
[392] Jarric с/и P. Histoire des choses plus memorabies advenues tant ez Indes Orientales que autres pais de la descouverte des Portugois, en I’etablissement et progrez de la foy crestienne et catholique. Bordeaux, 1608). Vol. I. P. 620–621. Цит. no: Reid A. Economic and Social Change… P. 462.
[393] Glass Palace Chronicle: Excerpts Translated on Burmese Invasions of Siam / Compiled and annotated by Nai Thein // Journal of the Siam Society. 1911. № 8. P. 1–119, цитата со стр. 43.
[394] Scott J. G. [Shway Ybe] Op. cit. P. 494. Мятежи были намного опаснее, а потому менее распространены, чем дезертирство, хотя и они случались. См. краткое описание мятежа монов в бирманской армии в ходе кампании 1772 года против тайцев в книге: Koenig W. J. Op. cit. P. 19. По-моему, это замечательный пример армии, которая решила, что с нее достаточно, не захотела больше принимать участие в войне и начала отступать. Конфедерация в войне между штатами распалась в значительной степени в результате дезертирства. Одной из наиболее вдохновляющих вещей, встретившихся мне в жизни, стала большая скульптура из папье-маше, изображающая убегающего человека, — «Памятник дезертирам двух мировых войн», созданный немецкими анархистами вскоре после падения Берлинской стены и провезенный на бортовом грузовике по городам бывшей Германской Демократической Республики. Местные власти выдворяли скульптуру из одного города за другим, пока на короткое время ее не оставили в покое в Бонне.
[395] Большинство рекрутов в подобных армиях вербовались насильственно, а потому были готовы воспользоваться любой возможностью дезертировать. Джереми Блэк сообщает, что уровнь дезертирств из саксонской пехоты в 1717–1728 годах составил 42 % (Black J. Op. cit. P. 219).
[396] Это особенно соответствует действительности в ситуациях, когда войска отходят достаточно далеко от дома. Поучительно в этом отношении описание Фукидидом распада возглавляемых Афинами сил в Сицилии: «С тех пор как мы потеряли превосходство над врагом, наши слуги бегут к неприятелю; часть наемников, насильно завербованная во флот, сразу же стала разбегаться по разным городам Сицилии; // другая же, соблазнившись сначала высоким жалованьем и больше стремясь обогатиться, нежели воевать, увидев, что неприятельский флот и остальные боевые силы, вопреки ожиданию, готовы сопротивляться нашим, начала либо переходить к неприятелю, либо бежать кто куда может (а Сицилия велика)» (Thucydides. The Peloponnesian War/Trans, by R. Warner. New York: Penguin, 1972. P. 485, курсив мой [Фунидид. История. П.: Наука, 1981. С. 316]).
[397] Khin Mar Swe. Ganan: Their History and Culture. M.A. thesis. University of Mandalay, 1999.
[398] Gazetteer of Upper Burma… Vol. I. Part I. P. 205–207.
[399] Ethnic Adaptation and Identity: The Karen on the Thai Frontier with Burma / Ed. by // C. F. Keyes. Philadelphia: ISHI, 1979. P. 44.
[400] Lehman F. K. [Chit Hlaing] Empiricist Method and Intensional Analysis in Burmese Historiography: William Koenig’s The Burmese Polity, 1752–1819, a Review Article // Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies. 1991. № 6. P. 77–120, особенно стр. 86.
[401] Renard R. D. Op. cit. P. 44.
[402] Geusau L. A. von. Akha Internal History: Marginalization and the Ethnic Alliance System. Ch. 6 // Civility and Savagery: Social Identity in Tai States/Ed. by A. Turton. Richmond, England: Curzon, 2000. P. 130.
[403] Gazetteer of Upper Burma… Vol. I. Part 2. P. 282–286.
[404] Ibid. P. 49.
[405] Как отметил путешественник по Шанским штатам в конце XVII века, «из того, что нам стало известно, можно сделать обоснованный вывод: рассеяние горных племен в горных районах вблизи Зимме (Чиангмай) в значительной степени обусловлено тем, что в прежние времена на них систематически охотились, как на диких зверей, и поставляли на рабовладельческий рынок» (Co/guhoun A. R. Amongst the Shans. London: Field and Tuer, 1885. P. 257).
[406] На западе Индии набеги горных племен на долины были столь широкомасштабными, что к началу XIX века только 1836 из прежних 3492 деревень все еще были населены, а о существовании 97 из них мало кто мог вспомнить: Ajay Skaria. Hybrid Histories: Forests, Frontiers, and Wildness in Western India. Delhi: Oxford University Press, 1999. // P. 130. Я не нашел ни одного перечня добычи в бирманских материалах, но список награбленного в ходе набегов горных племен на равнины Западной Индии показателен: 77 волов, 106 коров, 55 телят, 11 буйволиц, 54 латунных и медных горшка, 50 предметов одежды, 9 одеял, 19 железных плугов, 65 топоров, украшения и зерно (Ibid. P. 132).
[407] Серьезный анализ рабства на Зондском шельфе представлен в книге: Tagliacozzo £. Ambiguous Commodities, Unstable Frontiers: The Case of Burma, Siam, and Imperial Britain, 1800–1900//Comparative Studies in Society and History. 2004. № 46. P. 354–377.
[408] Gazetteer of Upper Burma… Vol. I. Part 2. P. 315.
[409] Ba были хорошо известны своими частокольными укреплениями, призванными сдержать «охотников за головами» и работорговцев: Fiskesjo М. Op. cit. P. 329. Существовал и морской вариант захватов и торговли рабочей силой в островной части Юго-Восточной Азии. Ряд народов, особенно малайцы, иллану, буги и баджао, опустошали морские поселения по всему архипелагу, захватывая рабов для собственных нужд или на продажу. В результате, чтобы избежать порабощения, слабые морские сообщества отступали вглубь прибрежных территорий, перемещались в верховья рек или садились в лодки и становились морскими кочевниками. Оранглауты (морские люди), живущие в основном на лодках и занимающиеся (морским) собирательством, — морской аналог небольших горных групп, которые отступали к горным хребтам. Так, считается, что джакуны (живущие в лесах и лингвистически связанные с «морскими кочевниками») на самом деле поступили таким образом: часть сбежала в горы, другие пересели на лодки. См. в этой связи проясняющую происходившее книгу: Sopher D. E. The Sea Nomads: A Study Based on the Literature of the Maritime Boat People of Southeast Asia. Singapore: Lim Bian Han, 1965 (= Memoirs of the National Museum № 5); Frake C. O. The Genesis of Kinds of People in the Sulu Archipelago// Language and Cultural Description: Essays by Charles O. Frake. Stanford: Stanford University Press, 1980. P. 311–332.
[410] Hardy A. Red Hills: Migrants and the State in the Highlands of Vietnam. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2003. P. 29.
[411] Salemink O. Op. cit. P. 37.
[412] См.: Сиlas С., Michaud J. A Contribution to the Study of Hmong (Miao) Migration and History// Hmong/Miao in Asia/ Ed. by // N. Tapp, J. Michaud, С. Culas, G. Y. Lee. Chiang Mai: Silkworm, 2004. P. 61–96; Michaud J. From Southwest China to Upper Indochina: An Overview of Hmong (Miao) Migrations//Asia-Pacific Viewpoint. 1997. № 38. P. 119–130. Конечно, источником наиболее полных сведений о миграциях с юго-запада Китая в материковую часть Юго-Восточной Азии (особенно Вьетнам, Лаос и Таиланд) в XIX и XX веках является сборник «Бурные времена и несокрушимые народы» под редакцией Жана Мишо, особенно главы, написанные Кристианом Куласом и Мишо.
[413] См. проницательный анализ жизни «небольших приграничных держав» в книге: Sturgeon J. Border Landscapes: The Politics of Akha Land Use in China and Thailand. Seattle: University of Washington Press, 2005.
[414] Fiskesjo M. Op. cit. P. 370.
[415] Чарльз Кростуэйт приводит пример подобного участия претендентов на княжеский трон в восстаниях вскоре после завоевания Верхней Бирмы британцами. Шанский правитель, чья верховная власть в его районе была подтверждена британцами, захватил несколько соседних районов и был отстранен. После этого к нему присоединились «два сына князя Хметайи, представителя многочисленного потомства короля Миндона… На их сторону встал благородный лидер партизан Шве Ян, подняв их знамя в районе Авы… Старший [сын] Со Наинг сбежал в Хсенви, но, не получив там помощи, отступил в горы, крайне труднодоступную местность на границе Тонпенга и Монгмита»: Crosthwaite С. The Pacification of Burma. London: Edward Arnold, 1912. P. 270.
[416] См.: Mendelson E. M. The Uses of Religious Skepticism in Burma// Diogenes. 1963. // № 41. P. 94–116; Lieberman V. B. Local Integration and Eurasian Analogies: Structuring Southeast Asian History, с 1350–1830// Modern Asian Studies. 1993. № 27. P. 513.
[417] Прослеживается интересная параллель между богатыми французскими католическими аббатствами в долинах и бедным духовенством, проживающим в сельскохозяйственных районах, во времена Французской революции. Первые, в силу своей алчности и неспособности помочь неимущим, уплачивающим церковную десятину, были объектом народного гнева (поджогов и грабежей), тогда как бедное, маргинальное сельское духовенство пользовалось популярностью и в конечном счете стало важнейшим участником контрреволюционного мятежа в Вандее: Tilly С. The Vendee. Cambridge: Harvard University Press, 1964.
[418] Литература по этому вопросу обширна. См., например: Tambiah S. Buddhist Saints of the Forest and the Cult of Amulets. New York: Cambridge University Press, 1984; Tiyavanich K. Forest Recollections: Wandering Monks in Twentieth-Century Thailand. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1997. Лесные секты и скиты стали «продолжением раннебуддийской практики „ухода от мира“… самодистанцирования от общества в целях достижения строгой дисциплины разума и тела, как требует восьмеричный путь» (Ileto R. Religion and Anti-colonial Movements// Cambridge History of Southeast Asia… Vol. 2. P. 199). См. также важное исследование Гийомом Розенбергом современных харизматичных лесных монахов Бирмы: Rozenberg G. Renoncement et puissance: La quete de la saintete dans la Birmanie contemporaine. Geneva: Editions Olizane, 2005.
[419] Mendelson E. M. Sangha and State in Burma: A Study of Monastic Sectarianism and Leadership / Ed. by J. P. Ferguson. Ithaca: Cornell University Press, 1975. P. 233. Более современный и исключительно проницательный анализ «святости» лесных монахов и их окружения см.: Rozenberg G. Op. cit.
[420] Mendelson E. M. Op. cit. P. 233. См. также: Lehman F. K. [Chit Hlaing] Op. cit. P. 90. Лиман пишет о монахах и их орденах, которые попадали в немилость и спасались в «отдаленных городах и деревнях».
[421] Leach Е. The Political Systems of Highland // Burma: A Study of Kachin Social Structure. // Cambridge: Harvard University Press, 1954. // P. 30.
[422] To есть скорее на восточном берегу реки // Салуин, чем на западном: Gazetteer of Upper Burma… Vol. I. Part I. P. 320.
[423] Lindner B. Land of Jade: A Journey through // Insurgent Burma. Edinburgh: Kiscadale and // White Lotus, 1990. P. 279. Сопоставимое описание шан-буддийского инакомыслия столетием ранее см. в книге: Colquhoun A. R. Amongst the Shans. London: Field and Tuer, 1885. P. 103.
[424] Tilly С Contention and Democracy in Europe, 1650–2000. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 168 и далее.
[425] Canfield R. L. Faction and Conversion in a Plural Society: Religious Alignments in the Hindu-Kush. Ann Arbor: University of Michigan, 1973 (= Museum of Anthropology, University of Michigan, № 50). Цитата со стр. 13. // Я глубоко обязан этой монографии, к которой мое внимание привлек Томас Барфилд, и проницательным выводам и подробнейшим описаниям этнографических деталей, представленных в ней.
[426] Поскольку подобные болезни выкашивали наименее устойчивых к их возбудителям, то оказались эндемическими для местного населения. Когда им повстречались иммунологически неискушенные (пусть изначально и гораздо более здоровые) жители Нового Света, уровень смертности оказался просто чудовищным. Следует назвать и еще один страшный бич городского населения — огонь. Досовременные города строились из легковоспламеняющихся материалов, свет и приготовление пищи в них обеспечивались открытым огнем, а потому они регулярно горели, и исторические хроники полны упоминаний о разрушительных пожарах в юго-восточно-азиатских городах. См., например: Reid А. Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680. New Haven: Yale University Press, 1993. Vol. 2. Expansion and Crisis. P. 91; Gazetteer of Upper Burma… Vol. I. Part 2. P. 1 — описание Амарапуры; Коеnig W. J. Op. cit. P. 34–35 — описание пожаров в Амарапуре и Рангуне. Эпиграф к этому параграфу взят из книги: Diamond J. Guns, Germs, and Steel. New York: Norton, 1997. P. 195 [Даймонд Дж. Указ. соч. С. 244–245]. Параграф основан на аргументах Даймонда об эпидемических заболеваниях.
[427] Reid A. Southeast Asia in the Age of Commerce… Vol. 2. P. 291–298. Здесь Рид объединяет последствия засухи и последующего голода с заболеваниями. Взаимосвязь засухи и голода очевидна, но эпидемии часто случаются и без вспышек голода.
[428] Henley D. Fertility, Food, and Fever: Population, Economy, and Environment in North and Central Sulawesi, 1600–1930. Leiden: Kitlv, 2005. Глава 7 и стр. 286.
[429] Scott W. H. Op. cit. P. 90. Скотт не сообщает, как часто бегущие игороты приносили особой эпидемию или как часто они сталкивались с уже заблокированными проходами.
[430] Майкл Онг-Твин в своем по всем остальным параметрам прекрасном исследовании ирригации в сердце Бирмы в период существования государства Паган так упорно подчеркивает это преимущество, что забывает о проблемах, порождаемых скученностью населения и монокультурным земледелием: Aung-Thwin М. Irrigation in the Heartland of Burma: Foundations of the Precolonial Burmese State. DeKalb: Council of Southeast Asian Studies of Northern Illinois University, 1990. P. 54.
[431] Nai Thein. Op. cit. P. 53.
[432] Thant Myint-U.lhe Making of Modern Burma. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 43.
[433] Koenig W. J. Op. cit. P. 43.
[434] Keeton С. Hi. Op. cit.
[435] Lieberman V. B. Strange Parallels… Vol. I. P. 163, 174, 318–319.
[436] В широком смысле концентрация населения в центре государства, которую также можно назвать «управление», — основная причина голода, пожаров и эпидемий, не говоря уже о войнах. Все они, таким образом, по крайней мере отчасти — эффект государства. Все королевские указы, предписывающие последовательность шагов, которые должны были предпринимать все жители столицы, чтобы быть готовыми предотвратить пожар и потушить его в случае возникновения, — свидетельство озабоченности государства. См.: Royal Orders of Burma… Part 3. P. xiv, 49–50.
[437] Представьте, например, что Новый Орлеан каждые двадцать — тридцать лет переживал бы срочную эвакуацию, наподобие вызванной ураганом «Катрина». В подобных обстоятельствах множество кризисных процедур глубоко укоренилось бы в коллективной памяти жителей города.
[438] Lieberman V. B. Strange Parallels… Vol. I. P. 369, 394, 312.
[439] Aung-Thwin M. Op. cit. P. 34.
[440] Такая модель поведения достаточно подробно описана для китайских деревень в работе: Skinner G. W. Chinese Peasants and the Closed Community: An Open and Shut Case // Comparative Studies in Society and History. 1971. № 13. P. 270–281.
[441] И вновь горы буквально и в то же время метафорически обозначают зону сопротивления государству.
[442] Nai Thein. Op. cit. P. 17. Эпиграф к этому параграфу взят из книги: Scott W.H Op. cit. P. 141.
[443] Gazetteer of Upper Burma… Vol. I. Part I. P. 148.
[444] Hardy A. Red Hills… P. 134.
[445] Mitton G. £. [Lady Scott] Scott of the Shan Hills: Orders and Impressions. London: John Murray, 1930. P. 182. Скотт старается изо всех сил воспроизвести склонность ва к «охоте за головами».
[446] Smith М. Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity. London: Zed, 1991. P. 349.
[447] Социолингвисты рассматривают это как аналог того, что в изоляции мигранты, особенно оторванные от своей исторической родины, могут сохранять древние диалекты в течение длительного времени после того, как они утратили свою изначальную культуру. Квебекский французский, бурский голландский и аппалачский английский — яркие тому примеры.
[448] Crosthwaite С. Op. cit. P. 116.
[449] Smith М. Op. cit. P. 231.
[450] В марте 2006 года я попробовал совершить с другом путешествие на мотоциклах к южным границам Пегу-Йома, к востоку от города Таравади. Менее чем через два часа пути дорога стала настолько песчаной, что мы не смогли передвигаться дальше на мотоциклах и вынуждены были пойти пешком. Мы встретили несколько запряженных волами телег с дровами и углем, спускающихся с гор. После полудня пути мы дошли до поселения, состоявшего из восьми или девяти грубо сделанных домов. Многие из деревьев во дворах издалека казались увешанными белой марлей. Мы быстро поняли, что на белую марлю были похожи москитные сетки. Все жители деревни спали на деревьях после того, как слоны с гор вломились в их небольшие амбары и сожрали все молодые саженцы бананов. Слонам, в не меньшей степени, чем повстанцам, были очевидны преимущества такого расположения поселения для набегов.
[451] Gazetteer of Upper Burma… Vol. I. Parti. P. 133.
[452] Elvin M. Op. cit. P. 190.
[453] Shih Nai-an. Water Margin /Trans, by J. H. Jackson. Cambridge: C&T, 1976, первоначально работа была опубликована в Шанхае.
[454] Thesiger l/K. The Marsh Arabs. Harmondsworth: Penguin, 1967. P. 99. Араш Хазени в превосходной диссертации, посвященной династии Каджаров в Иране XIX века, отмечает, что поверженный военачальник Бахитари вместе с семьей укрылся на этих болотах вблизи реки Шатт-эль-Араб: Khazeni A. Opening the Land: Tribes, States, and Ethnicity in Qajar Iran, 1800–1911. Ph.D. diss. Yale University, 2005.
[455] Представьте, например, огромные Припятские болота (занимают сотню тысяч квадратных километров на территории Польши, Беларуси и северо-запада Украины), грандиозные планы по осушению которых вынашивали нацисты, или Понтийские болота вблизи Рима, в конце концов осушенные Муссолини. Я думаю, что это не просто совпадение, что схожий цивилизационный дискурс сложился по отношению к безгосударственным жителям болот и безгосударственным горным народам. Их считали примитивными, даже выродившимися людьми, которых можно спасти/исправить лишь посредством радикального изменения их окружающей среды или полного перемещения всего «племени».
[456] См., например: Rimini R. The Second Seminole War (ch. 16) // Andrew Jackson and His Indian Wars. New York: Viking, 2001. P. 272–276. Интересная вариация предположения, что некоторые группы на Малайском полуострове избегали малайского государства и рабства, устремляясь в горы, тогда как остальные садились в свои лодки — так бежали в болота индейцы чероки, и лишь небольшое их число «укрылось на самых высоких горных вершинах» Северной Каролины.
[457] Simpson В. The Great Dismal: A Carolinians Swamp Memoir. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1990. P. 69–73.
[458] Upmeyer M. Swamped: Refuge and Subsistence on the Margin of the Solid Earth. Term paper for graduate seminar «The Comparative Study of Agrarian Societies». Yale University, 2000.
[459] Stan B-H Tan. Dust beneath the Mist: State and Frontier Formation in the Central Highlands of Vietnam, the 1955–61 Period. Ph.D. diss. Australian National University, 2006.
[460] Smith M. Op. cit.
[461] Sopher D. E. Op. cit. P. 42–43.
[462] Хорошие обзоры пиратства представлены в работах: Warren J. Sulu Zone, 1768–1868: The Dynamics of External Trade, Slavery, and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State. Kent Ridge: Singapore University Press, 1981; Tarling N. Piracy and Politics in the Malay World: A Study of British Imperialism in Nineteenth-Century Southeast Asia. Melbourne: FW Cheshire, 1963. Более развернутое описание морской контрабанды, пиратства и моря как зоны сопротивления государству дано в книге: Tagliacozzo Е. Secret Trades, Porous Borders: Smuggling and States along a Southeast Asian Frontier, 1865–1915. New Haven: Yale University Press, 2005.
[463] Lattimore O. Nomads and Commissars: Mongolia Revisited. Oxford: Oxford University Press, 1962. P. 35.
[464] Fiskesjo M. Rescuing the Empire: Chinese Nation-Building in the 20th Century // European Journal of East Asian Studies. 2006. № 5. P. 15–44, цитата со стр. 38.
[465] В своем исследовании «Восстание мяо» Роберт Дженкс пришел к выводу, что ханьцев здесь было существенно больше, чем меньшинств. В интересах властей было не признавать этот факт, потому что если варвары предположительно поднимали восстания по причинам, не связанным с качеством управления, то единственным объяснением бунтов ханьцев могло быть плохое управление, а ответственность за него понесли бы административные власти провинций (Jenks R. D. Insurgency and Social Disorder in Guizhou: The «Miao» Rebellion, 1854–1873. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1994. P. 4). Весьма точная оценка участия ханьцев в восстании мяо в конце XVIII века представлена в работе: McMahon D. Identity and Conflict in a Chinese Borderland: Yan Ruyi and Recruitment of the Gelao during the 1795–97 Miao Revolt// Late Imperial China. 2002. № 23. P. 53–86.
[466] Tribal Communities in the Malay World: Historical, Cultural, and Social Perspectives/ Ed. by G. Benjamin, С Chou. Singapore: // Institute of Southeast Asian Studies, 2002. P. 34. Более детальное описание см.: Benjamin G. The Malay World as a Regional Array. Работа, представленная на международном семинаре «Looking Back, Striding Forward» (International Workshop on Scholarship in Malay Studies). Лейден, 26–28 августа 2004 года.
[467] Tapp N. Sovereignty and Rebellion: The White Hmong of Northern Thailand. Singapore: Oxford University Press, 1990. P. 173–177.
[468] Turbulent Times and Enduring Peoples… P. 41.
[469] Shanshan Du. Chopsticks Only Work in Pairs: Gender Unity and Gender Equality among the Lahu of Southwest China. New York: Columbia University Press, 2002. P. 115.
[470] Ethnic Adaptation and Identity: The Karen on the Thai Frontier with Burma / Ed. by C. F. Keyes. Philadelphia: ISHI, 1979. P. 30–62. Как объясняет Кис, подобный грубо наведенный лоск вряд ли должным образом учитывает сложнейшие особенности каренской диаспоры. Каренни (красные карены), наверное, основное исключение, поскольку сами замахнулись на государственное строительство, заимствовав черты шанского искусства формирования государственности и заработав себе репутацию наводящих ужас работорговцев, промышляющих набегами.
[471] Более детальный и тщательный исторический анализ позволил бы обозначить постоянные колебания от принятия до избегания в зависимости от конкретных политических и экономических условий. Безгосударственные народы могли, в благоприятствующих тому обстоятельствах, стремиться к более тесным взаимосвязям с равнинными государствами, точно так же как подданные государств в неблагоприятных условиях могли покидать равнинное государство. Те возможности, которые мы обозначили ранее, не следует воспринимать исключительно как «раз и навсегда сделанный выбор». На всей морской территории Юго-Восточной Азии проживают многочисленные сообщества, сущностной характеристикой которых является избегание поглощения равнинными государствами. Сенои и семанги, представители рассеянных оранг-асли в Малайзии, выстраивали свои жизненные практики таким образом, чтобы не стать крестьянами. На Сулавеси ва бежали в самые отдаленные внутренние районы острова, чтобы избежать насильственного переселения, после того как остров стал голландской колонией. Пенаны Саравака, любимцы экологов, выступающих против вырубки лесов, обладают долгой историей собирательства, призванного позволить им жить за пределами равнинных государств, при этом выгодно с последними торгуя. Многие подобные группы имеют репутацию избегающих любых контактов с жителями равнин, возможно, вследствие длительного опыта набегов за рабами на их поселения. Вот как свиток династии Мин «Описание сотни варварских народов» характеризует народ ва: «По природе своей они мягки и слабы и боятся властей». См. по этому поводу: Denton Я. К., Endicott K., Gomes A., Hooker М. В. Malaysia and the Original People: A Case Study of the Impact of Development on Indigenous Peoples, Cultural Survival Studies in Ethnicity and Change. Boston: Allyn and Bacon, 1997; Atkinson J. M. The Art and Politics of Wana Shamanship. Berkeley: University of California Press, 1989; Brosius P. Prior Transcripts, Divergent Paths: Resistance and Acquiescence to Logging in Sarawak East Malaysia//Comparative Studies in Society and History. 1997. № 39. P. 468–510; Yin Shao-ting. Op. cit. P. 65.
[472] Geusau von L. A. Op. cit. P. 134.
[473] Ibid. P. 135.
[474] Информация приводится по детальным отчетам Правозащитной организации каренов — Karen Human Rights Group (далее — KHRG): Peace Villages and Hiding Villages: Roads, Relocations, and the Campaign for Control of Toungoo District. KHRG report 2000–05. 2000. October 15.
[475] Ibid. P. 24. Работа военных носильщиков была особенно опасной. Они нередко уставали до изнеможения на маневрах, их казнили, лишь бы они не вернулись обратно домой, их заставляли идти впереди бирманских войск через территории, которые могли быть заминированы, иногда их принуждали надевать военную форму и идти перед войсками, чтобы вызвать огонь повстанцев на себя. Носильщиков захватывали везде, где скапливалось население: в зонах передислокации войск, в деревнях, // на рынках, в видеосалонах, на автобусных станциях, паромных переправах и т. д.
[476] Free Fire Zones in Southern Tenasserim. KHRG report 97–09.1997. August 20. P. 7.
[477] Неудивительно, что санитарные условия и водоснабжение в зонах переселения часто представляли серьезную угрозу для здоровья. В этом смысле они воспроизводили эпидемиологические опасности жизни в государственных центрах в целом.
[478] Free Fire Zones… P. 7, 10.
[479] Вопрос о том, было ли только и исключительно собирательство во влажных тропических лесах эффективной стратегией выживания, рассмотрен целым рядом экспертов в номере журнала Human Ecology, полностью посвященном этой проблеме (№ 19 за 1991 год). В конечном счете ответ, видимо, положительный.
[480] Abuses and Relocations in the Pa’an District. KHRG report 97–08. 1997. August 1. P. 8. Эти сельские жители надеялись, что смогут вернуться на свои поля и вырастить новый урожай.
[481] Первые колониальные описания скрывающихся деревень, которые «обычно искусно спрятаны и их так же трудно найти, как священное яйцо Амона», см.: Gazetteer of Upper Burma and the Shan States / Compiled from official papers by J. G. Scott, assisted by J. P. Hardiman. Rangoon: Government Printing Office, 1893. P. 195, 416. Vol. 1. Part 2. Британская кампания в начале XX века по умиротворению в Качинских горах была необычайно похожа на современное бирманское военное управление в районах проживания национальных меньшинств. Британские войска сжигали враждебные деревни, уничтожали все запасы зерновых и урожай, вводили системы сбора дани и принудительного труда, настаивали на подписании официальных актов о подчинении и конфискации оружия (Ibid. Vol. 1. Part 1. P. 336)
[482] Glass Palace Chronicle: Excerpts Translated on Burmese Invasions of Siam / Compiled and annotated by Nai Thein // Journal of the Siam Society. 1908. № 5. P. 1–82; 1911. № 8. P. 1–119, цитата со стр. 74–75. Описывается поход Анохраты против Линцина (Вьентьяна) в XVII веке.
[483] Geertz С. Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali. Princeton: Princeton University Press, 1980. P. 23.
[484] Jenks R. D. Insurgency and Social Disorder in Guizhou: The «Miao» Rebellion, 1854–1873. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1994. P. 11, 21, 131.
[485] См., например: Tribal Communities and the Malay World: Historical, Cultural, and Social Perspectives / Ed. by G. Benjamin, С. Chou. Singapore: Institute for Southeast Asian Studies, 2002, особенно главу 2 «On Being Tribal in the Malay World». P. 7–76.
[486] Tribal Communities and the Malay World… Позиция Беньямина относительно «родоплеменного строя» в целом находит все большую поддержку среди антропологов и историков и заключается в том, что, по сути, государства сами создают племена. Он пишет: «Согласно этому взгляду все зафиксированные историками и этнологами племенные общества являются вторичными образованиями, характеризующимися позитивными шагами, предпринятыми ими для предотвращения своего поглощения государственным аппаратом (или его далеко простирающимися щупальцами), хотя племена часто пытались замалчивать тот факт, что их образ жизни был сформирован присутствием государства или же всем тем, что можно обозначить как усложняющий жизнь эффект государства» (Ibid. P. 9). См. также: Andaya L. A. Orang Asli and Malayu in the History of the Malay Peninsula// Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. 2002. № 75. P. 23–48.
[487] Прекрасный обзор особенностей кочевого образа жизни в целом см. в книге: Barfield T. J. The Nomadic Alternative. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1993.
[488] Irons W. Nomadism as a Political Adaptation: The Case of the Yomut Turkmen // American Ethnologist. 1974. № 1. P. 635–658, цитата со стр. 647.
[489] Rambo A. T. Why Are the Semang? Ecology and Ethnogenesis of Aboriginal Groups in Peninsular Malaysia// Ethnic Diversity and the Control of Natural Resources in Southeast Asia/ Ed. by A. T. Rambo, K. Gillogly, K. Hutterer. Ann Arbor: Center for South and Southeast Asia, 1988. P. 19–58, цитата со стр. 25. Аналогичную характеристику пунанов/пенанов Саравака см. в книге: Hoffman C. L. Punan Foragers in the Trading Networks of Southeast Asia// Past and Present in Hunter-Gatherer Studies / Ed. by С. Shrire. Orlando: Academic Press, 1984. P. 123–149.
[490] The Man Shu (Book of the Southern Barbarians) / Trans, by G. H. Luce, ed. by G. R. Oey. Ithaca: Cornell University 1961 (= Southeast Asia Program. Data paper № 44). P. 35.
[491] Christian D. Maps of Time: An Introduction to Big History. Berkeley: University of California Press, 2004. P. 186. Археологические доказательства бесспорны. «Джон Коатсворт пишет: „Биоархеологи увязали сельскохозяйственный переход со значительным сокращением пищевого рациона и ростом заболеваний, переутомлением и насилием в районах, где найденные костные останки позволяют сравнить благополучие человека до и после изменений“. Почему кто-то предпочитает образ жизни, основанный на столь мучительном выращивании, сборе и обработке небольшого набора травяных семян, когда настолько проще собирать растения или охотиться на животных, отличающихся большим разнообразием и многочисленностью, а также легкостью приготовления» (Ibid. P. 223). Приведенный обзор подкрепляет тезис Эстер Бозеруп, что оседлое зерновое земледелие стало результатом болезненно сложной адаптации к перенаселению и малоземелью (Boserup Е. The Conditions of Agricultural Growth. Chicago: Aldine-Atherton, 1972). Археологические доказательства подтверждают описание Маршаллом Салинсом общества собирателей как «первоначально общества изобилия» (Sahlins М. Stone Age Economics. London: Tavistock, 1974. P. 1).
[492] Scoff W. H. The Discovery of the Igorots: Spanish Contacts with the Pagans of Northern Luzon / Rev. ed. Quezon City: New Day, 1974. P. 90.
[493] Barker G. Footsteps and Marks: Transitions to Farming in the Rainforests of Island Southeast Asia. Yale University, September 26, 2008. Paper prepared for the Program in Agrarian Studies. P. 3. Эпиграф к этому параграфу приводится по книге: Khazeni А. Opening the Land: Tribes, States, and Ethnicity in Qajar Iran, 1800–1911. Ph.D. diss. Yale University, 2005. P. 377. Хотя поэма заканчивается мечтами о государственном завоевании, типичными для военизированных кочевых скотоводов (в данном случае бахтияри в Иране), я хотел бы привлечь внимание к взаимосвязи оседлого земледелия с угнетением. Я благодарен Казени за помощь в моих изысканиях и за высказанные им в диссертации проницательные догадки.
[494] Clasfres P. Society against the State: Essays in Political Anthropology / Trans, by R. Hurley. New York: Zone, 1987. Первоначально работа была опубликована под названием «La societe contre I etat» (Paris: Editions de Minuit, 1974).
[495] Имеющиеся сегодня доказательства позволяют утверждать, что Новый Свет был гораздо более густонаселен до Конкисты, чем предполагалось ранее. Теперь мы знаем, по большей части благодаря археологическим находкам, что сельское хозяйство велось в большинстве регионов, где это было технически возможно, и что численно население Нового Света могло превосходить население Западной Европы. Развернутый обзор имеющихся доказательств см. в книге: Mann С. С. 1491: New Revelations of the Americas before Columbus. New York: Knopf, 2005.
[496] Holmberg A. R. Nomads of the Longbow: The Siriono of Eastern Bolivia. New York: Natural History, 1950.
[497] Воссозданную историю племени сирионо, основанную частично на детальном исследовании близкородственной им группы, см. в статье: Mclean Sfearman A. The Yukui Connection: Another Look at Siriono Deculturation // American Anthropologist. 1984. № 83. P. 630–650.
[498] Clasfres P. Elements of Amerindian Demography//Society against the State. P. 79–99. Переход от оседлого сельского хозяйства к охоте и собирательству мог происходить и в Северной Америке, где схожий демографический коллапс существенно увеличил площадь пригодных для этого земель, а европейские металлические орудия, огнестрельное оружие и лошади сделали собирательство менее трудоемким. См.: The Middle Ground: Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1650–1815. Cambridge: Cambridge University Press, 1991, разные стр.
[499] Прекрасный обзор представлен в книге: Maroon Societies: Rebel Slave Communities in the Americas / Ed. by R. Price; 2nd ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1979.
[500] Yin Shao-fing. People and Forests: Yunnan Swidden Agriculture in Human-Ecological // Perspective / Trans, by M. Fiskesjo. Kunming: Yunnan Education Publishing House, 2001. P. 351.
[501] O’Connor R. A. A Regional Explanation of the Tai Muang as a City-State // A Comparative Study of Thirty City-States/ Ed. by M. H. Hansen. Copenhagen: Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 2000. P. 431–447, цитаты со стр. 434. Обосновывая свою позицию, О’Коннор также ссылается на работы: Сопdominas С. From Lawato Mon, from Saa’to Thai: Historical and Anthropological Aspects of Southeast Asian Social Spaces / Trans, by S. Anderson et al. Canberra: Australian National University, 1990 (= An Occasional Paper of Anthropology in Association with the Thai Yunnan Project, Research School of Pacific Studies). P. 60; Durrenberger E. P., Tannenbaum N. Analytical Perspectives on Shan Agriculture and Village Economics. New Haven: Yale University Southeast Asian Monographs, 1990. P. 4–5.
[502] Michaud J. Historical Dictionary of the Peoples of the Southeast Asian Massif. Lanham, Md.: Scarecrow, 2006. P. 180.
[503] См., например: Wiens H. J. China’s March toward the Tropics: A Discussion of the Southward Penetration of China’s Culture, Peoples, and Political Control in Relation to the Non-Han-Chinese Peoples of South China in the Perspective of Historical and Cultural Geography. Hamden, Conn.: Shoe String, 1954. P. 215; Breman J. The VOC’s Intrusion into the Hinterland: Mataram, unpublished paper. К политическим и налоговым преимуществам подсечно-огневого земледелия следует добавить склонность подсечно-огневых земледельцев к использованию новых торговых и обменных возможностей. Бернард Селлато отмечал также большую безопасность и адаптивность подсечноогневого земледелия, изучая ситуацию на Борнео: оно обеспечивало более надежное и разнообразное питание, легко вписывалось в «коммерческий сбор» дорогостоящих лесных продуктов. В целом Селлато убежден, что «гибкость этой системы земледелия, в конце концов, позволяет более эффективно реагировать на возможности современного мира (кратковременной занятости, например), тогда как крестьяне, выращивающие рис, прикованы к своим полям» (Sellato В. Nomads of the Borneo Rainforest: The Economics, Politics, // and Ideology of Settling Down / Trans, by S. Morgan. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1994. P. 186.
[504] Наиболее убедительное и детальное обоснование данного факта представлено в работе великого китайского агронома, сегодня доступной читателям и на английском: Yin Shao-ting. Op. cit. См. особенно стр. 351–352.
[505] Christie J. W. Water from the Ancestors: Irrigation in Early Java and Bali //The Gift of Water: Water Management, Cosmology, and the State in Southeast Asia / Ed. by J. Rigg. London: School of Oriental and African Studies, 1992. P. 7–25. См. также: Lansing J. S. Priests and Programmers: Technologies of Power in the Engineered Landscape of Bali/Rev. ed. Princeton: Princeton University Press, 1991, 2007.
[506] Leach E. The Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure. Cambridge: Harvard University Press, 1954. P. 236–237.
[507] Знаменитые догоны Бенина соответствуют этим критериям. Они бежали в горы и здесь, на каменистых почвах, создали оседлое земледелие, корзину за корзиной принося сюда с равнин землю. Вряд ли это было эффективно, но четко обозначало границу между свободой и пленом. Однако как только опасность нападений и захвата миновала, догоны вновь рассеялись и вернулись к подсечно-огневому земледелию.
[508] Michaud J. Op. cit. P. 100.
[509] На самом деле подсечно-огневое земледелие с этой точки зрения представляет собой более пространственно стабильный образ жизни, чем выращивание зерновых, поскольку в последнем случае высока вероятность подвергнуться набегам. Зерновые земледельцы, если их урожай и зернохранилища разграблены или сожжены, вынуждены покидать свое местожительство в поисках пищи. Подсечно-огневые земледельцы, наоборот, обычно имеют достаточно корнеплодов, сохранившихся в земле, а также различных вызревающих над поверхностью земли культур, поэтому им проще вернуться назад и прокормиться сразу после того, как непосредственная физическая опасность миновала.
[510] Впрочем, обратное необязательно верно. Как уже было отмечено ранее, поливное рисоводство практиковалось и на государственных, и на без государственных пространствах.
[511] Dove М. On the Agro-Ecological Mythology of the Javanese and the Political Economy of Indonesia // Indonesia. 1985. № 39. P. 1136, цитата со стр. 14.
[512] Jonsson H. Yao Minority Identity and the Location of Difference in the South China Borderlands // Ethnos. 2000. № 65. P. 56–82, цитата со стр. 67. В своей диссертации «Изменение социального ландшафта: горные общины мьенов (яо) и истории государственно-клиентелистских отношений», выполненной на базе Корнелльского университета в 1996 году, Йонссон описывает то же самое, но в несколько более культурологическом контексте: «Я полагаю, что проживание высоко в горах было обусловлено поглощением государством равнинных областей… Жители высокогорий, явно оказавшиеся вне государств и не разделявшие картину мира их населения, исходили из экологического разграничения долин и лесов таким образом, чтобы воспроизводить его в своей хозяйственной деятельности, и я предполагаю, что таков фундамент адаптации горных народов к земледелию в лесах — не непосредственно сама природа, а окружающая среда, сформированная государством» (р. 195).
[513] Тарр N. Sovereignty and Rebellion: The White Hmong of Northern Thailand. Singapore: Singapore University Press, 1990. P. 20. Цит. no: Savina F. M. Histoire des Miao. Hong Kong: Imprimerie de la Societe des Missions Etrangeres de Paris, 1930. P. 216.
[514] Подробное описание набора хозяйственных практик в подобных условиях требует искусной и тщательной этнографической работы. Первый подобный образчик в случае Юго-Восточной Азии — известная работа Гарольда Конклина: Conklin Н. Hanunoo Agriculture: A Report on an Integral System of Shifting Cultivation in the Philippines. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1957. Сложно справедливо разделить свое восхищение между, с одной стороны, знаниями и умениями хануно’о, и, с другой, — исключительной наблюдательностью этнографа.
[515] Gazetteer of Upper Burma… Vol. I. Part 2. P. 416. Скотт принимает во внимание, что горные народы осознают, выплачивая налоги и «выращивая урожай, что шаны слишком ленивы, чтобы работать самим», но позже пишет: «Налоги собираются под давлением и с большим трудом, порождая пассивное сопротивление; всегда существует риск, что население массово покинет свое местожительство» (Ibid.).
[516] В основе любого «цивилизационного» пищевого рациона всегда лежит зерновая культура — обычно какая-то одна, например пшеница, кукуруза, рис или рожь: это скрепляющий цивилизацию символ. Римлян удивляло в рационе варваров относительное отсутствие зерновых, в отличие от мясных и молочных продуктов [Burns Т. Rome and the Barbarians, 100 ВС-AD 400. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003. P. 129).
[517] Другой альтернативой, которая, однако, требовала высокого уровня государственного контроля, было сокращение разнообразия посредством принуждения деревни высаживать на отдельных полях назначенные государством сельскохозяйственные культуры, урожай которых чиновники потом могли конфисковать. Этот подход лег в основу «системы земледелия», введенной голландскими колонизаторами на острове Ява.
[518] Муа Than, Nobuyoshi Nishizawa. Agricultural Policy Reforms and Agricultural Development// Myanmar Dilemmas and Options: The Challenge of Economic Transition in the 1990s / Ed. by MyaThan, J. L. H. Tan. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. // P. 89–116, цитата со стр. 102. См. также описание поразительного случая, когда вождь деревни в годы политики Большого скачка в Китае посоветовал своим односельчанам высадить репу, потому что, в отличие от зерновых, ее урожай не облагался налогами и не изымался государством (Seybolt P. J. Throwing the Emperor from His Horse: Portrait of a Village Leader in China, 1923–1995. Boulder: Westview, 1996. P. 57).
[519] Крестьяне, выращивающие зерновые, неоднократно подвергались набегам банд или нуждающихся в провизии армий и поэтому стали очень искусны в сокрытии урожая небольшими партиями в схронах; преимущество корнеплодов состоит в том, что они и так уже находятся в небольших тайниках под землей [McNeill W. Frederick the Great and the Propagation of Potatoes // I Wish I’d Been There: Twenty Historians Revisit Key Moments in History / Ed. by B. Hoilinshead, Т. К. Rabb. London: Pan Macmillan, 2007. P. 176–189).
[520] Джеффри Беньямин отмечает, что орангасли Малайзии предпочитают культуры, которые относительно нетрудозатратны (просо, клубневые, саговые пальмы, кокосы и бананы), поскольку они упрощают их мобильность. См.: Benjamin G. Consciousness and Polity in Southeast Asia: The Long View// Local and Global: Social Transformation in Southeast Asia: Essays in Honour of Professor Syed Hussein Alatas / Ed. by R. Hassan. Leiden: Brill, 2005. P. 261–289.
[521] Дискуссии по этой теме в отношении Нового Света суммированы в работе: // Mann С. С. Op. cit. По поводу Юго-Восточной Азии — в книге: Sellato В. Op. cit. P. 119 и последующие. Более скептический взгляд отражен в работе: Dove M. R. The Transition from Stone to Steel in the Prehistoric Swidden Agricultural Technology of the Kantu’of Kalimantan, Indonesia // Foraging and Farming / Ed. by D. Harris, G. C. Hillman. London: Allen and Unwin, 1989. P. 667–677.
[522] Hoffman C. L. Op. cit.
[523] Ibid. P. 34, 143.
[524] См.: Adas M. Imperialist Rhetoric and Modern Historiography: The Case of Lower Burma Before the Conquest // Journal of Southeast Asian Studies. 1972. № 3. P. 172–192; Renard R. D. The Role of the Karens in Thai Society during the Early Bangkok Period, 1782–1873 // Contributions to Asian Studies. 1980. № 15. P. 15–28.
[525] Condominas G. Op. cit P. 63.
[526] Sellato B. Op. cit. P. 174–180.
[527] Leary J. D. Violence and the Dream People: The Orang Asli in the Malayan Emergency, 1848–1960. Athens, Ohio: Center for International Studies, 1995 (= Monographs in International Studies, Southeast Asian Studies, № 95). P. 63.
[528] См.: Sweet D. Native Resistance in Eighteenth-Century Amazonia: The «Abominable Muras» in War and Peace // Radical History // Review. 1992. № 53. P. 49–80. Мурасы хозяйничали на двух с половиной тысячах квадратных километров сплетенных в лабиринт водных потоков, которые в ходе ежегодных наводнений меняли свои очертания и форму сплетений. Эти земли как магнит притягивали бегущих от португальской системы принудительного труда, и на самом деле слово «мура» не столько обозначало этническую идентичность, сколько было собирательным названием «преступивших закон». В сухой сезон мурасы высаживали быстро вызревающие культуры на влажных после наводнения почвах, а также кукурузу и маниоку.
[529] Пониманием сути основных дискуссий о корнеплодах и клубнеплодах, а также о кукурузе я обязан замечательным историческим исследованиям Петера Бумгаарда. См., в частности: Boomgaard P. In the Shadow of Rice: Roots and Tubers in Indonesian History, 1500–1950//Agricultural History 2003. № 77. P. 582–610; Boomgaard P. Maize and Tobacco in Upland Indonesia, 1600–1940//Transforming the Indonesian Uplands: Marginality, Power, and Production/ Ed. by T. Murray Li. Singapore: Harwood, 1999. P. 45–78.
[530] Саговые пальмы, в отличие от многих других растений, не занимают четкого положения на шкале между полностью одомашненными сельскохозяйственными культурами и встречающимися в природе дикими видами. Видимо, они были завезены на материк из Восточной Индонезии и распространились в пригодных для них географических зонах, где их к тому же заботливо выращивали. Саговые пальмы превосходят даже кассаву по калорийности продукта в пересчете на единицу труда.
[531] Boomgaard P. In the Shadow of Rice… P. 590.
[532] Scott W. H. Op. cit. P. 45.
[533] Я благодарен Александру Ли за то, что он суммировал крайне разрозненные данные, обеспечив возможность сопоставительного анализа.
[534] В этом параграфе я опираюсь на фундаментальный труд Петера Бумгаарда «Кукуруза и табак» (Boomgaard P. Maize and Tobacco…).
[535] Ibid. P. 64.
[536] Ibid. P. 65.
[537] Hefner R. W. The Political Economy of Mountain Java. Berkeley: University of California // Press, 1990. P. 57. Если подход Хефнера имеет более широкую область применения и если верно утверждение, что стальные орудия преобразовали подсечно-огневое земледелие, то изучать последнее с тем, чтобы сделать выводы о более ранних формах этой земледельческой системы, можно только с учетом множества оговорок.
[538] Кукуруза и картофель также позволили доминирующим этническим группам расселиться за пределами долин и колонизировать горы. Так, на юго-западе Китая ханьское население, благодаря выращиванию кукурузы и картофеля, смогло подняться выше по склонам гор; ненамного от него отстала и ханьская администрация. В результате неханьское население было вытеснено выше в горы и верховья рек. См.: Diamond N. Defining the Miao: Ming, Qing, and Contemporary Views // Cultural Encounters on China’s Ethnic Frontier / Ed. by S. Harrell. Seattle: University of Washington Press, 1995. P. 92–119, цитата со стр. 95; Fiskesjo M. On the «Raw» and the «Cooked» Barbarians of Imperial China // Inner Asia. 1999. № 1. P. 139–168, особенно стр. 142.
[539] В этом разделе моим путеводителем стала замечательная работа Петера Бумгаарда «В тени риса» (Boomgaard P. In the Shadow of Rice…).
[540] Манн сообщает, что встретил женщину из бразильского Сантарема, утверждавшую, что когда положенный несколько лет назад асфальт был вскрыт, то под ним обнаружили плоды маниоки (Mann С. С. Op. cit. Р. 298).
[541] Джеймс Хаген предупредил меня, что по крайней мере на Молуккском архипелаге дикие свиньи не особо разборчивы по отношению к клубням, которые выкапывают и поедают, поэтому говорить здесь о неких особых различиях, видимо, не стоит (в личной беседе в феврале 2008 года).
[542] Edelman М. A Central American Genocide: Rubber, Slavery, Nationalism, and the Destruction of the Guatusos-Malekus // Comparative Studies in Society and History. 1998. № 40. P. 356–390, цитата со стр. 365. Оценку развития и последующего свертывания свободной крестьянской экономики освобожденных рабов, зависимой от общественной собственности, в Соединенных Штатах после Гражданской войны, см. в работе: Hahn S. Hunting, Fishing, and Foraging: Common Rights and Class Relations in the Postbellum South // Radical History Review. 1982. № 26. P. 37–64.
[543] Соответствующая аргументация блестяще разобрана в статье: O’Connor R. Rice, Rule, and the Tai State // State Power and Culture in Thailand / Ed. by E. R. Durrenberger. New Haven: Yale Southeast Asian Council, 1996 (= Southeast Asia Monograph № 44). P. 68–99.
[544] Lehman F. K. [Chit Hlaing] Burma: Kayah Society as a Function of the Shan-Burma-Karen Context// Contemporary Change in Traditional Society / Ed. by J. Steward. Urbana: University of Illinois Press, 1967. Vol. I. P. 1–104, цитата со стр. 59. Следует отметить, что Лиман сравнивает политическую ситуацию, в которой кая сами себя позиционируют, // с солнечной системой: общества бирманцев, шанов и каренов выступают как одновременно притягивающие и отталкивающие кая планеты.
[545] Lapidus I. Tribes and State Formation in Islamic History // Tribes and State Formation in the Middle East / Ed. by P. S. Khoury, J. Kostiner. Berkeley: University of California Press, 1990. P. 48–73, цитата со стр. 52.
[546] Известные исключения — хмонги, карены и качины: два последних племени были военизированы и обращены в христианство британским колониальным режимом. Единственным и самым поразительным примером стало великое восстание мяо (хмонгов) в Гуйчжоу, на юго-западе Китая, с 1854 по 1873 год. Отступление, конечно, сопровождалось оборонительными военными мерами.
[547] Gellner Е. Saints of the Atlas. London: Weidenfeld and Nicholson, 1969. P. 41–49; Yapp M. Tribes and States in the Khyber, 1838–1842. Oxford: Clarendon, 1980; цит. no: Tapper R. Anthropologists, Historians, and Tribespeople on the Tribe and State Formation in the Middle East//Tribes and State Formation… P. 48–73, цитата со стр. 66–67.
[548] См. прекрасную работу: Barkey К. Empire of Difference: The Ottomans in Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 155–167. Автор полагает, что сложные взаимоотношения османской власти с дервишескими орденами напоминают проблемы, с которыми сталкивались царские власти во взаимодействии со старообрядцами и униатами.
[549] Beck L. Tribes and the State in 19th- and 20th-century Iran // Tribes and State Formation… P. 185–222, цитаты со стр. 191, 192.
[550] Laftimore О. On the Wickedness of Being Nomads // Studies in Frontier History: Collected Papers, 1928–1958. London: Oxford University Press, 1962. P. 415–426, цитата со стр. 415.
[551] P. Уайт пишет: «Совершенно ясно, что с социальной и политической точек зрения это был мир деревень… То, что мы называем племенами, народами и конфедерациями, представляло собой лишь свободные объединения деревень… Ничего, хотя бы отдаленно напоминающего государство, spays d’en haut (высоко в горах) не существовало» (White R. Op. cit. P. 16).
[552] Schwartz S., Salomon F. New Peoples and New Kinds of People: Adaptation, Adjustment, and Ethnogenesis in South American Indigenous Societies (Colonial Era) // The Cambridge History of Native Peoples of the Americas / Ed. by S. Schwartz, F. Salomon. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 443–502, особенно стр. 460.
[553] Irons W. Op. cit.; Khodarkovsky M. When Two Worlds Met: The Russian State and the Kalmyk Nomads, 1600–1771. Ithaca: Cornell University Press, 1992.
[554] Sahlins M. Tribesmen. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1968. P. 45–46, цитаты там же и со стр. 64.
[555] Убедительную иллюстрацию того, что интенсификация и свертывание сельского хозяйства в доколониальных Андах были политическими решениями, см.: Erickson С. Archeological Approaches to Ancient Agrarian Landscapes: Prehistoric Raised-Field Agriculture in the Andes and the Intensification of Agricultural Systems. Paper presented to the Program in Agrarian Studies. Yale University, February 14, 1997.
[556] Leach £. Op. cit. P. 171.
[557] Gazetteer of Upper Burma… Vol. I. Part 2. P. 246.
[558] Crosthwaite С. The Pacification of Burma. London: Edward Arnold, 1912. P. 236, 287.
[559] Kirsch A. T. Feasting and Society Oscillation, a Working Paper on Religion and Society in Upland Southeast Asia. Ithaca: Southeast Asia Program, 1973 (= Data paper № 92). P. 32.
[560] Leach £. Op. cit. P. 171. В большинстве случаев политическое решение отделить себя от подданных государств и жителей долин предполагало и соответствующую культурную маркировку. См., например, описание Джеффри Беньямином эгалитаризма семангов и сенои как «реакции» на малайскую идентичность, что повлекло за собой «диссимиляцию» ее культурных маркеров (Tribal Communities in the Malay World… P. 24, 36).
[561] Fiskesjo M. The Fate of Sacrifice and the Making of Wa History. Ph.D. thesis. University of Chicago, 2000. P. 217.
[562] Dessaint A. Lisu World View//Contributions to Southeast Asian Ethnography. 1998. № 2. P. 27–50, цитата со стр. 29; Dessaint A. Anarchy without Chaos: Judicial Process in an Atomistic Society, the Lisu of Northern Thailand // Contributions to Southeast Asian Ethnography. № 12. Special issue «Leadership, Justice, and Politics at the Grassroots»/ Ed. by A. R. Walker. Columbus, Ohio: Anthony R. Walker, 2004. P. 15–34.
[563] Dournes J. Sous couvert des maitres // Archive Europeen de Sociologie. 1973. № 14. // P. 185–209.
[564] Friedman J. Dynamics and Transformation of a Tribal System: The Kachin Example// L’Homme. 1975. № 15. P. 63–98; Friedman J. System, Structure, and Contradiction: The Evolution of Asiatic Social Formations. Walnut Creek, Calif.: Altimira, 1979; Nugent D. Closed Systems and Contradiction: The Kachin in and out of History// Man. 1982. № 17. P. 508–527.
[565] Social Dynamics in the Highlands of Southeast Asia: Reconsidering the Political Systems of Highland Burma by E. R. Leach / Ed. by // F. Robinne, M. Sadan. Leiden: Brill, 2007 (= Handbook of Oriental Studies. Section 3 «Southeast Asia»). О недопонимании Личем понятий гумса и гумлао говорится прежде всего в статьях Ля Ро Марана и Чит Хлаинга: Maran La Raw. On the Continuing Relevance of E. R. Leach’s Political Systems of Highland Burma to Kachin Studies (3166); Chit HIaing F. K. L. [F. K. Lehman] Introduction «Notes on Edmund Leach’s Analysis of Kachin Society and Its Further Applications» (XXI–LII).
[566] Ля Ро Маран в статье «Непреходящая актуальность…» показывает, что из множества элементов гумса только один (склеивающий племя в магмообразное единство) примерно соответствует той строгой иерархии, балансирующей на грани тирании, которую Лич связывает с системой гумса как таковой. Далее Маран утверждает, что на самом деле «гумлао» (гумлау) не существовало — скорее, можно говорить о более или менее демократичных вариациях гумса. Строго говоря, самые эгалитарные форматы гумса-гумлао фактически представляют собой совокупность конкурирующих друг с другом устраивающих пиршества олигархий, стать частью которых может любой, успешно заручившийся поддержкой достаточного числа сторонников. Лич со своей структуралистской концепцией совершил ошибку, предположив, что сочетание сегментированной системы родства с асимметричными моделями брачных союзов неизбежно формирует устойчивую структуру статусов и властной иерархии. Маран полагает, как и Чит Хлаинг [Лиман] в своем введении, что это не соответствовало действительности. Корнелия Энн Каммерер показывает, что в целом ритуальная монополия и несимметричные брачные альянсы совместимы с высокой степенью эгалитаризма (Kammerer С. A. Spirit Cults among Akha Highlanders of Northern Thailand // Founders’Cults in Southeast Asia: Ancestors, Polity, and Identity / Ed. by N. Tannenbaum, C. A. Kammerer. New Haven: Council on Southeast Asian Studies, 2003. Monograph № 52. P. 40–68).
[567] Более авторитарные формы качинской иерархии, как подчеркивали Ньюджент и другие авторы, страдали отнюдь не только от внутренних проблем, связанных с притязаниями на власть низкостатусных родов и ничего не наследующих сыновей. Опиумный бум и последовавшая за ним борьба за новые опиумные земли, а также усилия британских властей по сокращению сборов (а не набегов) с караванной торговли и искоренению рабства как источников качинских доходов и рабочей силы, видимо, сыграли более решающую роль в разрушении иерархических форматов социальной организации качинов. См., например: Boute V. Political Hierarchical Processes among Some Highlanders of Laos // Social Dynamics in the Highlands… P. 187–208.
[568] Одна из причин, почему Лич систематически придавал слишком большое значение авторитарным чертам системы гумса, заключается в том, что когда вождь гумса представлялся шанам, то использовал характерные для шанских правителей княжеские титулы и манеру поведения. Тот же самый вождь гумса в своем племени мог иметь всего лишь несколько или вообще не иметь никаких подданных и не признаваться наследственным аристократическим правителем; видимо, Лич ошибочно принял бахвальство за реальное положение дел. См.: Chit HIaing F. K. [Lehman] Introduction.
[569] С учетом юго-восточно-азиатского контекста идеология деревень гумлао и гумса напоминает самые эгалитарные (анабаптистские) секты Реформации и Английской революции. Для гумлао и гумса характерен тот же акцент на ритуальном равенстве, отвержение данничества, отказ от крепостной зависимости и свойственных ей форм обращений, поэтому идеи индивидуальной независимости и личных статусов в данном случае воплощались посредством пиршеств.
[570] Gazetteer of Upper Burma… Vol. I. Part 2. P. 414.
[571] Глубокий анализ системы пиршеств представлен в работе Томаса Кирша «Пиршества и социальные осцилляции», где он противопоставляет демократическое восприятие ритуальной автономии празднеств гумлао характерной для гумса автократической трактовке пиршеств как формы подтверждения иерархического неравенства родов. Демократизация пиршеств (по крайней мере первоначально) под влиянием производства опия описана в работе: Jonsson Н. Rhetorics and Relations: Tai States, Forests, and Upland Groups// State Power and Culture… P. 166–200.
[572] Leach L. Op. cit. P. 198–207.
[573] Пол Дюрренбергер, описывая племя лису, склоняется к более материалистической и, на мой взгляд, более убедительной трактовке причин возникновения различающихся по степени своей иерархичности форм социальной организации: «В горах ЮгоВосточной Азии сложилась идеология чести и богатства, которая в определенных обстоятельствах могла быть трансформирована в систему социальных статусов и престижа. Там, где возможности разбогатеть и доступ к ценным товарам были ограничены, складывались иерархизированные форматы социальности; там, где эти возможности были общедоступны, — эгалитарные» [Durrenberger Е. Л. Lisu Ritual: Economics and Ideology// Ritual, Power, and Economy: Upland-Lowland Contrasts in Mainland Southeast Asia/ Ed. by S. D. Russell. Northern Illinois University, 1989 [= Monograph Series on Southeast Asia, Center for Southeast Asian Studies. Occasional paper № 14]. P. 63–120, цитата со стр. 114).
[574] Leach L. Op. cit. P. 199. Цитируется: Expeditions among the Kachin Tribes of the North East Frontier of Upper Burma / Compiled by General J. J. Walker from the reports of Lieutenant Eliot, Assistant Commissioner. Proceedings R.G.S. XIV.
[575] Leach L. Op. cit. P. 197–198. Цитируются: Stevenson H. N. C. The Economics of the Central Chin Tribes. Bombay, 1943; две работы Дж. Г. Хаттона: Hutton J. H. The Agami Nagas. London, 1921; Idem. The Sema Nagas. London, 1921; Dewar T. P. Naga Tribes and Their Customs: A General Description of the Naga Tribes Inhabiting the Burma Side of the Paktoi Range // Census. 1931. № 11, отчет и приложения.
[576] См. о каренах: Lehman F. K. [Chit Hlaing] Burma…
[577] Цит. по: Smith М. Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity. London: Zed, 1991. P. 84.
[578] Leach L. Op. cit. P. 234. Я скептически воспринимаю это утверждение, учитывая последствия подчинения — обложение данью, барщину и изъятие урожаев. В любом случае Лич не приводит никаких доказательств в подтверждение своего предположения.
[579] Lehman F. K. [Chit Hlaing] The Structure of Chin Society: A Tribal People of Burma Adapted to a Non-Western Civilization. Urbana: University Illinois Press, 1963 (= Illinois Studies in Anthropology № 3). P. 215–220.
[580] Lehman F. K. [Chit Haing] Burma… Vol. I. P. 19.
[581] Jonsson H. Shifting Social Landscape… P. 384.
[582] См., например: Banforth V., Lanjuow S., Mortimer G. Burma Ethnic Research Group. Conflict and Displacement in Karenni: // The Need for Considered Responses. Chiang Mai: Nopburee, 2000; Zusheng Wang. The Jingpo Kachin of the Yunnan Plateau. Tempe: Arizona State University, 1992 (= Program for Southeast Asian Studies Monograph Series).
[583] Durrenberger L. P. Lisu: Political Form, Ideology, and Economic Action// Highlanders of Thailand / Ed. by J. McKinnon, W. Bhruksasri. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1983. P. 215–226, цитата со стр. 218.
[584] Следует вспомнить о горных народах, которые либо распространяют, либо старательно поддерживают сложившиеся слухи о своей охоте за головами и каннибализме, чтобы таким образом держать в страхе и на расстоянии незваных гостей с равнин.
[585] Walker А. Л. Merit and the Millennium: Routine and Crisis in the Ritual Lives of the Lahu People. Delhi: Hindustani Publishing, 2003. // P. 106; Shanshan Du. Chopsticks Only Work in Pairs: Gender Unity and Gender Equality among the Lahu of Southwestern China. New York: Columbia University Press, 2002.
[586] Geusau von L. A. Akha Internal History: Marginalization and the Ethnic Alliance System // Civility and Savagery: Social Identity in Tai States / Ed. by A. Turton. Richmond, England: Curzon, 2000. P. 122–158, цитата со стр. 140. В то же время акха, проживающие на средних высотах, старательно утверждают свое культурное превосходство над такими группами, как ва, палаунги и кхму.
[587] Leach L. Op. cit. P. 255. Юджин Тайк утверждает, что шаны тоже могли свободно перемещаться (Thaike L. [Chao Tzang Yawnghwe] The Shan of Burma: Memoirs of a Shan Exile, Local History and Memoirs Series. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1984. P. 82). И они, безусловно, могли и часто так и поступали, сбегая отсобвы, которого считали угнетателем. Лич просто подчеркивает, что подсечноогневому земледельцу сбежать было куда проще.
[588] Renard R. D. Kariang: History of Karen-Tai Relations from the Beginning to 1933. Ph.D. diss. University of Hawai’i, 1979. P. 78. Другой пример XVII века, свидетельствующий, что карены стремились отделить отношения данничества от местной автономии, зафиксирован Чарльзом Кисом. Хотя официально деревни каренов были приписаны к королевству Чиангмай, «чиновникам никогда не дозволялось входить в деревню — только разделить ритуальную трапезу со старейшинами деревни где-нибудь за ее пределами» (Ethnic Adaptation and Identity: The Karen on the Thai Frontier with Burma/ Ed. by C. F. Keyes. Philadelphia: ISHI, 1979. P. 49).
[589] Bryant R. L. The Political Ecology of Forestry in Burma, 1824–1994. Honolulu: University of Hawai i Press, 1996. P. 112–117.
[590] Walker A. R. North Thailand as a Geo-ethnic Mosaic: An Introductory Essay//The Highland Heritage: Collected Essays on Upland Northern Thailand / Ed. by A. R. Walker. Singapore: Suvarnabhumi, 1992. P. 1–93, цитата со стр. 50.
[591] Ethnic Adaptation and Identity… P. 143.
[592] Walker A. R. Merit and the Millennium… Примерно то же самое можно сказать о «вечно свободных» хмонгах. См.: Geddes W. R. Migrants of the Mountains: The Cultural Ecology of the Blue Miao [Hmong Njua] of Thailand. Oxford: Clarendon, 1976. P. 230.
[593] Walker A. R. Merit and the Millennium… P. 44. В полном соответствии со своей культурной и пространственной подвижностью, лаху ньи крайне небрежно относились к родословным и «не могли даже вспомнить имена своих дедов». Это, конечно, позволяло им сравнительно легко устанавливать или разрывать родственные связи. См.: Walker A. R. North Thailand as a Geo-ethnic Mosaic… P. 58. Подобные неглубокие родословные и небольшие, с подвижными границами домохозяйства получили название «нововременных» и характерны для многих (но не для всех) маргинальных и стигматизированных групп. См.: Bateman R. B. African and Indian: A Comparative Study of Black Carib and Black Seminole// Ethnohistory. 1990. № 37. P. 1–24.
[594] Geusau L. A. von. Akha Internal History: Marginalization and the Ethnic Alliance System // Civility and Savagery: Social Identity in Tai States / Ed. by A. Turton. Richmond, England: Curzon, 2000. P. 122–158, цитата со стр. 131. Николас Тапп использует понятие «бесписьменные» по отношению к народам, которые не имеют своей системы письменности, но знают о существовании таковой и текстов. Несомненно, под это описание подходят все горные народы ЮгоВосточной Азии в обозримой исторической перспективе (Тарр N. Sovereignty and Rebellion: The White Hmong of Northern Thailand. Singapore: Singapore University Press, 1990. P. 124).
[595] Geusau L. A. von. Op. cit. P. 131. Цитируется: Lewis P. Ethnographic Notes on the Akha of Burma. New Haven: HRA Flexbooks, 1969–1970. Vol. I. P. 35.
[596] Walker A. R. Merit and the Millennium: Routine and Crisis in the Ritual Lives of the Lahu People. Delhi: Hindustan Publishing, 2003. // P. 568. Уолкер полагает, что относительный успех миссионеров среди лаху связан с обещанием первых вернуть то, что лаху считали прискорбной утратой письменности и текстов.
[597] Fiskesjo М. The Fate of Sacrifice and the Making of Wa History. Ph.D. thesis. University of Chicago, 2000. P. 105–106.
[598] Rastdorfer J.-M. On the Development of Kayah and Kayan National Identity: A Study and a Bibliography. Bangkok: Southeast Asian Publishing, 1994.
[599] Fiskesjo M. Op. cit. P. 129.
[600] Изабель Фонсека в своей работе, посвященной цыганам (рома/синти), воспроизводит болгарскую историю о том, как они утратили унаследованную грамотность и христианство, записав постулаты богом данной им религии на листьях капусты, которые съел осел. Румынская версия утверждает, что цыгане построили каменную церковь, а румыны — церковь из бекона и ветчины. Цыгане сторговались с румынами и обменялись с ними церквями, а затем съели их церковь. Помимо предлагаемых здесь богатых интерпретационных возможностей (вплоть до полных трансформаций!), эта история представляет собой уловку, демонстрируя одновременно множество характеристик цыган — жадность, недальновидность, неграмотность, отсутствие веры в бога, торгашество и мастерство! (Fonseca I. Bury Me Standing: // The Gypsies and Their Journey. New York: Knopf, 1995. P. 88–89).
[601] Evrard O. Interethnic Systems and Localized Identities: The Khmu subgroups (Tmoy) in Northwest Laos // Social Dynamics in the Highlands of Southeast Asia: Reconsidering the Political Systems of Highland Burma by E. R. Leach / Ed. by F. Robinne, M. Sadan. Leiden: Brill, 2007 (= Handbook of Oriental Studies. Section 3 «Southeast Asia»). P. 127–160, цитата со стр. 151.
[602] Scott J. G. [Shway Yoe] The Burman: His Life and Notions. New York: Norton, 1963 (1-е изд.: 1882). P. 443–444.
[603] Tapp N. Op. cit. P. 124–172. Тапп ссылается на несколько других горных легенд об утрате письменности.
[604] Если бы некоторые тайские народы в долине Янцзы когда-то очень давно были грамотны и занимались государственным строительством, то их письменность была бы иной, чем в основном используемая сегодня — производная от санскрита, связанного с буддизмом Тхеравады.
[605] Даже в этом случае отсутствие письменных записей того периода не является решающим доказательством того, что письменность полностью исчезла, хотя очевидно, что практически все цели, для которых она ранее была необходима, утратили свое значение.
[606] Heather P. The Fall of the Roman Empire: // A New History of Rome and the Barbarians. Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 441.
[607] Тем не менее довольно часто бесписьменные народы хранят документы, которые якобы гарантируют им права на землю и свободы: например, известный императорский указ, дарующий мьенам право свободно перемещаться в горах и заниматься подсечно-огневым земледелием; копии царских указов у русских крестьян, убежденных, что таковые освобождают их от крепостной зависимости; испанские титулы на землю, которые первые сапатисты привезли в Мехико, чтобы отстаивать свои претензии к гасиендам.
[608] Так, яо/мьен обладают священным письменным соглашением с китайским императором и усеченным вариантом китайского письма, необходимого для занятий геомантией, заимствованной у китайцев. Суй, меньшинство, проживающее в китайской провинции Гуйчжоу, имеют пиктографическое письмо, которое используется для гаданий и ритуалов геомантии (Michaud J. Historical Dictionary of the Peoples of the Southeast Asian Massif. Lanham, Md.: Scarecrow, 2006. P. 224).
[609] В начале XVII века португальцы столкнулись с одинаково высоким уровнем грамотности среди мужчин и женщин на юге Филиппин, Суматре и Сулавеси. Удивителен не только сам факт, что здешние народы были намного грамотнее португальцев в то время, но и то, что их грамотность никак не была связана с судами, текстами, налогообложением, торговым учетом, формальным школьным обучением, юридическими спорами или письменной историей. Фактически письменность служила исключительно целям устной традиции. Скажем, люди могли записать заклинание или любовное стихотворение (что по сути одно и то же!) на пальмовом листе, чтобы запомнить и продекламировать или же представить записанное любимому человеку как часть брачного ритуала. Это завораживающий пример письменности, которая абсолютно отделена от технологий государственного строительства, с которыми обычно ассоциируется. См.: Reid A. Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680. New Haven: Yale University Press, 1988. Vol. I. The Lands Below the Winds. P. 215–229.
[610] Рой Харрис убедительно показывает, что письменность — это не просто «записанная» речь, а нечто совершенно иное. // См. его аргументацию в книгах: Harris R. The Origin of Writing. London: Duckworth, 1986; Idem. Rethinking Writing. London: Athlone, 2000. Я благодарен Джеффри Беньямину, который привлек мое внимание к этим работам.
[611] Даже покрытые символами пиктские камни на севере Англии, до сих пор не расшифрованные, обладают этой характеристикой. Они явно создавались для обозначения постоянной территориальной власти. // В чем именно они убеждали своих современников, неясно, но чтобы оспорить значение символов, изображенных на камне, нужно было бы сотворить противоположный им по смыслу «текст» — другой пиктский камень с совершенно иным «содержанием».
[612] Collins J., Blot R. Literacy and Literacies: Text, Power, and Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 50 и последующие. Самой яркой из недавних попыток физически уничтожить историческую память стал подрыв силами Талибана в Бамиане (Афганистан) статуй Будды, возраст которых превышает две тысячи лет.
[613] Стремление стереть с лица земли все неудобные упоминания о человеке — в виде надписей или памятников — суть римской традиции damnatio memoriae (проклятия памяти), согласно которой по решению Сената уничтожались все записи и скульптурные изображения гражданина или трибуна, запятнавшего себя предательством или опозорившего Республику. Конечно, решение о damnatio memoriae было официальным, письменно фиксировалось и должным образом регистрировалось. Египтяне уничтожали картуши, изображавшие фараонов, если хотели стереть их имена из истории. Это напоминает советскую практику удаления с фотографий тех соратников Сталина, кто в результате конфликтов с ним пал жертвой репрессий в 1930-е годы.
[614] Формы, в которых в таком случае ведется учет, см.: Trager F. N., Koenig W. J., with the assistance of Yi Yi. Burmese Sit-tans, 1764–1826: Records of Rural Life and Administration. Tucson: University of Arizona Press, 1979 (= Association of Asian Studies monograph № 36).
[615] Larsen M. T. Introduction «Literacy and Social Complexity» // State and Society: The Emergence and Development of Social Hierarchy and Political Centralization / Ed. by J. Gledhill, B. Bender, M. T. Larsen. London: Routledge, 1988. P. 180. Оставшиеся 15 %, видимо, представляют собой перечни упорядоченных по некоторому принципу знаков, выступающие в качестве вспомогательного средства обучения грамоте.
[616] Levi-Strauss С. Tristes Tropiques / Trans, by J. Weightman, D. Weightman. New York: Atheneum, 1968. P. 291. Взаимосвязь письменности и становления государственности, на мой взгляд, следует воспринимать не столько как причинно-следственную, сколько как избирательное сродство. Как и в случае с поливным рисоводством, можно обнаружить как системы письменности без государств, так и, но намного реже, государства без систем письменности, хотя в целом они обычно идут рука об руку. // Я благодарен Тонгчаю Виничакулу, убедившему меня в этом.
[617] Von Geusau L. A. Op. cit. P. 133.
[618] Классическую иллюстрацию см. в книге: Hill С. The World Turned Upside Down: Radical Ideas during the English Revolution. Harmondsworth: Penguin, 1975. Более современный и страшный пример: красные кхмеры заключали в тюрьму и казнили как классовых врагов тех, кто умел читать и писать по-французски. Любопытный исторический пример — подозрительное отношение, а иногда и преследование образованных, грамотных ханьцев двумя основными неханьскими династиями Китая: монгольской / Юань и маньчжурской/Цин. См.: Buckley Ebery P. The Cambridge Illustrated History. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. Ch. 9.
[619] Sadan M. J. History and Ethnicity in Burma: Cultural Contexts of the Ethnic Category «Kachin» in the Colonial and Postcolonial State, 1824–2004. [Bangkok], 2005. P. 38. Цитируется: Richards T. Archive and Utopia // Representations. 1992. № 37. Special issue: Imperial Fantasies and Post Colonial Histories. P. 104–135, цитаты со стр. 108, 111.
[620] Явное исключение, когда рассказыванием историй, легенд и родословных занималась лишь небольшая, специализированная группа, будет рассмотрено ниже.
[621] Havelock Е. Л. The Muse Learns to Write: Reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the Present. New Haven: Yale University Press, 1986. P. 54. Хэвлок добавляет: «Публика контролирует исполнителя, поскольку он вынужден выступать таким образом, чтобы они [люди из публики] могли не только запомнить то, что услышали, но и отобразить это в своей повседневной речи… Язык греческого классического театра не только развлекал публику, но и поддерживал существование греческого общества… Этот язык — красноречивое свидетельство тех функциональных задач, для решения которых он был предназначен, средство обеспечения социальной коммуникации — не непринужденно-повседневной, а значимой в историческом, этническом и политическом смыслах» (стр. 93).
[622] Вот почему Сократ был убежден, что записывание его учения фактически уничтожает его смыслы и ценность, тогда как именно нестабильность, спонтанность и речевая импровизация вызывали у Платона серьезные подозрения по отношению к драме и поэзии.
[623] Vansina J. Oral History as Tradition. London: James Currey, 1985. P. 51–52. Классический источник сербского эпоса, из которого мы в основном черпаем наши знания о театрализованных представлениях в этом жанре, включая наши предположения о классическом греческом эпосе: Lord A. The Singer of Tales. New York: Atheneum, 1960.
[624] Andaya B. W. To Live as Brothers: Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1993. P. 8.
[625] Ричард Янко отмечает, что «неграмотные боснийские барды» в 1950-е годы все еще воспевали деяния Сулеймана Великолепного 1550-х годов, а барды на острове Кеос помнили о крупном извержении вулкана на близлежащем острове Санторин (которое их не затронуло) в 1627 году до н. э. (Janko R. Born of Rhubarb. Review of // M. L. West «Indo-European Poetry and Myth». Oxford: Oxford University Press, 2008 // Times Literary Supplement. 2008. February 22. P. 10.
[626] Geusau L. A. von. Op. cit. P. 132.
[627] Конечно, история декламировалась на языке пао (каренни), была переведена на бирманский, а затем на английский. Сложно понять, насколько история сегодня отличается от варианта 1948 года, но в принципе можно сравнить разные сохранившиеся версии, до сих пор исполняемые в горных районах, населенных пао, чтобы оценить региональные различия.
[628] Leach L. The Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure. Cambridge: Harvard University Press, 1954. P. 265–266.
[629] Renard R. D. Kariang: History of Karen-Tai Relations from the Beginnings to 1923. Ph.D. diss. University of Hawai’i, 1979.
[630] Знакомые с малайским миром могут отметить схожие вариации в разнообразных версиях классических историй о малайских братьях Ханг Туа и Ханг Джебате, имеющие резко противоположное политическое значение в том, что касается позиционирования по отношению к современному малайскому государству.
[631] У подсечно-огневых земледельцев был столь же богатый набор придерживающихся той же сельскохозяйственной технологии соседей, с которыми они сталкивались на протяжении своей долгой истории. Это своеобразный вид теневого сообщества, которое в случае необходимости или полезности может быть задействовано в новых выгодных торговых или политических союзах.
[632] Vansina J. Op. cit. P. 58. Игорь Копытофф отмечает, что в африканских «сообществах, не ведущих письменных записей, множество различных групп может претендовать на кровную принадлежность к царскому роду… Как говорят африканцы, „иногда рабы становились хозяевами, а хозяева— рабами“» (Kopytoff I. The African Frontier: The Reproduction of Traditional African Societies. Bloomington: Indiana University Press, 1987. P. 47).
[633] Cummings W. Making Blood White: Historical Transformations in Early Modern Makassar. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2002.
[634] Nieke M. R. Literacy and Power: The Introduction and Use of Writing in Early Historic Scotland//State and Society… P. 237–252, цитата со стр. 245.
[635] Jonsson H. Shifting Social Landscape: Mien (Yao) Upland Communities and Histories in State-Client Settings. Ph.D. diss. Cornell University, 1996. P. 136. P. Росалдо говорит примерно то же самое о кратких устных историях илонготов (Rosaldo R. Ilongot Headhunting, 1883–1974: A Study in Society and History. Stanford: Stanford University Press, 1980. P. 20).
[636] Vansina J. Op. cit. P. 115. Что в целом выглядит весьма спорно в этом случае, так это то, что рассеянный, маргинальный, децентрализованный, эгалитарный народ мог создать по этому поводу историю, по сути представлявшую собой тщательно сконструированный плач о поражении, преследованиях, предательстве и миграциях, аналогами которого обладают многие горные народы. Некоторые современные национальные нарративы, например Ирландии, Польши, Израиля и Армении, фактически подобными плачами и являются.
[637] См. работу Р. Косселека, утверждающего, что историческое сознание — уникальный продукт эпохи Просвещения (Kosseleck R. The Practice of Conceptual History: Timing, History, Spacing Concepts. Stanford: Stanford University Press, 2002).
[638] Gazetteer of Upper Burma and the Shan States / Compiled from official papers by J. G. Scott, assisted by J. P. Hardiman. Rangoon: Government Printing Office, 1893. Vol. I. Part 1. P. 387.
[639] Leach L. The Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure. Cambridge: Harvard University Press, 1954. P. 48.
[640] Census of India, 1931. Rangoon: Government Printing and Stationery, 1933. Vol. II. Burma. Part I. Report. P. 173, 196.
[641] Leach L. Op. cit. P. 46.
[642] Census of India, 1931. Vol. II. Part I. P. 174; Green J. H. A Note on Indigenous Races in Burma. Appendix С // Ibid. P. 245–247, цитата со стр. 245. Грин полагает, что параметры тела и культурные особенности позволят создать модель «этапов культурной эволюции».
[643] Leach L. Op. cit. P. 49. См. также: Sopher D. E. The Sea Nomads: A Study Based on the Literature of the Maritime Boat People of Southeast Asia. Singapore: Lim Bian Han, 1965 (= Memoirs of the National Museum № 5). P. 176–183 (приводится схожая аргументация).
[644] Для написания этого параграфа я обращался к работам: Diamond N. Defining the Miao: Ming, Qing, and Contemporary Views // Cultural Encounters on China’s Ethnic Frontier/ Ed. by S. Harrell. Seattle: University of Washington Press, 1995. P. 92–116; Tapp N. The Hmong of China: Context, Agency, and the Imaginary. Leiden: Brill, 2003; Turbulent Times and Enduring Peoples: Mountain Minorities in the Southeast Asian Massif / Ed. by J. Michaud. Richmond, England: Curzon, 2000. Один из эпизодов обмена населением в горах — деревня яо, где большинство взрослых мужчин составляли выходцы из других этнических групп — приводится в работе: Тарр N. Sovereignty and Rebellion: The White Hmong of Northern Thailand. Singapore: Oxford University Press, 1990. P. 169.
[645] Smith M. Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity. London: Zed, 1991. P. 143. Смит также указывает на выращивающую рис, говорящую только на одном, бирманском, языке и идентифицирующую себя как каренов группу, которая сражалась на стороне Каренского национального союза (КНС) и, видимо, была готова умереть во имя своей национальной борьбы (Ibid. P. 35).
[646] Ethnic Adaptation and Identity: The Karen on the Thai Frontier with Burma / Ed. by C. F. Keyes. Philadelphia: ISHI, 1979. P. 6, 4.
[647] Robinne F. Transethnic Social Space of Clans and Lineages: A Discussion of Leach’s Concept of Common Ritual Language // Social Dynamics in the Highlands of Southeast Asia: Reconsidering the Political Systems of Highland Burma by E. R. Leach / Ed. by F. Robinne and M. Sadan. Amsterdam: Brill, 2008. // P. 283–297. В связи с этим возникает вопрос о пределах поглощения. До тех пор пока поглощаемые составляют лишь небольшую долю «принимающего» общества, видимо, речь идет о достаточно гладком процессе взаимной адаптации. В случае массового и резкого наплыва мигрантов в разгар войны или в голодные годы вполне можно ожидать, что принимающее сообщество будет стремиться сохранить и подчеркнуть свою самобытность. Так, вероятно, и случилось с племенем инта, проживавшим на озере Инле в Шанских штатах: оно, согласно легенде, образовалось из военных дезертиров, массово сбегавших сюда с юга.
[648] Baruah S. Confronting Constructionism: Ending India’s Naga War// Journal of Peace Research. 2009. № 40. P. 321–338, цитата со стр. 324. Цит. no: Jacobs J. eta/. The Nagas: The Hill People of Northeast India: Society, Culture, and the Colonial Encounter. London: Thames and Hudson, 2003. P. 23.
[649] Tribal Communities in the Malay World: Historical, Cultural, and Social Perspectives/ Ed. by G. Benjamin and C. Chou. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002. P. 21.
[650] Leach E. Op. cit. P. 244. Дж. Дж. Скотт, договариваясь о границах с китайскими чиновниками в начале века, пытался распутать ситуацию с племенами: «Выехал с генералом Лю, чтобы обозначить границу на равнине. Невозможно провести водораздел между сельскохозяйственными землями качинов и шанов. Поля разных племен перемешаны, как кубики с буквами в детской головоломке» (Mitton G. E. [Lady Scott] Scott of the Shan Hills: Orders and Impressions. London: John Murray, 1936. P. 262).
[651] Moerman M. Ethnic Identity in a Complex Civilization: Who Are the Lue // American Anthropologist. 1965. № 67. P. 1215–1230, цитаты со стр. 1219, 1223.
[652] Jonsson H. Shifting Social Landscape: Mien (Yao) Upland Communities and Histories in State-Client Settings. Ph.D. diss. Cornell University, 1996. P. 44; позже работа была опубликована под названием «Mien Relations: Mountain People and State Control in Thailand» (Ithaca: Cornell University Press, 2005).
[653] Hobsbawm E. J. Nations and Nationalism since 1780 / 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 64 [Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, 1998. С. 103].
[654] Следует отличать тайские муанги, или города-государства с обязательным центром рисоводства, от множества так называемых горных или «племенных» тайских образований, которые также могли исповедовать буддизм, но были горными народами, живущими преимущественно без каких бы то ни было государственных структур.
[655] Leach Е. Op. cit. P. 32.
[656] Condominas G. From Lawato Mon, from Saa’to Thai: Historical and Anthropological Aspects of Southeast Asian Social Spaces / Trans, by S. Anderson et al. An Occasional Paper of Anthropology in Association with the Thai-Yunnan Project. Research School of Pacific Studies. Canberra: Australian National University, 1990. P. 41.
[657] Замечательное исследование и анализ представлены в книге: Slavery, Bondage, and Dependency in Southeast Asia / Ed. by A. Reid. New York: St. Martin’s, 1983.
[658] Leach E. Op. cit. P. 221–222.
[659] Condominas G. Op. cit. P. 69–72.
[660] Gazetteer of Upper Burma… Vol. I. Part 1. P. 478. Многие подобные браки фактически представляли собой союзы, призванные защитить правителя от других претендентов на власть.
[661] Leach Е. Op. cit. Ch. 7. P. 213–226. См. также аналогичный обзор превращения лису в шанов в работе: Durrenberger Е. Р. Lisu Ritual, Economics, and Ideology//Ritual, Power, and Economy: Upland-Lowland Contrasts in Mainland Southeast Asia / Ed. by S.D Russell. Northern Illinois University. 1989 (= Monograph Series on Southeast Asia. Occasional paper № 14). P. 63–120; более формальный анализ в русле политической экономии представлен в статье: Friedman J. Tribes, States, and Transformations // Marxist Analyses and Social Anthropology / Ed. by M. Bloch. New York: Wiley, 1975. P. 161–200.
[662] См., например: Marlowe D. In the Mosaic: The Cognitive and Structural Aspects of Karen-Other Relationships // Ethnic Adaptation and Identity… P. 165–214; Kunstadter P. Ethnic Groups, Categories, and Identities: Karen in Northern Thailand // Ibid. P. 119–163.
[663] Kunstadter P. Op. cit. P. 162.
[664] Palmer Haup K. Creating the Zhuang: Ethnic Politics in China. Boulder: Lynne Rienner, 2000. P. 45.
[665] Leach E. Op. cit. P. 39.
[666] Jonsson H. Shifting Social Landscape… P. 218.
[667] Gazetteer of Upper Burma… Vol. I. Part 1. P. 274.
[668] См. все эти аспекты в работе: OVonnor R. A. Agricultural Change and Ethnic Succession in Southeast Asian States: A Case for Regional Anthropology // Journal of Asian Studies. 1995. № 54. P. 968–996.
[669] См.: Lieberman V. B. Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, с 800–1830. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Vol. I. Integration on the Mainland; Idem. Reinterpreting Burmese History// Comparative Studies in Society and History. 1987. № 29. P. 94; Idem. Local Integration and Eurasian Analogies: Structuring Southeast Asian History, с 1350–1830 // Modern Asian Studies. 1993. № 27. P. 475–572.
[670] Wolters O. W. History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives/ Rev. ed. Ithaca: Cornell University Press; Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1999. P. 52. Уолтерс специально исключил Вьетнам из своих обобщений.
[671] Evans G. Tai-ization: Ethnic Change in Northern Indochina//Civility and Savagery: Social Identity in Tai States/ Ed. by A. Turton. Richmond, England: Curzon, 2000. P. 263–289.
[672] Jonsson H. Mien Relations… P. 158–159. См. также: Idem. Yao Minority Identity and the Location of Difference in South China Borderlands // Ethnos. 2000. № 65. P. 56–82.
[673] Renard R. D. Kariang: History of Karen-Tai Relations from the Beginning to 1933. Ph.D. diss. University of Hawaii, 1979. P. 18. Ренард рассматривает этот процесс на примере каренов и тайцев в провинции Ратбури в Таиланде.
[674] В этом случае остается без внимания вопрос, насколько подобные презентации принимаются властями. Многие немцы еврейского происхождения к 1930-м годам полностью ассимилировались в светской германской культуре и считали себя немцами, но к своему ужасу обнаружили, что в стране возобладали идеи нацистской «расовой науки».
[675] Lehman F. K. [Chit Hlaing] Ethnic Categories in Burma and the Theory of Social Systems // Southeast Asian Tribes, Minorities, and Nations / Ed. by P. Kunstadter. Princeton: Princeton University Press, 1967. P. 75–92. Цит. no: Tapp N. Sovereignty and Rebellion… // P. 172.
[676] Leach F. Op. cit. P. 287.
[677] Убедительные описания адаптивных способностей плюральных идентичностей в малайском мире см., например, в работе: Lowenhaupt Tsing A. In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the Way Place. Princeton: Princeton University Press, 1993; Drakard J. A Malay Frontier: Unity and Duality in a Sumatran Kingdom // Studies on Southeast Asia. Ithaca: Cornell University Press, 1990; King V. T. Question of Identity: Names, Societies, and Ethnic Groups in Interior Kalimantan and Brunei Darussalam // Sojourn. 2001. № 16. P. 1–36.
[678] Наиболее убедительная критика понятия «племя» в заданном контексте представлена в небольшой классической работе: Fried М. Н. The Notion of Tribe. Menlo Park: Cummings, 1975.
[679] Burns T. S. Rome and the Barbarians, 100BC-AD400. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003. P. 103.
[680] Diamond N. Op. cit. R 100–102.
[681] Salemink O. The Ethnography of Vietnam’s Central Highlanders: A Historical Contextualization, 1850–1990. London: Routledge-Curzon, 2003. P. 21–29.
[682] Transforming the Indonesian Uplands: Marginality, Power, and Production/ Ed. by T. Murray Li. Singapore: Harwood, 1999. P. 10.
[683] Результаты исследований этого процесса на Ближнем Востоке см. в книге: Tapper R. Frontier History of Iran: The Political and Social History of Shahsevan. Cambridge: Cambridge University Press, 1998; Regan F. Frontiers of the State in the Late Ottoman Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
[684] Цит. no: Fried M. H. Op. cit. P. 59.
[685] Данная точка зрения тщательно обоснована в работах: Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Cultural Difference / Ed. by F. Barth. Long Grove, III, 1969 (Waveland, 1998). P. 9–38; Leach F. Op. cit.; Lehman F. K. [Chit Hlaing] Burma: Kayah ociety as a Function of the Shan-Burma-Karen Context // Contemporary Change in Traditional Society / Ed. by J. Steward. Urbana: University of Illinois Press, 1967. Vol. I. P. 1–104; Keyes C. F. Ethnic Adaptation… хотя Кис подчеркивает, что, будучи созданы, подобные группы формируют особую культуру, структурно противопоставляя себя другим группам (Ibid. P. 4).
[686] Menning В. W. The Emergence of a Military Administrative Elite in the Don Cossack Land, 1708–1836 // Russian Officialdom: The Bureaucratization of Russian Society from the Seventeenth to the Twentieth Century / Ed. by W. McKenzie Pinter, D. K. Rowney. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980. P. 130–161, цитата со стр. 133.
[687] См. прекрасную повесть Льва Толстого «Казаки»: Tolstoy L. The Cossacks // Idem. The Cossacks and Other Stories. Harmondsworth: Penguin, 1960. P. 163–334. Толстой, в частности, пишет о терских казаках, называемых гребенскими, которые селились среди чеченцев.
[688] Казаки также служили в войсках Османской империи, см.: Levy A. The Contribution of the Zaporozhian Cossacks to Ottoman Military Reform: Documents and Notes // Harvard Ukrainian Studies. 1982. № 6. // P. 372–413.
[689] См. введение Ричарда Прайса к четвертой главе книги: Price R. Maroon Societies: Rebel Slave Communities in the Americas / 2nd ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1979. P. 292–297.
[690] Barth F. Ecological Relationships of Ethnic Groups in Swat, North Pakistan // American // Anthropologist. 1956. № 58. P. 1079–1089; Hannan M. T. The Ethnic Boundaries in Modern States // National Development and the World System: Educational, Economical, and Political Change, 1950–1970/ Ed. by J. W. Meyer, M. T. Hannan. Chicago: University of Chicago Press, 1979. P. 253–275, цитата со стр. 260.
[691] Richthofen F. von. Letters [to the Shanghai General Chamber of Commerce] / 2nd ed. Shanghai, 1903 (репринт: Peking, 1914). // P. 119–120. Цит. no: Lattimore O. The Frontier in History// Studies in Frontier History: Collected Papers, 1928–1958. Oxford: Oxford University Press, 1962. P. 469–491, цитата со стр. 473, п. 2.
[692] Lattimore О. Op. cit. P. 473, п. 2.
[693] Разграничение народов «кая» и «каренни» (красных каренов) — артефакт политического процесса смены названий племен, весьма напоминающего ситуацию с разными названиями одной и той же страны — Мьянма и Бирма. Поскольку прежнее обозначение «каренни» стало ассоциироваться с восстанием против власти в Рангуне, то название «кая», на самом деле обозначающее преобладающую подгруппу каренни, стало использоваться вместо него, поскольку не несло в себе подобных негативных коннотаций. Таким образом, сегодня официальное название штата— Кая, хотя более корректно было бы называть его Каренни. Я предпочитаю условное обозначение «каренни», аФ.К. Лиман (Чит Хлаинг), на чьи прекрасные работы я полагаюсь, использует словосочетание «кая в „Бирме“».
[694] Lattimore О. Op. cit. P. 35.
[695] Chit Hlaing F. K. L. [Lehman F. K.] Some Remarks on Ethnicity Theory and Southeast Asia, with Special Reference to the Kayah and Kachin // Exploring Ethnic Diversity in Burma / Ed. by M. Gravers. Copenhagen: NIAS Press, 2007. P. 112.
[696] Описание процессов этнизации, связанной прежде всего с контролем торговых возможностей и земли, см. в работе: Beck L. Tribes and the State in 19th- and 20th-century Iran // Tribes and State Formation in the Middle East / Ed. by P. Khoury, J. Kostiner. Berkeley: University of California Press, 1990. P. 185–222; промышляющие пиратством таусуги на архипелаге Сулу представлены в работе: Warren J. F. The Sulu Zone, 1768–1898: The Dynamics of External Trade, Slavery, and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State. Singapore: Singapore University Press, 1981; Frake C. O. The Genesis of Kinds of People in the Sulu Archipelago // Language and Cultural Description: Essays by Charles O. Frake. Stanford: Stanford University Press, 1980. P. 311–332. Проницательный анализ изобретения автохтонности в конце XX века см. в работе: Jung С. The Moral Force of Indigenous Politics: Critical Liberalism and the Zapatistas. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
[697] Один из самых поразительных примеров этого процесса — бушмены Калахари, также известные как сан-хои, которые часто описывались как периферийные, дикие народы — сохранившиеся с зари человеческой истории пережитки каменного века. Хотя исторические факты все еще неоднозначны, сегодня очевидно, что подобное восприятие бушменов в корне ошибочно. Эдвин Уилмсен реконструирует историю бушменов Калахари как изначально обездоленного класса, объединяющего людей самого разного происхождения, который со временем был низведен до почти рабского труда и собирательства в группах в засушливых южноафриканских степях. Состоя из скотоводов, многие из которых принадлежали к народу тсвана, распавшемуся вследствие набегов похитителей крупного рогатого скота, эпидемий скота и войн, а также из беглых рабов и военных дезертиров (в свою очередь, многие из них были европейцами), бушмены пополняли ряды небольшого говорящего на языке сан сообщества собирателей, которые когдато давно процветали благодаря торговле слоновой костью, перьями страусов и шкурами. См. классический труд Уилмсена: Wilmsen F. Land Filled with Flies: A Political Economy of the Kalahari. Chicago: University of Chicago Press, 1989. Некоторые противоречия данной концепции обозначены в рецензии Жаклин Солуэй на эту книгу, вышедшей в восемнадцатом номере журнала «Американский этнолог» в 1991 году (816–817). Важность агроэкологической ниши в определении этнической принадлежности очевидна. Не говорящие на языке сан, но имеющие домашний скот и занимающиеся собирательством (или работающие слугами) считаются сан-бушменами. Наоборот, говорящие на языке сан, владеющие домашним скотом и достаточно обеспеченные воспринимаются как представители народа тсвана. Поскольку две группы, используя выражение Уилмсена, являются «взаимопроникающими», для билингв, говорящих на языке сан, вполне привычно «сходить» за тсвана. Таким образом, сан-бушмены, по сути стигматизированный класс или даже каста, оказались низведены до наименее востребованной хозяйственной ниши — собирательства, и идентификация сан-бушмена стала синонимом этой ниши. Условно говоря, краеугольным камнем этнической идентификации тсвана выступает стигматизация сан-бушменов. Конечным результатом применения понятий однородности и приемов стигматизации по отношению к разнородному населению стало «превращение» его в «исконный, коренной народ» (Wilmsen Е. Op. cit. P. 85, 108, 133).
[698] Wilmsen Е. Op. cit. P. 275, 324, последняя цитата приводится по книге: Iliffe J. A Modern History of Tanganyika. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
[699] Я благодарен Шаншан Ду за подробнейшее изложение истории развития системы туей, которая породила институт наследственных вождей с территориально четко обозначенными княжествами практически на всех юго-западных территориях Китая, особенно в бедных, недоступных районах на больших высотах. Данная система была почти полностью вытеснена прямым управлением (gai tuigui liu заменила туей мобильными чиновниками) с регистрацией домохозяйств и налогообложением в середине XVIII века под властью династии Мин (из личного общения в августе 2008 года).
[700] Gluckman М. Order and Rebellion in Tribal Africa. London: Cohen and West, 1963.
[701] Anderson B. R. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism / 2nd ed. London: Verso, 1991. // P. 167–169.
[702] Benjamin G. The Malay World as a Regional Array Работа, представленная на международном семинаре «Looking Back, Striding Forward» (International Workshop on Scholarship in Malay Studies). Лейден, 26–28 августа 2004 года; Tribal Communities in the Malay World… См. также: Salemink О. // Op. cit. P. 284 (о запрете зярай использовать плуг).
[703] Скажем, если бы вам нужно было ввести набор табу, чтобы предотвратить смешение группы с другими, в том числе в ходе ритуальных коллективных трапез, вряд ли вы смогли бы придумать что-то лучшее, чем традиционные идеи высших каст о неприкасаемых в Индии или же строжайшие законы ортодоксальных иудеев о кошерной пище.
[704] Эпиграф к этому параграфу взят из книги: Fried М. Op. cit. P. 77.
[705] Keyes C. F. A People Between: The Pwo Karen of Western Thailand // Ethnic Adaptation and Identity… P. 63–80; Renard R. D. Op. cit. В заданном контексте важно вспомнить, что на протяжении длительного времени, а особенно отчетливо в последние полстолетия, для каренов не было редкостью превращение в монов, бирманцев, тайцев, шанов и т. д.
[706] Geusau L. A. von. Akha Internal History: Marginalization and the Ethnic Alliance System // Civility and Savagery… P. 122–158, особенно 133–134, 147–150. По-моему, фон Гойзау сам женился на женщине из племени акха и был инкорпорирован в него ровно тем самым образом, что описал. См. также оценку Полом Дюрренбергером конкуренции домохозяйств яо/мьен: они стремились заполучить чужаков в целях достижения экономического и социального успеха (Durrenberger Е. Р. The Economy of Sufficiency // Highlanders of Thailand / Ed. by // J. McKinnon, W Bhruksasri. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1983. P. 87–100, особенно 92–93).
[707] Leach E. Op. cit. P. 127–130. Социальные транзакции (позволим себе использовать данное словосочетание) перераспределяют продовольствие и товары, обеспечивая материальное равенство членов сообщества, но в то же время усугубляют статусные различия. Официально младший сын был основным наследником своего отца (имел исключительные права наследования), но все другие сыновья могли стать вождями, основав новое сообщество, перекупив ритуальные права у младшего брата или отвоевав их (только в том случае, если были способны силой отстоять свои претензии на власть) (Ibid. P. 157).
[708] Ibid. P. 164, 166, 167. См. также: Robinne F. Op. cit.
[709] Логика пиршеств и постоянных переходов между демократическим (гумлао) и автократическим (гумса) форматами социальной жизни среди горных народов блестяще схвачена и описана в работе: Kirsch А. Т. Feasting and Social Oscillation. Ithaca: Southeast Asia Program, 1973 (= A Working Paper on Religion and Society in Upland Southeast Asia. Data paper № 92).
[710] Lehman F. K. [Chit HIaing] Op. cit. Vol. I. // P. 17. Лиман отмечает, что в Китае и Индии, откуда, собственно, и были заимствованы идеологические модели равнинных государств, «существовал общепринятый сценарий захвата власти, в соответствии с которым узурпатор и его потомки со временем должны были институционализировать реальную или мнимую генеалогию, связывающую их либо с неким предком из королевского рода, либо с божеством» (Ibid.). Аналогичную ситуацию Клиффорд Гирц зафиксировал на Бали. Хотя здесь существовал жесткий принцип прямого родства, «генеалогии… постоянно подтасовывались, чтобы рационально объяснить текущие властные реалии» (Geertz C. Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali. Princeton: Princeton University Press, 1980. P. 31).
[711] Lindner R. P. Nomads and Ottomans in Medieval Anatolia / Ed. by S. Halkovic. Bloomington: Research Institute of Inner Asian Studies, Indiana University, 1983 (= Indiana University Uralic and Altaic Series. Vol. 144). P. 33.
[712] Приведу один последний пример: Роберт Хармс показал в своем исследовании племени нуну в Конго, что «органическое единство модели родственных связей и личные манипуляции с этосом „большого человека“» находились в отношениях структурного противостояния. На практике это противоречие разрешалось посредством придумывания родословных, согласно которым «большой человек» якобы оказывался законным правопреемником, даже если реально его политическая позиция основывалась исключительно наличном богатстве и политических соглашениях, а не на соответствующих генеалогических расчетах (Harms R. Games against Nature: An Eco-Cultural History of the Nunu of Equatorial Africa. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. P. 21).
[713] Kirsch A. T. Op. cit. P. 35.
[714] Renard R. D. Op. cit. Ch. 2, особенно стр. 332. Адаптируемость во многих случаях означала поглощение равнинными обществами. Вполне справедливо предположение, что большинство «каренов» в течение тысячелетия ассимилировались в государствах долин, и этот процесс значительно ускорился в последние полстолетия.
[715] Jonsson Н. Shifting Social Landscape… P. 238. Беньямин, описывая малайский мир, неизменно подчеркивает, что группы неоднократно обретали и утрачивали родоплеменной характер жизни (Tribal Communities in the Malay World… P. 31–34). Объяснение, почему и как квазиоседлая группа (чевонги) вернулась «обратно» в «племенное состояние», см.: Howell S. «We People Belong in the Forest»: Chewong Recreations of Uniqueness and Separateness//Ibid. P. 254–272.
[716] Lehman F. K. [Chit HIaing] Op. cit. Vol. I. P. 254, 272.
[717] Jonsson H. Mien Relations… P. 19–34.
[718] Детальный анализ динамики подобного взаимодействия в Южной Азии представлен в прекрасной работе Сумит Гухи: Sumit Guha. Environment and Ethnicity in India, 1200–1991. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
[719] Договоренности о прекращении огня, кото-рые нынешняя военная диктатура в Бирме заключила со многими горными повстанцами, могут трактоваться аналогичным образом — как дарование вооруженной автономии и экономических возможностей в обмен на прекращение активных боевых действий. В малайском мире это почти исторический трюизм — утверждать, что население верховий рек играло настолько важную роль в жизни малайских прибрежных государств, что тем было жизненно необходимо грамотно выстраивать эти отношения. См. в этой связи, в частности: Sellato B. Nomads of the Borneo Rainforest: The Economics, Poltics, and Ideology of Settling Down / Trans, by S. Morgan. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1994. Более широко симбиоз горных/степных народов и соседних государственных центров на равнинах рассмотрен в статье: Chapell D. A. Ethnogenesis and Frontiers // Journal of World History. 1993. № 4. P. 267–275.
[720] Последним «равнинным» союзником каренов был, конечно, британский колониальный режим, в чьих войсках, наряду с качинами и чинами, они были излишне широко представлены. Карены притворялись «осиротевшим/беззащитным» народом, и отказ от них британцев лишь усилил их приверженность легенде о несчастной судьбе. О союзах каренов с равнинными королевствами см.: Keyes C. F. Ethnic Adaptation… Ch. 3. P. 63–80; Gravers M. Cosmology, Prophets, and Rebellion among the Buddhist Karen in Burma and Thailand // Moussons. 2001. № 4. P. 3–31; Coward W. F., Jr. Tai Politics and the Uplands. Draft paper. March 2001.
[721] Baruah S. Op. cit. Морские державы малайского мира также имели водных союзников-варваров. У Малакки были свои оранглауты, у народа буги — это были баджау и т. д.
[722] Как было отмечено ранее, Лич утверждает, что шанская культура и модель государственного строительства повсеместно сохраняют свой единообразный и стабильный характер. Однако если все мелкие шанские княжества формировались посредством стягивания в центр государства соседних горных народов, то каждое шанское государственное образование должно отличаться своеобразием, отражающим особенности поглощенных им горных народов, ровно так же как любое малайское государство несло на себе отпечаток тех конкретных безгосударственных жителей верховий рек, которых оно поглотило.
[723] Различие двух цивилизационных последовательностей состоит в том, что ханьская модель отражает поглощение народов уже существующим государством, тогда как шанская является (или может выступать в подобном качестве) моделью создания государства.
[724] См. цитаты в: Leach F. Op. cit. P. 197, а также библиографию: P. 313–318. Первый и третий эпиграфы к этому параграфу заимствованы из книги: Barfield Т. Tribe and State Relations: The Inner Asian Perspective // Tribes and State Formation… P. 153–182, цитаты соответственно со стр. 163 и 164; второй эпиграф взят из работы: Izikowitz K. G. Lamet: Hill Peasants in French Indochina. Gothenburg: Ethnografiska Museet, 1951. P. 113.
[725] О каренах см., например: Lehman F. K. [Chit Hlaing] Op. cit. Vol. I. P. 35–36; Smith M. Op. cit. P. 31, 432, n. 7; о ва — Gazetteer of Upper Burma… Vol. I. Parti. P. 493–519; о лаху — Walker A. R. Merit and the Millennium: Routine and Crisis in the Ritual Lives ofthe Lahu People. Delhi: Hindustan Publishing, 2003. P. 72; о каренни — вновь: Lehman F. K. [Chit Haing] Op. cit. Vol. I. P. 37–41.
[726] Gazetteer of Upper Burma… Vol. I. Part 1. P. 363.
[727] Leach F. Op. cit. P. 199 — выдержки из справочника 1929 года «Советы молодым офицерам» («Advice to Junior Officers!»).
[728] Gazetteer of Upper Burma… Vol. I. Part 1. P. 370. Утверждение Скотта весьма разумно. Подобные сообщества были разрешены на территориях, где их признавали, поскольку считалось, что навязывание института дува может вызвать новый всплеск сопротивления. Более того, гумлао за пределами административных границ, но все еще на территории Британской Бирмы, оставили в покое — фактически предоставили им право жить собственной жизнью. См. также: Route V. Political Hierarchical Processes among Some Highlanders of Laos // Social Dynamics in the Highlands… P. 187–208. Ванина // Бут отмечает, что лаосский двор, а затем и французские колонизаторы предпочитали иметь дело с иерархическими, а не эгалитарными обществами, потому что первые напоминали их собственные государственные структуры и предоставляли им готовую систему управления.
[729] Lehman F. K. [Chit Haing] Op. cit. Vol. I. // P. 38. Этот параграф базируется на проницательных наблюдениях Лимана.
[730] Jonsson Н Shifting Social Landscape… P. 116–120; Durrenberger F. P. Lisu Ritual, Economics, and Ideology…; Durrenberger F. P. Lisu: Political Form, Ideology, and Economic Action // Highlanders of Thailand… P. 215–226.
[731] Классическая работа по этой теме: Wolf F. R. Europe and the People without History. Berkeley: University of California Press, 1982.
[732] Durrenberger F. P. Lisu: Political Form… // P. 218. Связаны с ними и традиции жестокости и дикости, в частности охота за головами, слухи о которой распускали отдельные безгосударственные народы, чтобы воспрепятствовать государственным вторжениям на свою территорию. См., например: Fiskesjo М. On the «Raw» and the «Cooked» Barbarians of Imperial China// Inner Asia. 1999. № 1. P. 139–168, особенно 146; Rosaldo R. Ilongot Headhunting, 1883–1974: A Study in Society and History. Stanford: Stanford University Press, 1980. P. 155.
[733] Литература, посвященная малайскому миру, весьма обширна, но, вероятно, наиболее тщательный анализ различий и колебаний между иерархическими государственными и эгалитарными, лишенными верховной власти формами одновременно на уровне идеологии и в социальной практике представлен в работе Джейн Дракард «Малайский рубеж».
[734] Montagne R. Les Berberes et le Makhazen au Sud du Maroc. Paris: F. Alcan, 1930. Цит. no: Gellner £. Saints of the Atlas. London: Weidenfeld and Nicolson, 1969. P. 26.
[735] Khodarkovsky M. Where Two Worlds Met: The Russian State and the Kalmyk Nomads, 1600–1771. Ithaca: Cornell University Press, 1992. P. 47.
[736] Гааге D. The Yao Wars in the Mid-Ming and Their Impact on Yao Ethnicity // Empire at the Margins: Culture and Frontier in Early Modern China / Ed. by P. Kyle Crossley, H. Siu, D. Sutton. Charlottesville: University of Virginia Press, 2006. P. 171–189.
[737] Geusau L. A. von. Op. cit. P. 153.
[738] Мобильность многих занимающихся подсечно-огневым земледелием групп обеспечивается старательным поддержанием широко раскинутой в пространстве сети родственных и дружеских связей. Хмонги (ньюа) Северного Таиланда, например, заключают брачные союзы через огромные расстояния, что облегчает их перемещение на новые плодородные земли и гарантирует политическую безопасность. Историческая приверженность подсечноогневому земледелию сформировала вокруг них теневое сообщество прежде использовавших ту же сельскохозяйственную технологию соседей, которое может быть активизировано в случае необходимости. Уильям Роберт Геддес сравнивает эти социальные сети с «невидимыми телефонными линиями, связывающими домохозяйство с ближайшими и отдаленными территориями, и по каждой из них может прийти сообщение надежды, которое повлечет за собой миграцию» (Geddes W. R. // Migrants of the Mountains: The Cultural Ecology of the Blue Miao [Hmong Njua] of Thailand. Oxford: Clarendon, 1976. P. 233).
[739] Филипп Рамирес, описывая народ корби, проживавший в штате Ассам, отмечает, что любой политический выбор неизменно имел последствия для этнической идентичности. «Групповая идентичность всегда аскриптивна, детерминируема не только определенными культурными характеристиками, но и лояльностью политической власти и политическому порядку… Соответственно, культурная гетерогенность не мешает солидаризации группы в плане общей идентификации или социальных взаимоотношений» (Ramirez P. Politico-Ritual Variations on the Assamese Fringes: Do Social Systems Exist? // Social Dynamics in the Highlands… P. 91–107, цитаты со стр. 103–104).
[740] Walker А. R. Op. cit. P. 529.
[741] Jonsson H. Shifting Social Landscape… P. 132.
[742] Лингвист Роберт Бласт убежден, что все австронезийские охотники-собиратели в малайском мире когда-то давно были оседлыми земледельцами, которые знали технологии выращивания риса, но по собственной воле стали кочевниками. Цит. по: Hoffman C. L. Punan Foragers in the Trading Networks of Southeast Asia // Past and Present in Hunter-Gatherer Studies/ Ed. by C. Shrire. Orlando: Academic Press, 1984. P. 123–149, цитата со стр. 133. См. также: Sopher D. E. Op. cit. P. 363–366.
[743] Jonsson H. Shifting Social Landscape… P. 124, 185–186.
[744] См., в частности: Сиlas С. Le messianisme Hmong aux XlXeme et XXeme siecles. Paris: Editions MSH, 2005. Строго говоря, хмонги — крупнейшая из четырех лингвистических подгрупп мяо и, безусловно, самый многочисленный народ в материковых государствах Юго-Восточной Азии.
[745] Wiens H. J. China’s March toward the Tropics: A Discussion of the Southward Penetration of China’s Culture, Peoples, and Political Control in Relation to the Non-Han-Chinese Peoples of South China in the Perspective of Historical and Cultural Geography. Hamden, Conn.: Shoe String, 1954. P. 66–91; Tapp N. Sovereignty and Rebellion: The White Hmong of Northern Thailand. Singapore: Oxford University Press, 1990. P. 151.
[746] История яо/мьенов ненамного счастливее. Они были разбиты ханьскими войсками и иностранными воинскими подразделениями в битве в Великом Виноградном ущелье в Гуанси в 1465 году. Потребовалось 160-тысячное войско, чтобы разгромить их; 7300 яо были обезглавлены, 1200 взяты в плен (Elvin М. The Retreat of the Elephants: An Environmental History of China. New Haven: Yale University Press, 2004. P. 226).
[747] W/ens H. J. Op. cit. P. 90.
[748] Jenks R. D. Insurgency and Social Disorder in Guizhou: The «Miao» Rebellion, 1854–1873. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1994. P. 90; W/ens H. J. Op. cit. P. 90.
[749] Хмонги ранее переселились на север Сиама и поднимали в 1796 и 1817 годах восстания против тайских экспедиций за рабами и административного контроля (так называемой политики каленого железа). См.: Lieberman V. B. Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, с 800–1830. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Vol. I. Integration on the Mainland. // P. 300 и последующие. Уже к 1967 году слухи, что был рожден новый король хмонгов, привели к широкомасштабному оттоку беженцев в Лаос, пешком устремившихся ко двору короля (Tapp N. Ritual Relations and Identity: Hmong and Others // Civility and Savagery: Social Identity in Tai States / Ed. by A. Turton. Richmond, England: Curzon, 2000. P. 84–103).
[750] Цит. no: Gravers M. Cosmology, Prophets, and Rebellion among the Buddhist Karen in Burma and Thailand // Moussons. 2001. № 4. P. 3–31, цитата со стр. 13.
[751] Falla J. True Love and Bartholomew: Rebels on the Burmese Border. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 375.
[752] В этом параграфе я полагаюсь на глубокие работы Микаэла Траверса, например: Gravers М. Cosmology, Prophets, and Rebellion; Conversion and Identity: Religion and the Formation of Karen Ethnic Identity in Burma // Exploring Ethnic Diversity in Burma // Ed. by M. Gravers. Copenhagen: NIAS Press, 2007. P. 227–258; Idem. When Will the Karen King Arrive? Karen Royal Imaginary in Thailand and Burma. Рукопись 2008 года (28 стр.).
[753] Цит. по: Gravers М. When Will the Karen King Arrive?.. P. 7.
[754] Эта информация заимствована из работ: Gravers М. Cosmology, Prophets, and Rebellion…; Idem. When Will the Karen King Arrive?..; Stern T. Ariya and the Golden Book: // A Millenarian Buddhist Sect among the Karen // Journal of Asian Studies. 1968. № 27. P. 297–328; Glass Palace Chronicle: Excerpts Translated on Burmese Invasions of Siam / Compiled and annotated by Nai Thein // Journal of the Siam Society. 1908. № 5. P. 1–82; 1911. № 8. P. 1–119.
[755] Как утверждает Гравере, значение слова «гве» является предметом широких дискуссий. Отсылки к «гве монов» и «гве шанов» в то же время позволяют думать, что это не этнический термин. Гравере полагает, что это понятие восходит к названию Гве Габаунг (Gwae Gabaung), горы, известной как зона бегства после падения Пегу. Многие мин лауны использовали приставку Гве.
[756] Моны, шаны и бирманцы встали под его знамена вместе с кая и пао (таунгту), двумя говорящими на языке каренни группами. Существует версия, согласно которой Тха Хла был сыном либо бирманского короля Паган Мина от наложницы, либо дяди Паган Мина, который поднял бунт и бежал. Если это соответствует действительности, то представляет собой типичный шаг любого претендента на трон или мятежного князя — искать поддержку на периферии, чтобы захватить власть (Glass Palace Chronicle… № 8. P. 98).
[757] Этот и следующие два параграфа основаны на работе: Gravers М. Cosmology, Prophets, and Rebellion… P. 10–12.
[758] Stern T. Op. cit.
[759] О важности милленаристских движений в каренской политике свидетельствует то, что в подробнейшем и всеохватывающем обзоре мятежа в Бирме после Второй мировой войны, написанном Мартином Смитом, есть специальное приложение «Милленаризм»: Smith М. Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity. London: Zed, 1991. P. 426–428.
[760] Описание милленаризма лаху основано практически полностью на изумительно богатом эмпирическом материале, проницательной и хорошо известной книге: Walker A. R. Merit and the Millennium: Routine and Crisis in the Ritual Lives of Lahu People. Delhi: Hindustan Publishing, 2003. Этот замечательный труд, а также перевод эпоса лаху о происхождении, сделанный Уолкером (Mvuh Нра Mi Нра: Creating Heaven, Creating Earth. Chiang Mai: Silkworm, 1995), заслуживают гораздо большего признания и известности, чем то, которым пользуются сегодня.
[761] Цит. по: Walker A. R. Merit and the Millennium… P. 80, вклейка 17.
[762] Ibid. P. 78.
[763] Мужская часть дуального Гуй-ши отвечала за небо, женская — за землю. Поскольку мужчина ленивее женщины, земли оказалось слишком много, а неба — недостаточно. Гуй-ши исправил это, сжав землю так, что она острым холмом выступила в небо, и тем самым сбалансировал пропорции неба и земли. В результате земля покрылась неровностями — появились горы и равнины.
[764] Walker A. R. Merit and the Millennium… P. 505.
[765] Эти столкновения почти наверняка были спровоцированы характерными для периода холодной войны интригами Центрального разведывательного управления США при поддержке его сотрудника — миссионера Уильяма Янга, внука почитаемого лаху первого баптистского миссионера. См.: McCoy A. The Politics of Heroin: C.I.A. Complicity in the Global Drug Trade / Rev. ed. Chicago: Lawrence Hill, 2003. P. 342–345, 372–374.
[766] Оба восстания описаны в книге: Walker А. R. Merit and the Millennium… P. 524–533, цитата со стр. 524. Также весьма показательна характеристика, данная Уолкером пророку лаху, за которым он наблюдал во время полевой работы в 1970-е годы и чью жизнь исследовал также Сорот Сисисай, тайский ученый.
[767] Peoples S. C., Campbell И. The Lahu: Paper Prepared for the Joint Commission of Baptists and Presbyterians to Consider the Mission Problems in the Kengtung Field. Chiang Mai: American Presbyterian Mission. Typescript, Chiang Mai Payab Archives, 1907. // Цит. no: Walker A. R. Merit and the Millennium… P. 587.
[768] Marx К Introduction to Contribution to Critique of Hegel’s Philosophy of Right (1843). Невозможно, читая «Манифест Коммунистической партии», вдруг не поймать себя на мысли, как поразительно он похож в нормативном и структурном отношениях на христианскую эсхатологию: униженный мир угнетений и греха, нарастание кризиса, финальная битва добра и зла, торжество добра, идеальный мир и конец истории. Соответственно, привлекательность социализма для западного рабочего класса частично определялась тем, что он тщательно следовал милленаристскому нарративу христианства, с которым рабочие уже давно были знакомы.
[769] Bloch М. French Rural History: An Essay in Its Basic Characteristics/Trans, by // J. Sondheimer. Berkeley: University of California Press, 1970. P. 169.
[770] Анализ противоречий между основными направлениями буддизма в Таиланде см. // в статье: Kirsch А. Т. Complexity in the Thai Religious System: An Interpretation // Journal of Asian Studies. 1972. № 36. P. 241–266.
[771] Rozenberg G. Op. cit. P. 276.
[772] Существуют однозначно «милленаристские ситуации», когда беспрецедентное прежде сочетание обстоятельств делает несостоятельными все предыдущие трактовки поведения, статуса, безопасности и того, как должно прожить достойную жизнь. Ричард Уайт описывает подобную ситуацию среди коренных американцев. Характеризуя Тенсуатауа, известного пророка алгонкинов, он утверждает, что «деревни алгонкинов и белых в удаленных районах кишели провидцами, и, казалось, Бог самозабвенно разбрасывает повсюду свои откровения» (White R.The Middle Ground: Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1650–1815. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 503). Один район даже назвал себя «Городом пророков» (Ibid. P. 513).
[773] Первую президентскую кампанию Франклина Рузвельта в 1932 году полезно рассмотреть с этой точки зрения. Он начал свой политический путь как консервативный демократ, однако, видя, какие огромные надежды возлагают на него безработные, он соответственно менял свои агитационные выступления по мере продвижения от одного населенного пункта к другому. Речи Рузвельта (не говоря уже о нем самом) все больше наполнялись обещаниями мирского спасения доверившихся ему. Мартин Лютер Кинг-младший следовал той же стохастической модели даже в рамках конкретных проповедей. См.: Branch В. Parting the Waters: America in the King Years, 1954–1963. New York: Simon and Schuster, 1988.
[774] Подобные различия в доколониальной Бирме и Сиаме подкреплялись законами о расходах, регулирующими, какую одежду, дома и свиту могли иметь представители разных социальных групп.
[775] Weber М. The Sociology of Religion / Trans, by E. Fischoff. Boston: Beacon, 1963. P. 101 [Вебер М. Социология религии // Он же. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994. С. 153]. В опущенной части цитаты Вебер предполагал, что другие классы, например ремесленники, низший средний класс, низшее духовенство, могут даже в большей степени нуждаться в немедленном спасении, и к этой теме он позже вернулся.
[776] Я детально рассмотрел эту тему в статье: Protest and Profanation: Agrarian Revolt and the Little Tradition // Theory and Society. 1977. № 4. P. 1–38, 211–246, а также в книге «Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts» (New Haven: Yale University Press, 1990). Подробный исторический обзор того, как карнавалы превращались в восстания, см. в работе: Le Roy Ladurie E. Carnival in Romans /Trans, by // M. Feney. Harmondsworth: Penguin, 1981.
[777] Weber M. Op. cit. P. 139, 180,181 [Вебер M. Указ. соч. С. 138, 179]. Вебер использует понятие «аграрный коммунизм», но оно не вполне соответствует контексту, поскольку порождаемые им секты, хотя они и настаивали на народном местном контроле за распределением земель, все же защищали интересы традиционных мелких крестьянских хозяйств.
[778] Это объясняет, почему в периоды абсолютизма во Франции, когда монахи твердой рукой системно управляли провинциями страны и устанавливали повсеместно однотипный гражданский порядок, случались широкомасштабные восстания, нередко с явно милленаристскими мотивами. См.: // Porchnev В. Les soulevements populates en France au XVIIeme siecle. Paris: Flammarion, 1972.
[779] Этнографические детали жизни реального монаха-чудотворца и его окружения см. в статье: Mendelson Е. М. Observations on a Tour in the Region of Mount Popa // France-Asie. 1963. № 179. P. 786–807; Idem. Messianic Buddhist Association in Upper Burma // Bulletin, School of Oriental and African Studies (SOAS). 1961. № 24. P. 560–580. Описание народного религиозного синкретизма представлено в работе: Spiro M. Burmese Supernaturalism: A Study in the Explanation and Reduction of Suffering. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1967.
[780] Здесь я полностью полагаюсь на недавнее исследование восьми известных лесных монахов, проведенное Гийомом Розенбергом (Rozenberg G. Op. cit.).
[781] Говорят, когда известного современного лесного монаха Саядо Таманья из народа пао спросили, к какому монашескому ордену он принадлежит, тот ответил: «Я не принадлежу ни к одной ветви (gaing) — только к ордену „ушедших-в-леса“» (Rozenberg G. Op. cit. P. 35).
[782] Lewis I. M. Ecstatic Religions: A Study of Shamanism and Spirit Possession / 2nd ed. London: Routledge, 1989. P. 91.
[783] Цит. no: Scott G. J. [Shway Voe] The Burman: His Life and Notions. New York: Norton, 1963 (1-е изд.: 1882). P. 118.
[784] Andaya B. W. Religious Development in Southeast Asia, 1500–1800 // The Cambridge History of Southeast Asia / Ed. by N. Tarling. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Vol. I. From Early Times to 1800. P. 565.
[785] Mendelson E. M. Messianic Buddhist Association…
[786] Spiro M. Op. cit. P. 139.
[787] Мендельсон полагает, что многие наты олицетворяют убитых королевских родственников. Поскольку король часто оказывался узурпатором трона, превращение из мертвого родственника (который был слишком могущественным или «юным» для смерти, тем более преждевременной) в ната было способом умилостивить его дух и убедить посредством своеобразного символического джиу-джитсу покровительствовать новому правителю. Сая Сан, в соответствии с этой традицией, в ходе восстания в 1930 году взывал к духу только что убитого его войсками англичанина, чтобы защитить своих сторонников (Мепdelson E. M. Observations… P. 786).
[788] Ibid. P. 785.
[789] Mendelson E. M. Sangha and the State in Burma: A Study of Monastic Sectarianism and Leadership / Ed. by J. P. Ferguson. Ithaca: Cornell University Press, 1975. P. 207.
[790] Прекрасный обзор важного народного медитационного движения см. в работе: Jordt I. Burma’s Mass Lay Meditation Movement: Buddhism and the Cultural Construction of Power. Athens: Ohio University Press, 2007.
[791] Варианты революционной деятельности, доступные в рамках существующего социального порядка (то есть не требующие внешних знаний об иных имеющихся возможностях), см. в моей работе: Domination and the Arts of Resistance… P. 77–82.
[792] Lieberman V. B. Op. cit. Vol. I. P. 328.
[793] Чарльз Тилли полагал, что география Швейцарии привела к протестантской Реформации, которая носила конфликтный характер и закончилась расколом между Цвингли (Базелем) и Кальвином (Женевой), а также борьбой с несогласными католиками (Tilly С. Contention and Democracy in Europe, 1650–2000. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 169).
[794] Tapp N. Ritual Relations and Identity… P. 91.
[795] Foster G. M. What Is Folk Culture? // American Anthropologist. 1953. № 55. P. 159–173, цитата со стр. 104.
[796] Salemink О. The Ethnography of Vietnam’s Central Highlanders: A Historical Contextualization, 1850–1990. London: Routledge Curzon, 2003. P. 73–74.
[797] Tapp N. Ritual Relations and Identity…
[798] Исключением в Европе может считаться свободный го род-государство — модель, которая не получила распространения в Юго-Восточной Азии, если не считать малайский торговый порт ее частичным аналогом.
[799] См. интересную аргументацию по этим вопросам в статье: Stange P. Religious Change in Contemporary Southeast Asia // Cambridge History of Southeast Asia/Ed. by // N. Tarling. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Vol. 2. The Nineteenth and Twentieth Centuries. P. 529–584. Важный аналогичный пример — принятие берберами суфизма в противовес арабской суннитской ортодоксии: они признают и усвоили всеобъемлющую исламскую культуру с ее акцентами на братстве и равенстве, но не приемлют арабское государство и его иерархию. См.: Tribes and State Formation in the Middle East / Ed. by P. Khoury, J. Kostiner. Berkeley: University of California Press, 1990.
[800] Leach E. The Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure. Cambridge: Harvard University Press, 1954. P. 112–113.
[801] Geertz C. Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali. Princeton: Princeton University Press, 1980. P. 132. Относительно морской Юго-Восточной Азии Дж. Д. Легг отмечает, что М. К. Риклефс и К. К. Берг интерпретируют централистскую космологию яванской власти как функциональный противовес реальной диффузии власти (Legge J. D. The Writing of Southeast Asian History // Cambridge History of Southeast Asia… P. 1–50, особенно 33).
[802] Цит. no: Autonomy, Coalition, and Coerced Coordination: Themes in Highland-Lowland Relations up through the Vietnamese American War, мимеограмма, курсив мой.
[803] Lehman Т. К. [Chit Hlaing] Burma: Kayah Society as a Function of the Shan- Burma-Karen Context // Contemporary Change in Traditional Society / Ed. by J. Steward. Urbana: University of Illinois Press, 1967. Vol. I. P. 1104, цитата со стр. 34.
[804] Kulke H. The Early and Imperial Kingdom in Southeast Asian History // Southeast Asia in the 9th to 14th Centuries / Ed. by D. C. Магг, A. C. Milner. Singapore: Institute for Southeast Asian Studies, 1986. P. 1–22. Безусловно, это не должно удивлять европейцев: для них Римская империя и Священная Римская империя продолжали жить в виде идейных основ политических притязаний и юриспруденции еще долгое время после того, как вечный город превратился в руины в результате вражды военачальников (Woodside A. The Centre and the Borderlands in Chinese Political Thinking // The Chinese State and Its Borders/ Ed. by D Lary. Vancouver: University of British Columbia Press, 2007. P. 11–28, особенно 13). Примерно то же самое можно сказать об Османской империи. См.: Вагкеу К. Empire of Difference: The Ottomans in Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 13, 82.
[805] Schwartz S., Salomon F. New Peoples and New Kinds of People: Adaptation, Adjustment, and Ethnogenesis in South American Indigenous Societies (Colonial Era) //The Cambridge History of Native Peoples of the Americas / Ed. by S. Schwartz, F. Salomon. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 443–502, цитата со стр. 486. Гонсало Агирре Бельтран также характеризует подобные осколочные зоны как приоритетные места формирования нейтивистских и мессианских религиозных движений (Beltran G. A. Regions of Refuge. Washington, D.C., 1979 [= Society of Applied Anthropology Monograph Series № 12]. P. 49). См. также: Barkey К. Op. cit. P. 42 (об Османской империи); White R. Op. cit; Worsley P. The Trumpet Shall Sound: A Study of Cargo Cults in Melanesia. New York: Schocken, 1968; Burridge K. New Heaven, New Earth: A Study of Millenarian Activities. New York: Schocken, 1969; Spence J. God’s Chinese Son: The Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan. New York: Norton, 1996.
[806] Tapp N. Sovereignty and Rebellion… P. 57.
[807] Bloch M. Op. cit. P. 169 (Блок M. Характерные черты французской аграрной истории. М.: Издательство иностранной литературы, 1957. С. 229–230].
[808] Weber М. Op. cit. P. 126 [Вебер М. Указ. соч. С. 171].
[809] Mueggler Б. A Valley House: Remembering a Yi Headmanship // Perspectives in the Yi of Southwest China/Ed. by S. Harrell. Berkeley: University of California Press, 2001. // P. 144–169, особенно 158–161.
[810] Питер Уорсли в книге «Когда вострубит труба» и Кенелм Барридж в работе «Новое небо, новая земля» при всей своей симпатии к приверженцам каргокультов и явном понимании материальных условий, порождающих подобные восстания, попали в эту ловушку. Другие специалисты по Юго-Восточной Азии — Микаэл Гравере, Энтони Уолкер и Николас Тапп — смогли ее избежать.
[811] Тарр N. Ritual Relations and Identity… P. 94.
[812] Именно так новый харизматический «большой человек» обычно начинает карьеру в горах.
[813] Lehman F. H. [Chit Hlaing] Who Are the Karen, and If So, Why? Karen Ethno-history and a Formal Theory of Ethnicity // Ethnic Adaptation and Identity: The Karen on the Thai Frontier with Burma / Ed. by OF Keyes. Philadelphia: ISHII, 1979. P. 215–253, цитата со стр. 240, 248.
[814] Gravers M. Cosmology, Prophets and Rebellion… P. 24.
[815] Lehman F. H. Op. cit. P. 224.
[816] Walker А. R. The Lahu People: An Introduction // Highlanders of Thailand / Ed. by J. McKinnon, W. Bhruksasri. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1983. P. 227–237, цитата со стр. 231.
[817] Фредрик Барт в предисловии к сборнику «Этнические группы и социальные границы: социальная организация культурных различий», обращая внимание на роль человеческого фактора в социальной организации границ, пишет: одна из доступных элитам неиндустриальных стран стратегий — «подчеркивать свою этническую идентичность, используя ее для развития новых социальных позиций и моделей, позволяющих организовать деятельность в секторах, которые ранее не были представлены в их обществе или не были достаточно развиты для новых целей… Третья стратегия порождает множество интересных движений, хорошо известных сегодня, — от нацизма до новых государств» (Barth F. Introduction // Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Waveland, 1998 (1-е изд.: Long Grove, III: 1969). P. 33 [Этнические группы и социальные границы / Под. ред. Ф. Барта. М.: Новое издательство, 2006. С. 42; в цитируемом отрывке nativism переведен как «нацизм», но речь идет, скорее, о нейтивизме]). Долго присматриваясь к работам Барта, я пришел к выводу, что его аргументация в целом соответствует моей в данной книге. Хью Броуди полагает, что сообщества, в которых широко практикуется шаманизм, в силу нечеткого разграничения снов и реальности, плохого и хорошего, игры и серьезного взаимодействия оказываются исключительно пластичными // (Brody H. The Other Side of Eden: Hunters, Farmers, and the Shaping of the World. Vancouver: Douglas and Mclntyre, 2000. P. 245).
[818] Jenks R. D. Op. cit. P. 6.
[819] Описание заимствовано из работ: Salemink О. Op. cit. Ch. 4. P. 100–129; Gunn G. Rebellion in Laos: Peasant and Politics in a Colonial Backwater. Boulder: Westview, 1990.
[820] Как отмечал Уильям Роберт Геддес в отношении группы хмонгов, которую он исследовал, «частично именно по этой причине теми, кому удается занять самые важные позиции в больших сообществах, оказываются шаманы, власть которых имеет религиозный характер, а потому не ограничивается одной социальной группой» (Geddes W. R. Migrants of the Mountains: The Cultural Ecology of the Blue Miao [Hmong Njua] of Thailand. Oxford: Clarendon, 1976. P. 256). Роль фигур, безупречно характеризующих широко распространенный в Юго-Восточной Азии феномен короля-чужака, рассматривается в работе: Henley D. Conflict, Justice, and the Stranger King: Indigenous Roots of Colonial Rule in Indonesia and Elsewhere // Modern Asian Studies. 2004. № 38. P. 85–144.
[821] Lapidus I. Tribes and State Formation in Islamic History // Tribes and State Formation in the Middle East… P. 25–47, цитата со стр. 29.
[822] Barfield T. Political Legitimacy in Afghanistan. Рукопись. Стр. 53.
[823] Это предположил и Питер Уорсли в книге «Когда вострубит труба» (Worsley Р. Ор. cit. P. 227). Я не принимал этот вывод, потому что он сделан в русле функционалистской модели аргументации, однако его правильность сложно опровергнуть в свете имеющихся доказательств.
[824] OVonnor R. A. Sukhothai: Rule, Religion, and Elite Rivalry. Работа, представленная на 41-й Ежегодной конференции Ассоциации азиатских исследований (Вашингтон, // 1989 год). Цит. по: Reid A. Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680. New Haven: Yale University Press, 1993. Vol. 2: Expansion and Crisis. P. 151.
[825] Я цитирую слова Джеймса Хагена из его замечательного исследования сообщества манео в провинции Молукку: Надеп J. Community in the Balance: Morality and Social Change in an Indonesian Society. Boulder: Paradigm, 2006. P. 165.
[826] Tapp N. Sovereignty and Rebellion… P. 9597. Тапп отмечает, что подобные восстания происходили и в 1950-х годах. Иногда Иисуса путали с Суй Йи, первым в истории шаманом, который также, согласно пророчеству, должен однажды вернуться на землю.
[827] Конечно, судьба коренных народов Нового Света оказалась прискорбнее этой печальной истории. Прекрасный детальный обзор периода Индокитайских войн представлен в работе Альфреда Маккоя: McCoy A. The Golden Triangle // The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade/ Rev. ed. Chicago: Lawrence Hill, 2003. P. 283–386.
[828] См. прекрасную работу, посвященную устной традиции передачи христианских библейских текстов у афроамериканцев: Callahan A. D. The Talking Book: African Americans and the Bible. New Haven: Yale University Press, 2007.
[829] Описание приводится no: Walker A. R. Merit and the Millennium… P. 580–586.
[830] Ibid. P. 791.
[831] Hobsbawm E. J. Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th Centuries. New York: Norton, 1965.
[832] См.: Jung С. The Moral Force of Indigenous Politics: Critical Liberalism and the Zapatistas. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
[833] Dunn J. Setting the People Free: The Story of Democracy. London: Atlantic, 2005. // P. 182.
[834] См., например: Fiskesjo M. Rescuing the Empire: Chinese Nation-Building in the 20th Century // European Journal of East Asian Studies. 2006. № 5. P. 15–44.
[835] White J. С. Incorporating Heterarchy into Theory on Sociopolitical Development: // The Case from Southeast Asia // Heterarchy and the Analysis of Complex Societies / Ed. by R. M. Ehrenreich, C. L. Crumley, J. E. Levy (= Archeological Papers of the American Archeological Association. 1995. № 6). P. 103–123.
[836] Robinne F., Saclan M. Postscript «Reconsidering the Dynamics of Ethnicity through Foucault’s Concept of ’Spaces of Dispersion’» // Social Dynamics in the Highlands of Southeast Asia: Reconsidering Political Structures of Highland Burma by E. R. Leach / Ed. by // F. Robinne, M. Sadan. Leiden: Brill, 2007 (= Handbook of Oriental Studies. Section 3. Southeast Asia). P. 299–230.
[837] В Восточной и Юго-Восточной Азии сюда также следовало бы включить австронезийское население Тайваня и провинции Хайнань и прежде располагавшие государственными структурами малайские народы, например чамов.
[838] O’Connor R. A. Op. cit. P. 298–299.
[839] Braudel F. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II / Trans, by S. Reynolds. New York: Harper and Row, 1966. Vol. I. P. 33.
[840] Великие морские державы Юго-Восточной Азии, например Пегу/Баго, Шривиджайя и Малакка, в силу обладания важным преимуществом — низким сопротивлением расстояния на море, — породили более обширную и жизнеспособную теневую экономику, чем преимущественно аграрные государства — Паган, Ава, Аюттхая и Тонкий, — хотя и были слабее в военном отношении.
[841] Рабы в Северной Америке аналогичным образом использовали христианство и Библию, особенно Ветхий Завет, — как призыв к освобождению и отмене рабства.
[842] Однако вся эта конструкция отнюдь не была автономной системой. Внешние потрясения время от времени приводили к ее полной перестройке. Колониальные завоевания и японская оккупация в годы Второй мировой войны, не говоря уже о последующих национально-освободительных движениях, в которых участвовала большая часть населения равнинных государств, а сегодня нередко и горных национальных меньшинств, — яркие примеры того, о чем идет речь. Подобные потрясения полностью меняли структуру властных отношений и варианты, доступные каждой этнической группе для оптимального репозиционирования в новых социально-политических условиях.
[843] Skinner G. W. Chinese Peasants and the Closed Community: An Open and Shut Case // Comparative Studies in Society and History. 1971. № 13. P. 270–281.
[844] Попытки сохранить местные запасы продовольствия напоминают введение налогообложения товаров, продаваемых на рынке, в годы нехватки продовольствия в Англии XVIII века. См. известную статью // Э. Л. Томпсона «Моральная экономика английской толпы в XVIII веке» (Thompson Е. Р. The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century // Past and Present. 1950. № 50. P. 76–136).
[845] Jonsson H. Shifting Social Landscape: Mien (Yao) Upland Communities and Histories in State-Client Settings. Ph.D. diss. Cornell University. P. 249, 380–384.
[846] Устойчивые системы социального неравенства возникают в современных условиях вследствие недостатка земли и институционализации новых форм частной земельной собственности, что позволяет ряду семей увеличивать свои участки, превращая других в безземельных арендаторов или наемных работников. В ситуации земельного изобилия и доминирования открытых форм общей собственности неравенство если и возникает, то обычно связано с жизненным циклом семьи и количеством трудоспособных работников, которым она располагает.
[847] Жорж Кондоминас утверждает то же самое в работе: Condominas G. From Lawato Mon, from Saa’to Thai: Historical and Anthropological Aspects of Southeast Asian Social Spaces / Trans. by S. Anderson et al. Canberra: Australian National University, 1990 (= An Occasional Paper of Anthropology in Association with the Thai-Yunnan Project, Research School of Pacific Studies). R 60.
[848] И вновь следует отметить, что существует и «морская» версия подобных трансформаций. Дэвид Софер считает, что многие оранг-лауты/морские цыгане переходили к оседлому образу жизни, а затем возобновляли свои занятия мореплаванием, чтобы позже вернуться к оседлости. Широко распространенная идея о том, что если кочевники переходят к оседлому образу жизни, то это навсегда, не имеет под собой оснований. Sopher D. E. The Sea Nomads: A Study Based on the Literature of the Maritime Boat People of Southeast Asia. Singapore: Lim Bian Han, 1965 (= Memoirs of the National Museum № 5). P. 363–366.
[849] Конечно, ситуацию легко можно было исправить в рамках любого имперского проекта. Но и во Франции контраст между идеалами Французской революции, правами человека, идеей гражданства, дискурсом Виктора Гюго и реалиями жизни в колониальном Сайгоне или Алжире был очевиден. Попробуйте в качестве небольшого мысленного эксперимента сравнить дискурс «развития» (сегодняшнее эвфемистическое обозначение цивилизации) с совершенно непристойной борьбой неправительственных организаций за сферы влияния и награбленное, скажем, во Вьентьяне.
[850] Флори, трагический герой первого романа Джорджа Оруэлла «Дни в Бирме», — незабываемый пример того, как человек был доведен до самоубийства этим противоречием.
