Ирина Сисейкина
Мама-анархия
Памяти Коли Муравина
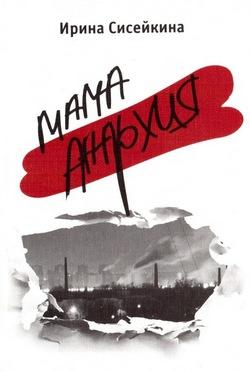
Несмотря на то, что некоторые исторические события, упомянутые в книге, имели место в нашей жизни, все имена, персонажи и их действия являются вымыслом и результатом больного воображения автора и не имеют никакого отношения к реальности.
Пролог
Незнакомые бабушки в метро дают мне шестнадцать. Когда я покупаю спиртные напитки, что случается довольно регулярно, продавщицы подозрительно косятся на мой подростковый рюкзачок и требуют паспорт. Я смеюсь в ответ и ничего не отвечаю. Шестнадцать… Вот они хватили. Мой паспортный возраст уже успел перевалить за тридцать.
Но как говорит наша медсестра Алена, «Маленькая собачка – до старости щенок». Это она про меня.
Шестнадцать мне было очень давно. Практически в другой жизни.
Впрочем, частенько у меня возникает ощущение, что с тех пор ничего не изменилось. Это судьба моего поколения. Мы – странное поколение. Мы – взрослые дети, застрявшие в девяностых, так и не сумевшие вырасти, стать богатыми, толстыми, пузатыми, запредельно серьезными тетями и дядями. Именно такими всегда казались нам самим взрослые люди. Такими они кажутся нам и сейчас. Даже если они – ровесники. Даже если они – младше. Гламурные дивы могут сколь угодно колоть себе ботокс, делать плацентарные маски и подтяжки, - как врач я скажу, что все это вряд ли можно назвать лекарством от старости.
Когда я снимаю свой докторский халат, я ношу бейсболку, штаны с девятью карманами и тяжелые ботинки.
Мои теперешние друзья играют панк и тоже носят бейсболки и тяжелые ботинки.
Зимой мы ходим на концерты и катаемся на коньках и сноуборде. И наша травматология переполнена переломанными любителями катков и лихими сноубордистами. Летом мы гоняем на роликах. В жару наша травматология лопается от переломанных скейтбордистов и роллеров… Коллеги, - усмехаюсь я.
Говорят, что мы, медики, самые циничные люди на свете.
Что мы невосприимчивы к человеческим страданиям.
Что мы холодные, отстраненные и злые.
Наша медсестра Алена называет это состояние души «Долгоиграющая анестезия».
Сильнодействующий укол обезболивающего, от которого немеет не только все тело, но и та часть мозга, которая отвечает за эмоции. Поэтому мы без содрогания можем смотреть на стонущих больных, их кровь, гной, мочу, дерьмо, раздробленные кости и вывороченные наружу внутренности. Мы можем смотреть на них, смеяться, кромсать их тела, а после этого спокойно жевать бутерброды и запивать их чаем. Мы можем бесчувственно созерцать даже растерзанные тела тех, с которыми пару часов назад веселились и пили пиво.
Алена говорит, что мы не люди, а роботы. Что нас делают на экспериментальных подмосковных заводах. Что мы разучились чувствовать боль, страх, любовь и прочие свойственные человеку состояния души. Роботы, как известно, не стареют.
Я слушаю ее философствования и снова смеюсь. Она опять права, конечно.
Она младше меня на десять лет. Но она мудрее.
Я с ней никогда не спорю.
Часть первая
16
Ник
Ник улыбался. Я смотрела на него и думала, надо же, какого невозможного цвета бывают у людей глаза. У Ника были ореховые глаза. А впрочем, дело даже не в цвете, – эти глаза сияли как звезды.
Я не знала, что рядом со мной сидит тот самый Ник.
Если бы знала, вряд ли отважилась бы с ним заговорить.
Ник был нашей местечковой знаменитостью, нашей неформальной левацкой легендой.
- Ты боишься высоты?
- Нет, а ты?
- Тоже нет.
- С какой целью вопрос?
- Ну просто… Очень хочется залезть на крышу и спеть оттуда «Марсельезу».
Ник рассмеялся.
- Так полезли.
Мы знали друг друга не больше часа. Но он был своим в этой редакции крохотной профсоюзной газеты «Свобода», на этом дне рожденья зама главного редактора, поэтому его можно было не бояться. В анархисты попадали только свои. По определению. Чужаки среди нас не выживали.
Интеллектуалы спорили в углу о судьбах мировой революции. Панки втихую накуривались в туалете. Мы с Ником ускользнули незамеченными. Участвовать в спорах он не любил, а к повседневному панку относился с долей здоровой иронии. Женечка, моя первая любовь, размахивая руками, что-то ожесточенно доказывал очередному оппоненту. Зам главного редактора уже успел впасть в свое классическое на таких пьянках состояние полуанабиоза – помаргивая остекленевшими глазами, покачиваясь, держа в руках бутылку пива, он глупо улыбался, переводя взгляд с одного лица на другое, и молчал. Мы с Ником были явно лишними на этом празднике жизни.
Под ногами скрипел снег. Крышу огораживали шаткие железные стойки.
- А слабо шагнуть за ограждение? Это же просто.
- Ну конечно, - сказал он. – Только после тебя.
Мы стояли на краю крыши, носы ботинок выступали вперед.
- Тебе не страшно?
- Нет, а тебе?
- Нет. Значит, мы не упадем.
- Знаешь слова «Марсельезы»?
- Не знаю. Но на ее мотив хорошо ложится «Интернационал».
И мы запели. Нестройно, сбиваясь и путаясь в словах, ежась под мокрым осенним снегом, глядя на сумеречную, призрачную, дрожащую в мокром свете Москву, которой тогда, как и теперь, было положить на нашу революцию.
Я подумала, что неспроста нас вечно тянет забираться на всякие высоты.
Должно быть, в прошлом мы точно были ангелы.
Нику я об этом не сказала.
Он не верил во всю эту теистическую чушь.
Он бы надо мной посмеялся.
- А ты слушаешь Летова?
- Тоже хочешь спеть?
- Ага. Интересно, сможем по голосам «Деклассированным элементам»?
Ник снова засмеялся.
- Есть только один способ проверить.
Мы сбились на последнем куплете.
- Слушай, дитя революции, как тебя зовут?
- Меня? Ты посмотри на меня. Трудно что ли догадаться?
- Ты ведь Ежик? А я – Никита.
- Я – она. А ты – просто Никита или тот самый Никита?
- Тот самый, - усмехнулся он. – Просто Никита.
- Не просто. Ты ведь звезда неформалов и вообще герой.
- Ну уж и герой.
- Герой и есть. У тебя автографы можно брать. Ведь это ты ходил к китайскому посольству? Ты организовывал голодовку перед МГУ?
- Ну и что? – Ник отвернулся. – Я ничего не делал. Я просто предложил. А потом ребята как-то сами …
- Борец за свободу, - продолжала я. - Ну и как, удалось отстоять свободу?
- В каком-то смысле, - сказал Ник.
В его голосе не было ни насмешки, ни снисходительности. Ник был со мной на равных.
- Так вот, Никита. Посмотри вокруг. Говно все эта ваша революция. Вот она, свобода.
Мы стояли на крыше, раскинув в стороны руки, и город, вечерний, сумрачный, сияющий мутными фонарями, вдруг вздрогнул и поплыл под ногами.
- Лови, Ник. Лови моменты свободы.
Ник улыбался.
- Давай поиграем в снежки?
Мы перелезли обратно на крышу. Падая в липкий снег, грохоча ботинками по скользкой жестяной крыше, хохоча, мы швырялись друг в друга наскоро слепленными снежками. Холодные струйки щекотно стекали за шиворот. Волосы, рукава и низ джинсов вымокли насквозь, ботинки тоже промокли, но я этого не чувствовала. Я смеялась, представляя, что весь мир сузился до пределов этой крыши. Свобода, блин... Прыгни вниз, слабо, да? Вот она, граница человеческой свободы - железные стойки заснеженной крыши. Свобода длилась ровно до тех пор, пока меня не окрикнул Женечка, моя первая любовь.
- Ежик!
Я вздрогнула.
- Ежик! Слезай немедленно. Ты разобьешься! Там внизу по вам уже стрелять собрались. Охрана соседнего банка. Решили, что вы лезете их грабить.
Как же я забыла… Редакция крохотной профсоюзной газеты «Свобода» ютилась в одном здании с каким-то никому не известным бандитским банком. Внизу, перетаптываясь наперевес с автоматами, стояли охранники. Видимо, они кричали нам, но мы с Ником почему-то их не услышали.
- Слезай, я тебе сказал! Господи, что за дуреха.
Я виновато посмотрела на Ника.
Он улыбнулся. Пожал плечами.
Мне надо было идти.
Иначе бы мы снова поругались с Женечкой, моей первой любовью.
Его надо было понимать. Он боялся высоты. И за меня он тоже боялся. Он с детства был нервным.
- Ник, но мы же еще с тобой встретимся? – сказала я.
- Иди, Ежонок, - ответил он. – Я просто не знал, что ты с Женей.
Обыкновенный панк
1990
Версия Ежика
Я даже не помню, с чего все началось, просто мне понравился их юмор – дурацкий, грубый, но почему-то от этого было страшно весело. На Пушке сидели три грязных панка с гитарами и горланили на весь переход песни Аллы Пугачевой – только переделанные. «Миллион, миллион, миллион пьяных коз…» Панки показывали пальцами на всех проходящих мимо девиц и ржали при этом как сумасшедшие. Я была единственной из этих девиц, кто тоже засмеялся. Панки помахали мне рукой, и я подошла.
- Вы достойны кисти фламандца, - сказал один. – Я исполню на ваш заказ любую песню.
- Я и сама могу, - сказала я. – Вы только подыграйте. Вы знаете Егора Летова?
Они тихо затряслись от смеха.
- Мэм, какой же нормальный панк может не знать Летова?
И мы вчетвером загорланили на весь переход классическое «Все идет по плану». Прохожие испуганно шарахались от нас в стороны, и лишь особо отважные подходили и швыряли в кепку жалкие купюры. Через еще пять песен мы заработали на пиво и отправились гулять по улице.
Нам было весело.
Одного из панков звали Кристмас. Другого – Шершень. Третьего – Удав.
Они пытались знакомиться с девушками, выдавая Кристмаса за своего слепого братца. Они подводили его к этим раскрашенным, высокомерным красоткам со словами «Это наш брат, ему нужна проститутка, но он ничего не видит, можно он познакомится с вами на ощупь?», и Кристмас вытягивал вперед руки и пытался потрогать тело стоящей перед ним девицы. Я наблюдала за этим со стороны и давилась от смеха.
Потом мы ехали в метро, хватаясь за воздух вместо поручней. Кристмас пару раз усаживался рядом с какой-нибудь тетушкой – и через секунду вскакивал с криком «Блинннн!», яростно отряхивая задницу. Пассажиры тоже вскакивали, пытаясь понять, на что же он уселся. Это был такой юмор.
Потом мы сидели на полу в метро и снова пели песни, пытаясь переорать грохот поезда.
Кристмас сказал, что они не просто панки. Они – политизированные панки. То есть панки-анархисты.
- Наши?! – закричала я. – А кого вы знаете? Женечку?
Женечку они не знали. Но сказали, что знают Ника.
Что неудивительно.
Ника знали все.
Ник был легендой.
Ник был адептом.
Без Ника вряд ли случилась бы вся эта безумная анархия.
На следующий день я выбрила себе ирокез. В медучилище зав. учебной частью, толстая, измученная, скучная советская тетя, сказала мне, что если я еще раз явлюсь в таком виде, она меня отчислит.
В отместку за это я побрилась налысо.
Через пару месяцев на голове отрос веселый ежик. И мои панки придумали мне личное погоняло. Меня прозвали Ежиком.
Мне нравилось быть Ежиком. Собственное имя мне тогда казалось не таким интересным.
И под ежика я стригусь до сих пор.
Мама-анархия
Конечно же, мы встретились с Ником. Нас было так немного в этой безумной, разномастной тусовке маргиналов, что невозможно было не встретиться. Все знали друг друга, даже если были из разных городов, даже если из разных стран… И мы встречались – в гостях, в редакции, на пикетах против «Макдональдса» - ежегодно, по расписанию, шестнадцатого октября, во всемирный день антимакдональдса, на оранжевых акциях, у него дома – нагрянув всей толпой, с пирожными, кексами, соками, самиздатовскими газетами, книжками. Он был рад. Книжкам, газетам, мне, всем.
Он писал смешные стихи.
Рисовал комиксы.
С ним было весело.
С ним нельзя было не подружиться.
Так что мы подружились.
Без глупой рефлексии, без сумрачных мыслей «нравишься – не нравишься», тогда о такой ерунде никто не задумывался, у нас так было не принято, у нас это было не нужно. Мир делился для нас ровно и четко на две категории людей. Были свои и не свои. Были хиппи, панки, леваки - те, которые выходили на первомайские демонстрации, потрясая над головой черными знаменами, те, которые разрисовывали смешными граффити девственные кварталы этого города, - и были чужие. Менты, чиновники, бюрократы, карьеристы – их было видно за версту. У них были цепкие глаза. Нервные пальцы. Хищные повадки. Их было много.
Были вокруг и обычные люди. Среди них мы чувствовали себя замаскированными пришельцами, марсианами. Тогда, в начале девяностых, как, впрочем, и теперь, в начале нового тысячелетия, никого не волновала солидарность, равенство и свобода. На прилавках магазинов лежали заплесневелые макароны. Зарплаты на предприятиях задерживали по несколько месяцев. Деньги с астрономической скоростью теряли ценность. А обычные люди просто хотели спокойной жизни. С какой стати им было думать про всякую глобальную чушь?
Нас было мало. Мы узнавали друг друга по странным прическам, по рваным джинсам, по приколотым на куртки значкам – с Летовым, с Че Геварой, с пацификом. Мы чуяли друг друга невероятным шестым чувством. Мы узнавали друг друга по глазам даже в самой жуткой давке.
Мы знали друг друга по именам. По кликухам. По меньшей мере, мы помнили друг друга в лицо. Мы сталкивались в каких-то институтах, на концертах, фестивалях, в квартирах, на улицах, где бродили странные хиппи – с дудками, губными гармошками и гитарами наперевес. Чужаков среди нас не было.
Так что Ник был очень близкий. Очень свой.
Катька
На дворе две тысячи шестой год.
Мне снова кажется, что ничего не изменилось.
Я сижу с чашкой чая на диване у Катьки.
У моей одноклассницы Катьки. Я ее люблю. Она Козерог.
Пятнадцать лет назад тут стоял другой диван. Уголком.
Катька говорит, что он был французский. И потому так быстро развалился. Не предполагалось, что на нем будут спать каждый день. Это был гостевой диван.
Впрочем, гости на нем тоже иногда спали. Например, я. В те счастливые разы, когда Катькины родители покидали нас на выходные и уезжали на дачу.
Я ее давно потеряла, свою Катьку, а потом вдруг нашла. Сколько можно жить в домах напротив и не встречаться? Десять лет, пятнадцать? И вот каким-то жутким, колючим зимним утром, поскальзываясь на обледенелой дорожке, захлебываясь похмельной тошнотой и сигаретным дымом, я вдруг вздрогнула, заметив знакомую фигурку, – мне навстречу гордо вышагивала ничуть не изменившаяся за эти пятнадцать лет, счастливая и глубоко беременная Катька.
Все сложилось.
Ее сыну давеча исполнился годик. Хороший мальчик. Тоже Козерог.
Я люблю Козерогов.
Из всего Зодиака я только Скорпионов не очень.
За редким исключением. А Козерогов я люблю совершенно отдельным образом.
В том числе Катьку и ее сына.
Вообще-то по поводу детей я тоже не питаю особенных восторгов. Но этого мальчика я люблю. Четкий такой пацанчик. Чувствуется козерожья обстоятельность. Всегда в состоянии доходчиво объяснить, что ему надо. Редкое очень для мужчин качество.
Впервые за пятнадцать лет я, удивленно озираясь, крадусь по огромной квартире Катьки на кухню на цыпочках, чтобы не разбудить папу и сына. Катька живет с папой и с сыном. Мама не так давно умерла от инсульта. Катька была поздним ребенком. С сыном Катьке помогает приходящая няня.
Огромная квартира Катьки, как и пятнадцать лет назад, отмыта до блеска. Катька все время драила окна. Они и сейчас кажутся прозрачными. Катька всегда радовалась весне. «Окна, - говорила она, - теперь наконец помою». Приземленность, расчетливость и маниакальное упорство в достижении целей. Четкость и аккуратность. Типично козерожье.
На кухне есть чай, нарезанный сыр, вино и оливки.
Если не считать оливок, то все осталось как и пятнадцать лет назад, когда мне было шестнадцать… та же кухня, и мы в очередной раз расстались с моей первой любовью, Женечкой. И я точно так же сидела за этим столом и ничего, ничего не чувствовала. Как будто космос раскололся на атомы. Как будто не осталось ничего, даже меня самой.
Плачущие на груди друг у друга подружки – это откуда-то из области любовных романов. Мы с Катькой просто сидели в разных углах кухни и молчали. Я ей ничего не рассказывала. И так все было понятно. И я не плакала. Точнее, не при Катьке. Катька говорила, что нельзя сдаваться, что надо бороться за свое счастье. Бороться за свое счастье я не умела. Зато радостно размахивала черным флагом на бесконечных пикетах и митингах, борясь, как я думала, за чье-то чужое счастье.
Бороться за собственное счастье, как выяснилось, не умела и сама Катька.
Так что мы с ней остались на равных. Теперь, когда нам обеим за тридцать, мы с ней среднестатистические одинокие женщины. Катькино собственное годовалое счастье спит сладким сном в дальней комнате.
- А где обретается счастливый отец?
- А, - говорит Катька. – Живет со своей семьей. Двое детей, между прочим.
- Ну ты смелая! В наше-то время. Одной родить.
- Ага, а я так обрадовалась, когда узнала, что беременна. Мы с ним пять лет встречались. Он даже хотел из-за меня из семьи уходить.
- Что ж не ушел?
- Ну вот не ушел. А так серьезно всем друзьям ходил рассказывал, как мы, мол, с Катей будем жить вместе.
- Он вообще чем занимается?
- Ремонты делает.
- То есть с деньгами все хорошо?
- Хорошо, ага. Он и мне тут целый евроремонт сделал, - едко говорит Катька и окидывает взглядом кухню. – Языком.
- А как отреагировал на ребенка?
- А никак. Позвонил, попросил, чтоб с его женой я сама поговорила. Я, говорит, хочу спать спокойно. Я ему говорю, ты, мужик, больше никогда не будешь спать спокойно. Ну и все, а потом я так успокоилась, расслабилась. В Египет слетала. Накопила денег. Живем.
- Катьк, вот зачем мы спим с женатыми?
- А с кем? Нам ведь не шестнадцать.
Я молчу. У нас впереди долгий августовский вечер. И у меня достаточно времени, чтобы рассказать ей и про свои шестнадцать, и про свои не шестнадцать, и про Ника, и про Женечку, мою первую любовь, и про этого мерзавца.
16
Меня даже звали по-другому, когда мне было шестнадцать.
Меня звали Ежиком.
Люди из тех времен пытались называть меня точно так же и много-много лет спустя. Мне было странно это слышать. Они произносили мое старое прозвище, и я вздрагивала.
Я больше не делаю таких вещей, которые делала Ежик – смешная неуклюжая стриженая девочка на черно-белой фотографии, закутавшаяся в черный флаг, в каких-то нелепых разрисованных фломастером джинсах. Это не я. Теперь я смотрю на эту чокнутую девочку-подростка – и совсем ее не понимаю.
Когда Ежику было шестнадцать, ей было больно жить.
Каждое утро она выходила на улицу, и ее щеки до слез обжигал едкий и ледяной воздух свободы. Каждый вечер она засыпала, захлебываясь от слез и восторга.
Она все время была влюблена. Во всех подряд. В Женечку, в панков, в анархию, в революцию. К шестнадцати годам ей по горло хватило общения с государственной системой в лице школы, деревянных учительниц, которые лупили указками по пальцам своих перепуганных учеников, смотров песни и строя в пионерских лагерях, линеек и всеобщей уравниловки. К шестнадцати годам она сознательно возненавидела все то, что до этого вызывало лишь подсознательное раздражение: ментов, бодрых комсомольцев, душных бюрократов, дедушку Ленина и его заветы, портреты членов Политбюро в школьных коридорах и всю зубодробительную, бездушную государственную систему в целом. Мертвый, продажный, показушный фальшивый официоз. Это все видели. Даже слепой бы это увидел. Просто никто не говорил об этом вслух.
«Почему нас пытаются воспитать послушными, серыми и безъязыкими? – рассуждала про себя Ежик. - Кому нужны люди-роботы, не чувствующие, не жалующиеся, не имеющие никакого собственного мнения? Кому нужна идеальная рабочая сила? Государственной системе. Или же рабовладельческой системе. Что, в общем, примерно одно и то же.
Кто стоит за этой системой? Кучка жадных, бессовестных мразей.
Горстка людей с непомерными амбициями и неуемными желаниями».
Пусть они остаются у власти, думала Ежик. Пусть воруют и богатеют дальше. Пусть делают что угодно, лишь бы это не коснулось лично меня.
Но то, что делала власть, касалось всех.
Ночами Ежик читала, ныкаясь от бабушки с фонариком под одеялом, Кропоткина и Льва Толстого, путаясь в мудреных текстах, пытаясь понять, можно ли убежать от этой системы. Мэтры русского анархизма не давали ответов на такие личные вопросы. У них все было обобщенно. Так что Ежик думала сама. И придумала. Ее никто этому не учил.
Как выяснилось, скрыться от системы все-таки было можно. Убежав к таким же отмороженным, таким же полубезумным маргиналам.
Так что в начале девяностых она была не одна.
Черт, лучше я не буду в третьем лице, так неудобно.
В общем, нас действительно было мало. Жалкая кучка панков, каких-то приблудных хиппи, и еще меньшая горстка интеллектуалов, которые мнили себя революционерами.
Мы называли себя первыми постсоветсткими анархистами.
Мы называли себя истинными авангардистами и панками.
Каждый из нас, как казалось, творил свою маленькую революцию. У себя в школе, в училище, в институте, на работе. Самые отчаянные, бросив аспирантуры, уходили в дворники, чтобы никакая система не мешала им быть свободными.
Всем хотелось одного и того же. Всем хотелось жить без страха за свои желания.
И в какой-то стремительный момент мы поверили, что в один прекрасный день нам удастся перевернуть вверх тормашками этот мир и построить общество, в котором не будет ни ментов, ни ОМОНа, ни чиновников, ни государства. Останется только развеселая компания свободных и смелых людей. Нас.
В это верила и я. Верил, как мне казалось, моя первая любовь, Женечка. Верил Ник. Не помня о том, что в мире оставались еще миллионы тех, которым не нужна была свобода. Которые не хотели ничего менять.
А мы забыли спросить их мнения.
Короче, революции не получилось.
Ник
Раз в неделю я, словно по расписанию, звонила Нику. Потому что каждую неделю у меня случалось что-то, о чем, как мне казалось, обязательно нужно было ему рассказать. Что-то такое, от чего захватывало дух, щекотало в носу, а в глазах щипало от не вовремя брызнувших слез.
Каждый раз, когда сердце подскакивало до гортани, грозилось выпрыгнуть из груди от восторга, я звонила Нику. В шестнадцать лет так бывает часто: сердце то готово скукожиться и рассыпаться в прах, то становится больше, чем небо. Ник всегда был рад меня слышать. Я сбивчиво вываливала на него тонны своих бессвязных и не таких уж важных новостей. Ник слушал, поддакивал и хохотал в ответ.
- Ник, слушай… Ты не поверишь, что вчера было. Просто не поверишь. Мы наконец сделали это интервью с Кинчевым.
Моя подружка Олеська была влюблена в Костю Кинчева и мечтала о карьере светской журналистки. Мне же было просто нечем заняться, и я шаталась по рок-концертам с ней за компанию.
- Верю. Ну рассказывай, как это произошло.
- Ну как. Приезжаем в Лужники. Концерт памяти Цоя. Заведующий шоу – Юрий Айзеншпис. Показываем письмо от главного редактора «Свободы». Я прописана как корреспондент, Олеська – как фотокорр. Он дает только одну проходку, Олеську мою посылает на хутор угрюмого Юргена…
Ник смеется:
- Как ты сказала? Я запомню.
- Я пытаюсь состроить ему глазки. Он не реагирует. А потом меня под локотки выталкивают из кабинета два мальчика. Один такой беленький, со стрижечкой. Второй такой черненький, с хвостиком. Я им тоже глазки строю, они тоже не реагируют. Как называются люди, которые не реагируют на меня?
- Дураки?
- Нет. Они называются пидорасы. Понуро опустив головы, мы с Олеськой идем по улице, видим автобус, на котором написано «Калинов мост». Подходим, говорим, ребята, а у вас не будет лишней проходки? Они говорят, не вопрос, только не журналистская, а гостевая. Мы говорим, нам хоть какая. Дали гостевую. Прорвались мы на концерт. Все прослушали. Бегали по коридорам, делали блиц-интервью. Олеська опять умудрилась напиться. У нее потрясающий талант напиваться в рекордные сроки в незнакомом сообществе. Я ее бросила, села в уголке, сижу пальцем кассету перематываю. Чтоб не сажать батарейки. Мимо бежит дядька. По виду – явно музыкант. Джинсы, бандана на голове. Смотрит на меня. Что это, говорю, вы на меня так смотрите? А он говорит, а потому что вы мне нравитесь. А вы, говорю, кто такой? Он аж возмутился. Как это, говорит, вы не знаете, кто я такой. Я Михаил Чернов, саксофонист «ДДТ». О, говорю, круто это. Идите сюда. Будем дальше знакомиться. Телефонами обменялись. Ну и убежал он. Некогда там было большое интервью делать. Потом после концерта прорвались мы к «Алисе» в гримерку. Народу туда понабилось… И все с диктофонами. Окружили Кинчева и стали пытать. Ну и я про анархизм кучу вопросов назадавала. А он сказал, что политика – это большая проститутка. И Олеська тоже периодически выкрикивала нечто невразумительное. Костя, говорит, ты что, не понимаешь, что ты на грани? На нее так все косо посмотрели. Особенно жена Кинчева. В общем, плохое получилось интервью. Недоброе. Мы его расстреливаем вопросами, он нас – ответами. Хотя и не нравился он мне никогда особенно. Не люблю этих… звездунов. Болеющих звездной болезнью. Я ей сама болею. Второй – лишний.
- Ты молодец.
- Молодец-то я молодец, только ноги в кровь натерла. А нам с Олеськой сегодня на концерт «Калинова моста» в Дмитров ехать. Мы им обещали. Как я туда поеду, я себе не представляю.
- А ты встань на ролики, и пусть Олеська везет тебя за собой на веревочке.
- Это мысль. Осталось достать ролики.
- А ты вчера утром была на конференции?
- Была, куда ж я денусь.
- Видела Женю?
- А как же.
- Не помирились?
- Нет. Я подумала, вот, чувак, у тебя сегодня последний шанс. Если не подойдешь ко мне и не попросишь прощения, то все, ***ец. Он не подошел. Выводы? Все, ***ец. Все могут спать спокойно.
- Ну и правильно, - сказал он.
Мне не показалось: в его голосе чувствовалось облегчение.
С Женей, моей первой любовью, мы помирились на следующий день.
16
Женечка, моя первая любовь, тоже был легендой. Его знал весь неформальный бывший СССР. «Вы не знаете, кто такой Женя? – писали про него в наших левых газетках. – Вы еще спросите, кто такой Кропоткин». Женя называл себя настоящим революционером. Каждое лето он уезжал на экологические акции – бороться с системой и спасать природу. Каждую осень он возвращался героем. Каждую зиму он встречал пришлых анархов – из Германии, Польши, Австрии, Америки – и рассказывал им про свои подвиги. Анархи, сверкая круглыми, модными тогда заграничными очочками, умно кивали, записывали его слова и печатали в своих безобидных иностранных газетках. Потом они уезжали, а он оставался вершить революцию дальше, рассказывал мне, как будет здорово, если мы все-таки организуем сопротивление, перевернем этот город с ног на голову, перекроем информационные коммуникации, заставим людей перестать верить власти.
Власти к тому времени уже никто не верил. Как, впрочем, и Женечке. Но при этом никто не спешил строить сознательное общество свободных людей. Люди возносили Сталина, ждали нового царя, мечтали о жесткой руке – и пробавлялись редкими и жалкими подачками изжившей себя системы. Женечка смеялся, забрасывал ОМОН дымовыми шашками, лез на баррикады и каждый раз чудом избегал милицейского привода.
Мне хотелось ходить на эти акции с ним. Мне вообще хотелось навсегда остаться с ним. Но я - по его понятиям - была слишком маленькая для подобных увеселений. Он говорил мне, что это опасно, очень опасно. На серьезные акции он меня не брал. Он пытался спорить со мной, доказывая, что таким образом он обо мне заботится. Я кивала и делала вид, что верю. Он уходил на очередной пикет, а я тоскливо обзванивала своих панков.
Женечка, моя первая любовь, все время от меня уходил. Он уходил на конференции, оставляя меня дома: «Ты еще маленькая, Ежичек. Тебе только шестнадцать, ты все равно ничего не поймешь». Он уходил от меня на бесконечные и бессмысленные демонстрации протеста: «Ты еще маленькая, Ежичек. Тебе только шестнадцать, я не хочу, чтобы ты рисковала». Он уходил от меня просто в ночь, срывался по каким-то звонкам, не объясняя, куда и к кому. «Ты еще маленькая, Ежичек, ты не поймешь, я не могу тебе объяснить». Он уходил от меня осенью, зимой и весной. Целый год. Долгих тринадцать месяцев. В конце того лета он ушел окончательно.
Все то время, что мы провели вместе, я тоскливо ждала расставания. Поэтому я не была счастлива ни с ним, ни без него. До меня у него была Ева. Впрочем, кому я вру – Ева была и во время меня, и после.
- Когда ты решишь уйти, Женя, ты можешь мне ничего не объяснять, я пойму.
- Как же ты поймешь, Ежик?
- А вот так. Я почувствую. Все же видно. Все на лбу написано.
- И что сейчас написано на лбу у меня?
- То, что ты не любишь меня больше. И тебе со мной неинтересно.
- Это не правда. Я тебя люблю.
- Пока ты спал, я хотела уйти.
- Если бы ты ушла, я б повесился. Хорошо, что ты не ушла.
- Я не ушла. Я сделала чай.
Терпкая английская заварка плеснула в чашку. Я ничего не могла без него делать. Гулять. Смотреть кино. Даже пить чай. Пока он спал, я перемыла посуду. Накормила кота. Заварила чай. Тоскливо смотрела на хлеб и печенье. Хотела есть. Сидела голодная и ждала, пока он проснется.
Заварка в чашку… долгий, резкий телефонный звонок. Один, два, три…
Есть резко расхотелось.
- Не подходи к телефону, - говорю я. – Это звонит Ева.
- Откуда ты знаешь? – говорит он.
Я жму плечами.
- Знаю.
Зажмуриваю глаза и дальше воспроизвожу реальность по звукам.
Шлепанье тапок.
- Алло?
Пауза.
- Зачем ты звонишь?
Пауза.
- Боже мой, какой Череповец?
Пауза.
- Я не могу.
Пауза.
- Нет, ее здесь нет. Это не из-за нее.
По-прежнему не открывая глаз, я кричу на всю его огромную квартиру:
- Это из-за меня! Я здесь!
Я сижу на табуретке, прижавшись спиной к холодной кафельной стенке. Сейчас он закончит разговор, и мы в очередной раз поругаемся. В очередной раз навсегда. И он снова уйдет к Еве.
Шлепанье тапок.
- Зачем ты вмешалась?
Я медленно разлепляю глаза.
- Женечка, я тебя очень люблю, но я тебя брошу.
- Дура ты, Ежик. Она звонила, чтобы позвать нас в экологический лагерь в Череповец. Ты – параноик. Это был деловой звонок. Ничего личного.
- Она звонила, потому что хочет тебя вернуть.
- Со следующей недели наши сидят в Череповце.
- Что там?
- Как всегда, металлургический завод.
- Что надо делать?
- Тоже как всегда. Собирать статистику, писать в министерство. Звонить журналистам.
- Устраивать голодовки, захватывать кабинет дирекции… - продолжаю я список.
- Палаточный лагерь стоит два месяца. До осени. До сентября.
- Отлично. Ты едешь?
- Я же сказал ей, что не могу. Ты слышала. У меня на носу поступление в аспирантуру, у меня билет в Испанию, какие акции?
- Еще я слышала, как ты сказал ей, что меня здесь нет.
- Слушай! – взрывается он. – В конце концов, это я ее бросил! Зачем мне ее травмировать?!
- Знаешь, - медленно говорю я, окидывая глазами комнату в поисках сигареты, - иногда мне кажется, что меня и вправду нет.
Ник
- Никитос! Ты не поверишь, что вчера было! У нас опять получилось!
- У вас с Олеськой?
- Ну а с кем? В общем, мы приезжаем в «Крылья советов», там эта сборная солянка, рок против наркотиков, пчелы против меда…
- Как ты сказала? Надо запомнить! – смеется голосом Ника телефонная трубка.
- Тусуются журналисты, пара морд знакомых, до пресс-конференции час, и на самом интересном месте выясняется, что аккредитации надо было получать заранее, по письму из редакции, и стоят они триста рублей. Ник, ты слышал? У меня стипендия – сорок пять.
- И что же вы?
- Ну мы потоптались, а потом я говорю – Олеська, пошли в ментуру. Она мне – ты что, Ежик, сбрендила. Я говорю – я знаю, что нужно делать. Главное, стой рядом и пасть не открывай. Молчи. Идем. Заходим в ментуру, вот, говорим, а где у вас тут самый главный мент? К нам приводят мента. Сразу видно, что главный. Большой такой, и усы как у Буденного. И тут я прячу Олеську за спину, делаю жалобные глаза и начинаю… Вот, мол, товарищ милиционер, мы корреспондентки молодой профсоюзной газеты «Свобода». Нас очень долго регистрировали коммунисты – когда еще были при власти… И потому у нас пока нет корреспондентских удостоверений… И, соответственно, аккредитаций… Потому что нас так долго регистрировали коммунисты… А у нас радикальная профсоюзная газета «Свобода»… И вот еще нет и аккредитаций… Но только нам очень нужно попасть на концерт и пресс-конференцию!!! А он рассмеялся, так бы, говорит, сразу и сказали, взял под белые ручки, и на прессуху провел, и на самый первый ряд усадил. Остальных журналюг еще даже в зал не пустили, а мы уже. И еще сказал, что если какие проблемы, чтобы обращались. Вот и такие менты бывают, представляешь?
- Не представляю, - смеется Ник. – Тебе везет на ментов. Ну рассказывай дальше.
- А дальше была прессуха, я спросила у Сукачева, не хотят ли они сделать нечто типа «Рок за свободу политзаключенных», потому что, если они вдруг не знают, то пусть знают, что двое анархистов по фамилии Родионов и Кузнецов уже почти год незаконно содержатся под стражей, и они сказали, что про таких не знают, но хорошо бы, потом мы смотрели концерт, потом добрались до гримерки Кинчева, он вроде нам пообещал интервью, Олеська очень хотела, но только под конец все равно нас послал. А я его. Говорю – вот были бы мы из «МК», вы бы нас не послали. А так – конечно, кого **** крохотная профсоюзная газета «Свобода»? А он отвел глаза и сказал, что вообще не дает интервью. Олеська плакала. Напилась потом, естественно.
- Олеська много пьет, - задумчиво говорит Ник.
- Нормально она пьет, - обижаюсь я. – Может и больше.
Ник вздыхает.
- Ну что еще у тебя новенького, Ежичек?
- А больше и ничего. Вчера с Олеськой загорали в карьере и все обгорели. Самое обидное, что у меня теперь, кажется, начинается ангина. Медик, блин. Сапожник, называется, без сапог.
- Что же Женя не приедет тебя вылечить?
- Потому что Женя уехал в Испанию…
- Тогда приеду я.
- Когда?
- Скоро. Ты жди. Что тебе привезти?
- Привези мне, - говорю я, - булочку с маком.
- Хорошо, - говорит Ник.
- И вообще, - говорю я. – Приезжай ко мне всегда. И всегда привози мне булочки с маком.
Катька
Катька подливает нам вина и хихикает.
- Вот ты же вроде добрая. Ты врач. Ты типа жизни спасаешь. А в школе меня обзывала каланчой. Вот зачем?
- Угу, - хмыкаю я. - А помнишь, как ты в шестом классе писала мне записки якобы от Калашникова?
- Ага. А я тебе налила за это потом чернил на парту. Дура я была, дура…
- А еще ты тогда первый раз вены резала.
- Кать, ну прекрати… Да мало ли я когда вены резала… На самом деле и не резала, так, поцарапалась. Хотела посмотреть, что это. Я тут недавно читала статью про каттеров. Это, как правило, подростки, которые не могут справиться с собственными переживаниями. И чтобы как-то уменьшить душевную боль, они переключают свое внимание на боль физическую. Вот, это оно. В данном случае как раз про меня. А помнишь, как мы с тобой в девятом классе опять из-за Калашникова разругались? Ты еще тогда сказала, что ты мне его не отдашь и будешь бороться за свое счастье?
- Это когда ты в ответ опять порезала вены? Помню.
- А вот так. Потому что я – не борец за свое счастье.
- И, главное, разобиделась, ушла домой, а потом позвонила, сказала, что сейчас умрешь. Я к ней прихожу – лежит вся в крови. Но, что самое смешное, дверь оставила открытой.
- Ха! Ты думаешь, я прямо без сознания лежала? Там маленький совсем порез был, даже до вен не достало. Я специально устроила весь этот театр. Чтоб тебе стало стыдно.
- Сколько нам лет тогда было?
- А? Четырнадцать…
- Ну ты и сволочь…
- А сама? Зачем сказала, что идешь с ним на свидание? Ты же знала, что он мне нравится.
- Да я пошутила, не было никакого свидания. Я просто тебя позлить хотела.
- Ну а я тебя. Вот мы были с тобой дуры. А Калашникова-то того вскоре потом убили. Из криминальных был. Из числа нашей братвы районной. Так что зря мы так из-за него ругались. Все равно никому бы не достался. Тебе не кажется, что эта ситуация весьма показательна?
- В плане?
- В том плане, что если кто-то кого-то пытается наебать, то это процесс всегда двусторонний.
- Точно. Да, точно. Так и есть.
- Вот если мужчина изменяет своей жене, неужели ты думаешь, что она ничего не чувствует?
- Думаю, что чувствует. Думаю, что она сама изменяет ему с тем же успехом.
- Ну вот ты, когда спала со своим женатым, ты ведь не думала всерьез, что он выполнит свои обещания и уйдет к тебе от жены?
- Нет, конечно. Я просто хорошо проводила с ним время.
- И зная, что у него есть жена, с которой он, по всей видимости, по-прежнему спит, ты могла себе позволить сходить от него налево?
- А то ж!
- А почему?
- Потому что я так хотела. Потому что любовь любовью, а перед этим человеком у меня не было никаких обязательств.
Ник
Раз в неделю, по четвергам, мы собирались у Ника. Горстка интеллектуалов и я, случайно забредшая туда по наводке Женечки, своей первой любви. Анархисты-интеллектуалы были гораздо старше меня и сплошь умнее. Они обсуждали французскую революцию. Я сидела и молча слушала. Мало чего понимала. Но все равно гордилась. Сопричастностью.
Хотя с панками, конечно, было гораздо интереснее.
С панками мы никогда не называли друг друга по именам. Их заменяли погоняла.
Ежик, Шершень, Удав, Кристмас…
Однажды Кристмас занес в метро перевязанную бечевкой коробочку.
Мы ехали в другом вагоне, висели на поручнях и с интересом наблюдали за представлением.
В том вагоне, в котором ехал Кристмас, было всего четыре человека.
Он подошел к какому-то мужику и спросил, есть ли у того спички.
У мужика не было.
Кристмас достал из кармана спички, дал ему, наклонился и тихо сказал ему на ухо: «Семнадцатый не пришел, взрывать будешь ты».
Двери начали закрываться, и Кристмас выскочил из вагона.
Мужик побелел. Держа в руках злосчастную коробочку, он на цыпочках обошел всех пассажиров. Пассажиры отворачивались и пожимали плечами.
На следующей станции мужик вышел. Держа двумя пальцами за веревочку эту коробочку, он подошел к толстой сонной тетке, которая сидела в будке под эскалатором. Тетка выслушала его, отшатнулась, бочком выбралась из будки и, переваливаясь бройлерными боками, бросила свой эскалатор и убежала в неизвестном направлении.
Мужик стоял и ждал.
Минут через пятнадцать откуда-то пришагал бодрый блюститель порядка.
Отдал мужику честь, двумя пальцами взял за веревочки коробочку и ушел.
Мужик с облегчением выдохнул, перекрестился и побрел восвояси.
Тайну знал только Кристмас.
В коробочке был просто песок.
На дворе безумствовал девяносто первый год.
Ни взрывов, ни чеченцев, ни Усамы, ни Аль-Каиды.
От таких забав всем было смешно.
Но люди, которые по четвергам собирались дома у Ника и обсуждали французскую революцию, не промышляли такими забавами. Они вообще редко пересекались в обычной жизни – анархисты-панки и анархисты-интеллектуалы. Теоретики. Только на каких-то глобальных сборищах, акциях, пикетах… А мне нравились и те, и эти.
Ник был из числа интеллектуалов.
Ник был заводилой.
Только на первый взгляд казалось, что все как-то сообщаются сами по себе. На самом деле центром, полюсом и сердцем движения был Ник. Просто это было незаметно.
Зимой мы собирались в его крошечной квартирке в историческом районе на севере Москвы.
Летом колесили по подмосковным лесам. Собрать всю толпу и вывезти на природу – это тоже была идея Ника. Геофак, что тут скажешь… Романтики…
В лесах, как оказалось, бойко отмахиваясь от комаров, с тем же успехом можно было обсуждать и Бакунина, и французскую революцию, и стихи Маяковского и Хлебникова. Еще более интересным занятием было разбиться на маленькие группки и разбрестись в разные стороны. Кроме любимой всеми революции, у каждого существовали еще и личные симпатии. Женечка, моя первая любовь, рассказывал про Испанию, из которой вернулся пару дней назад, веселый и загорелый, в красной майке CNT. Его слушали немного с восхищением, немного с завистью. Мы не считали себя такими уж отчаянными леваками. Мы шалили, но в рамках закона. Или чуть-чуть его нарушая, но на это, озабоченное другими делами, государство закрывало глаза. Мы просто веселились. Мы не были настоящими революционерами. Случались люди и покруче. Даниэль Кон-Бендит. Ульрика Майнхоф. Или та же Фанни Каплан. Или греческие товарищи, с которыми Женечка познакомился в Испании. Они могли выйти на улицы и позволить себе забросать полицейский участок коктейлями Молотова. Он это видел. Мы – нет. И вряд ли были бы на такое способны. Наша революция опять оказалась слишком хрупкой и нежной для северного климата.
…Я отмахивалась от комаров.
Ник стоял, облокотившись о березу, и грустно улыбался.
- Я опять не успел тебя перехватить. Ты опять с Женей…
С моей первой любовью, Женечкой, у нас было состояние начала конца.
Кончалось лето. Он вернулся из Испании и снова попросил прощения. Я его простила. В лес мы прибыли вместе.
А теперь я растерянно оглядывалась по сторонам и не могла его найти. Он ушел куда-то в чащу вместе со своей бывшей. Кому я вру? Вместе со своей любимой женщиной. С Евой.
- Ник, - отводя глаза, проговорила я. - В следующий раз обязательно перехватишь. Мы все равно с ним скоро расстанемся. Причем уже с концами. Осталось, честное слово, недолго. И вот тогда…
- Откуда ты знаешь?
- Не знаю, откуда. Просто знаю.
Он погладил меня по щеке.
Мне было стыдно.
Мама-анархия
Но глупо было бы сказать, что анархисты-теоретики только и делали, что прятались по кафедрам и квартирам, думая над тем, как создавать идеальное общество, а на долю панков приходились уличные выступления и драки. Нет, все было как раз с точностью до наоборот. Теоретики придумывали что-то – и шли под ментовские дубинки первыми. За ними вторым эшелоном шла толпа панков. В отделения с героическим гиканьем попадали как первые, так и вторые.
Кто-то говорил – а давайте, и все соглашались и шли вытворять непристойности.
А давайте распишем вагоны метро из баллончиков. Нарисуем нашу любимую букву А в круге, черную кошку и бесконечные лозунги: «Объединяйтесь!», «Не позволяйте власти насиловать вашу свободу!», «Косите от армии!»…
А давайте обкидаем тухлыми яйцами стоящего на броневике Жириновского.
А давайте приколемся на первое апреля и пронесем по улицам Москвы гроб с телом народа, погибшего в борьбе на выборах Горбачева-Ельцина. За что моя первая любовь, Женечка, заработал сотрясение мозга, а Кристмас – первый привод и административное правонарушение.
Мы радостно выбегали на улицы.
Под ментовские дубинки.
Но почему-то было не страшно.
Видимо, не по-настоящему, как-то по-игрушечному мы бунтовали.
Мы глотали по-весеннему резкий воздух свободы и понимали, что теперь можно творить все что угодно. Все то, чего не было позволено китайским студентам, которых раздавили танками на площади Тяньаньмынь. Они тогда, наверное, как и мы, созванивались, встречались, что-то планировали, о чем-то мечтали, рисовали плакаты и верили в то, что дышат воздухом свободы. Но они погибли, а нам не верилось в то, что постсоветское государство сможет пустить танки на нас.
И у нас не возникало вопросов, зачем это все.
По-другому и быть не могло.
Устроить голодовку памяти погибших на Тяньаньмынь в 1990-м.
Перед МГУ на лужайке собралась невообразимая толпа левацкого народу.
Собралась просто, без понтов.
Без революционного пафоса.
Чтобы сказать «Мы помним».
Потому что разве можно было забыть такое? Разве можно о таком было молчать и делать вид, что мир остался прежним?
Это не мои слова. Это говорил Ник.
В 1991-м уже обошлись без голодовки. Пели песни. Играли в футбол. Размахивали черными знаменами.
Мы грели воду над кострами, разведенными прямо на асфальте, курили и встречали рассвет. Перед рассветом стало прохладно, мы ежились и тянули к костру окоченевшие руки. Выдыхали в прозрачный утренний воздух сигаретный дым вперемешку с паром. Ранним утром город казался не таким наглым, не таким злобным. Он был трогательный и сонный, практически пустой, без базарных тетушек в метро, без продавщиц из продовольственных магазинов с травленными гидропиритом волосами и ядовито-красными губами, без чиновников, бюрократов, ментов, гопников и прочей грязи и скверны.
По палаткам спали, разметав руки, наши пьяные панки.
Кто-то решил сварить кофе, но кофе оказалось мало, и в замызганный котелок ухнули еще и пачку с чаем. Вместо сахара по ошибке всыпали манки. Когда поняли, что это – манка, высыпали ее всю. Каша получилась вкусная. Панки, продрав глаза, торопливо ели ее из котелка прямо руками. Только удивлялись, почему она коричневая и в ней попадаются чаинки. Но все равно нахваливали. Говорят, что в цивилизованном мире уже давно не голодают. Наши панки были вечно голодными. Наверное, те, кто составляет статистику, не посчитали панков.
Утром Кристмас притащил на нашу полянку журналистов.
У «МК» мы стали любимчиками.
Про нас печатали статьи и шлепали наши фотографии на первых полосах.
Мы разрисовали дурацкими надписями весь асфальт.
Встали под фотокамеры под черными флагами.
Наши физиономии опять появились в газетах.
Не знаю, изменило ли это что-то в мире.
Читал ли кто-то о нас.
Слышал ли.
Мы видели только друг друга и были этим счастливы.
Просто существовать среди анархистов было достаточно для того, чтобы быть счастливыми.
Как выяснилось позже, именно Ник организовал голодовку 1990-го. Как и собрал тусовку 1991-го. Нам было весело. Нам было прикольно. И никому не важно было знать ключевых имен.
Мы и не знали.
А ему не нужна была самореклама.
Обыкновенный панк
1991
Версия Ежика
Люди, которые засвечивались в одной акции, обязательно засвечивались и в другой, и в третьей. Кроме политики, левые совались и в экологию, и в правозащиту, и просто прикалывались. Прикалывающиеся гордо именовали себя ЭТИ – Экспроприация территории искусств, без бутылки и не выговоришь, а главное – никто не мог понять, что же это такое. Этого не могла объяснить даже я. Разве что вспомнить пару развеселых оранжевых акций. Искусство такие экспроприировали. И вернули тому, кому оно принадлежит, - народу. В съедобной для него форме.
Самая красивая и масштабная по своему идиотизму акция – это, конечно, выложенное телами тринадцати безбашенных перцев слово «» посреди Красной площади. Наутро они проснулись знаменитыми – и с административными судимостями. Убежать удалось только Кристмасу – он выступал в роли хвостика над И кратким. В школе, как говорил Кристмас, он занимал первые места по бегу на стометровки. Видимо, помогло.
Зачем они это делали? Этого я тоже не могла объяснить.
Просто так.
Просто чтобы было весело.
Потому что на дворе девяностый, и в магазинах практически нету жрачки, и старые рубли молниеносно и уверенно теряют свою ценность… И у метро одна за другой открываются ночные палатки, а утром эти палатки находят сгоревшими, выжженными дотла, с одним лишь черным железным каркасом… И на улицу выходишь как в космос, не зная, что будет дальше, кого встретишь и вернешься ли вечером домой… Потому что дворовая гопота вечерами в проулке караулит одиноких девок и затаскивает их на тринадцатый этаж недостроенной башни, а детские сады не отапливаются, и из школ уходят учителя… И вот посреди всего этого тринадцать идиотов выкладывают слово «» на Красной площади. У панков было своеобразное чувство юмора. Общественность недоумевала и крутила у виска пальцем. А мы смеялись. Практически до почечных колик.
После этого Шершня и Кристмаса как представителей молодежных неформальных течений пригласили на какой-то очередной съезд с участием гостей с Запада, и они до кучи прихватили и меня, а я уже не помню, откуда взялось пиво, мы пили его прямо у входа в «Моссовет», а потом еще и взорвали косячок, тоже непонятно откуда материализовавшийся, выкурили по сигарете и пошли в зал, а в зале все было украшено фотографиями героических будней Советской России, и мы бухнулись прямо на первый ряд, на сцену вышла бодрая комсомолка и с типичным радостно-идиотическим выражением лица поприветствовала нас и сказала, что к нам приехали американцы, как раз на выходе американцев на сцену Кристмас, гордо развалившийся на первом ряду, начал блевать…
Незадолго до этого в Доме кино шел фестиваль комедийных фильмов, и один день был полностью посвящен старым фильмам, в которых кидались тортами, и ЭТИ всей когортой пришли на фестиваль, у каждого в руках по тортику, они зашли в зал и на самом интересном месте стали кидаться тортами в не готовых к такому повороту событий зрителей… Говорят, киношным мэтрам досталось больше всего… Так что какая разница, кто мы были такие, панки ли, анархисты, анархо-коммунисты, анархо-синдикалисты, мы были дети, не успевшие наиграться при Совке, насмотревшиеся на железобетонных учительниц и деревянных завучей, истеричных воспитательниц и зомбированных пионервожатых и комсоргов, это не было ни самоутверждением, ни декларацией прав, ни борьбой за независимость, ни местью, ничего подобного, все это называлось «оранжевые акции», но с тем же успехом это можно было бы назвать любым другим словом, к примеру, «игры в песочнице», нам было весело, просто весело…
16
Не было двух людей на этом свете, более похожих, чем я и Женечка, моя первая любовь. По крайней мере, так мне казалось, когда мне было шестнадцать.
Вокруг меня, помимо него, постоянно кружились какие-то мальчики… Какие? Трудно вспомнить. Все так смутно. Как у Булгакова – «Варенька, Машенька…» Я даже не утруждала себя тем, чтобы запоминать их всех по имени.
Меня бесили их имена.
Я ненавидела эти сочетания звуков.
Никита, Вадим, Кирилл, Ваня… Я не могла выговорить слово «Никита». Звук обрывался на Ник. Имя Вадим я тоже не могла произнести. Какая мерзость, думала я. Вадим. Как будто переворачиваешь языком во рту кошачью какашку. Погоняло – совсем другое дело. Вместо Вадима в воздухе вибрировало хлесткое и звонкое Кристмас.
Кирилл… Какое острое, неудобное имя. Мне больше нравилась его кличка Шершень.
Ваня… Какой еще Ваня? Я не знала никакого Ваню, я знала Удава, самого отчаянного из нас четверых революционера, самого преданного и отъявленного борца за свободу.
Но я не могла ненавидеть свое собственное имя.
Мою первую любовь звали так же, как и меня.
У нас было на двоих одно и то же имя. Моя первая любовь, Женечка, так же любил срывать на ходу листья, имел такие же серые глаза, такую же дату рождения – двенадцатое июня - безумные, лицемерные, лживые Близнецы - и так же, как и я, не вписывался ни в одну социальную прослойку.
Неформал, при этом сын посольских работников.
Мальчик-мажор, чья кровь сильно разбавлена и подпорчена революционными идеями. Но не настолько, чтобы навсегда отказываться от привычного образа жизни. Уже в то время Женечка потихоньку фарцевал, шустрил, сбагривал какие-то шмотки, привезенные из-за границы, продавцам на открытые рынки, приезжал с пачками денег, подмигивал мне и вел в дорогое кафе. Есть пирожные, пить кофе и виски.
Женечка жил в огромной квартире, уставленной дорогой мебелью и привозной техникой, с баром, полным выпивки из Duty free. Настоящий эталон богатства по-советски. По квартире с хозяйским видом разгуливал пушистый рыжий кастрированный персидский кот. Породистый и наглый.
Мне нравилось жить среди левых. Женечка учил меня выживать среди левых. Если верить Женечке, в левацкой тусовке тоже можно было сделать неплохую карьеру.
- Общайся, - говорил он, - не с теми, кто тебе интересен, а с теми, кто может оказаться полезным.
- Это как? – спрашивала я.
- Ну так. Есть же масса обеспеченных леваков за границей, которые и поддержат, и покатают по миру. Спишись с троцкистами, они богатые. Подрастешь – будешь тоже получать приглашения, ездить на всякие конференции…
Я пожимала плечами. Западные троцкисты – скучные, занудные дядьки - мне были неинтересны.
Мне были интересны свои, родные пушкинские панки, способные на любой беспредел. Насрать на памятник Ленину посреди бела дня. Что же тут невозможного, надо только надеть плащ подлиннее. Выложить телами слово «***» на Красной площади. Просто улечься и пролежать так минуту, пока не подоспеют менты. Зато после этого все газеты, все телеканалы покажут моих - наших - смелых, безбашенных идиотов, которым я втайне завидовала, потому что мне такое сделать было слабо.
После пикетов, в очередной раз чудом увернувшись от дубинок ОМОНа, мы пили в огромной Жениной квартире дорогой виски. Ели печенье, привезенное его мамой из Брюсселя, запекали курицу под соусом из розового вина, привезенным его папой из Рима, и курили сигареты «Житан», который он сам привез мне из Парижа. Визу во Францию ему сделали родители, подключив свои посольские связи. В девяносто первом это было трудно, но… Париж для нас был символом 68-го года. Золотой мечты, которой не дано было больше осуществиться ни в России, ни в Китае, нигде… В Париже Женечка, моя первая любовь, жил по сквотам и тусовался с французскими леваками.
Никто не знал, что он ездил туда вместе с Евой.
Женины родители ее проклинали.
Женины родители любили меня. У меня, как и у Женечки, несмотря на ежик на голове, из-за которого панки сравнивали меня с Шенед О;Коннор, и образование на уровне незаконченного обычного медучилища, была хорошая семья, родители-ученые и бабушка, всю жизнь проработавшая во «Внешторге». Впрочем, они полюбили бы любую другую Женину подружку, лишь бы она не была Евой.
Я до сих пор задаюсь вопросом, каково это – быть Евой и не погибнуть.
Ева была отчаянной. Мне бы так.
Ева была смелой до одурения. Как никто из наших. За редким исключением.
С пронзительными синими глазами и умопомрачительной походкой.
Скорпион, машинально отмечала я про себя. Они все такие – женщины-Скорпионы.
У меня с ними никогда не складывалось. У Жени тоже.
Женя смеялся над тем, что я верю в весь этот гороскопический бред.
Но тем не менее с Евой у него тоже не сложилось.
Ева в одиночку ездила автостопом по России. Ева была первой во всех экологических акциях. Ева организовывала пикеты за свободу слова-дела-арестованных леваков-панков-животных-растений-и-что-еще-можно-придумать, у Евы было одиннадцать административных правонарушений, и Еву за это любили все те немногочисленные леваки, которых только можно было отыскать в нашем городе, в нашей стране. Ева не умела ни одеваться, ни вести себя в обществе, ни делать карьеру в левацкой тусовке.
Еве плевать было на то, как она выглядит, где она работает, сколько зарабатывает и каков ее социальный статус.
Плевать на Жениных родителей.
И на самого Женю.
И уж, понятное дело, на меня.
Я тихо ей завидовала.
Женины родители пытались заставить его забыть Еву. Женина мама даже познакомила его с Илоной, дочкой каких-то знакомых посольских функционеров. Женины родители прочили ему женитьбу на Илоне, и тогда бы их вдвоем отправили работать в какое-нибудь посольство в спокойной стране типа Кипра или Швейцарии. Рядовыми сотрудниками. После МГИМО это было реально. Илона к тому времени заканчивала иняз. Отличная получилась бы пара.
Но Женечка не хотел связываться с Илоной. С тощей белобрысой нескладной Илоной, которую он за глаза называл напильником.
И не мог продолжать с Евой. Потому что плевать она хотела на Женины деньги, на Женины дорогие шмотки и на Женин комфорт. Ева не продавалась. Ее невозможно было купить никакими материальными коврижками. Настоящая нон-конформистка и антигосударственница.
Женя тоже считал себя нон-конформистом.
И крутился по рынкам, оправдываясь тем, что нон-конформистам тоже надо как-то жить.
И тратил заработанные деньги не только на меня, на себя, на новые тряпки, но и на революцию.
Покупал мегафоны, оплачивал типографию.
Только Ева все равно почему-то не подходила ему по статусу.
И тогда он связался со мной.
Так уж получилось.
Случайно.
Решил, что по статусу я ему подходила больше.
Конечно же, ошибся.
У меня в то время не хватало денег на комплексные обеды в столовке. Стипендии в училище меня лишили за хвосты. Последнее, что мне удалось заработать, я спустила на байкерские сапоги и новую косуху. Сапоги и косуха стоили бешеных денег. Поэтому я мыла полы в больнице, ухаживала за старушками-инсультницами, и их растерянные родственники смущенно засовывали в карман моего халата теряющие ценность старые рубли. Рубли спускались в компании Кристмаса, Шершня и Удава в кафе «Оладушки» на улице Герцена.
Я с горем пополам заканчивала второй курс.
Кроме медучилища, у меня за плечами имелась законченная музыкальная школа по классу фортепиано.
Кристмас, Шершень, Удав и еще какие-то панки сбросились и купили мне синтезатор. У них была группа «Панк-дивижн». Они хотели, чтобы я играла у них в группе на клавишах. Я играла. Они прочили мне карьеру великого музыканта.
Женечка, моя первая любовь, поступил в аспирантуру МГИМО. Родители сулили ему карьеру экономиста-международника. Анархисты тянули его на акции и предсказывали ему революционное будущее.
Он метался.
Я тоже.
Я хотела бросить медучилище.
В гробу я видела эти больничные коридоры, клизмы и беспрестанные докторские пьянки.
Я хотела играть со своими панками концерты и кататься по всем нашим русским городам и весям. Из-за поездки на антивоенный фестиваль в Минск я пропустила сессию.
Женечка хотел бросить МГИМО и нелегально уехать на Запад. Через Польшу. Делать революцию и жить в сквотах.
Но МГИМО перевесило. Он остался в Москве.
И я осталась. Потому что за игру на клавишах не платили денег.
- Может, - растерянно сказал Женечка, - мы наконец уйдем из этой левацкой тусовки?
- Зачем? – сказала я.
- Чтобы стать нормальными обывателями. Доживешь до восемнадцати, поженимся, родим детей… Будем как все.
- Как все… - тоскливо протянула я. – Вот уж никогда не хотела, чтобы как все. А революция?
- Думаешь, это навсегда?
Мне было шестнадцать. Я думала, что это навсегда.
Так что он остался в своем МГИМО. Продолжал ездить по анархическим конференциям и бегать от ментовских дубинок. Подспудно приторговывая партиями польских джинсов. Продолжал организовывать пикеты и оранжевые акции. И без зазрения совести брал деньги у западных троцкистов – о да, у Женечки были шансы стать неплохим экономистом. Как и шансы стать настоящим революционером – с нами, двуличными, лживыми, лицемерными Близнецами - такое случается сплошь и рядом. И потому Женечка продолжал торчать летом в экологических лагерях, как и все наши, замерзая в палатках, замерзая в пикетах, умирая от жары в душном плацкарте. Без меня.
Я в Москве мыла полы больницы.
Тоскливо понимая, что это не моя революция.
Ник
Ник не был похож ни на меня, ни на мою первую любовь. Он был совсем другой. Он был адекватный. Тихий. Спокойный. Умный. Его революция была бархатной, без криков и крови. Он говорил: «Был у меня и пионерский галстук, и комсомольский значок, и служение родине в рядах Советской, будь она проклята, армии. Хватит с меня этого конформизма».
И плевать ему было на всю нашу показуху.
Он выпустил собственный журнал. С комиксами и рассказами. Назвав его «НИКакие». Это было про всех нас.
Про мою первую любовь, про Еву, про девочку Ежика.
Про анархо-коммунистов и анархо-синдикалистов.
Которые сидели друг напротив друга на деревьях, разбившись на два вражеских лагеря, и перекрикивались:
- Эй, коммунисты! А у вас точно все общее?
- Точно! – отвечали анархо-коммунисты.
- А женщины у вас тоже общие?
- Это у вас, - отвечали анархо-коммунисты, - они – частная собственность.
Между двумя деревьями сидела я. Девочка Ежик.
Ник рисовал комиксы про нищих французских студентов.
- Месье, вы не дадите мне пять франков?
- Отвали.
- Месье, дайте, пожалуйста, пять франков.
- Пошел вон, мерзавец.
Нищий студент хватал богача за грудки, тряс его и кричал:
- Дай миллион, сволочь!
Богач отряхивался и говорил:
- Ну, миллиона не дам, а пять франков, пожалуй, подарю.
Под комиксом огромными буквами красовалась подпись:
- Будьте реалистами – требуйте невозможного.
Журнал ксерокопировали, передавали по рукам, читали и смеялись.
Ник не делал революции. Он ей был.
Как само собой разумеющееся.
Мама-анархия
С середины июля вдруг началась осень. Нет, не было никаких дождей, просто резко пожелтели листья и небо стало пронзительно синим, до рези в глазах.
Как там было у Есенина? «Только синь сосет глаза».
Есенин был гений.
Наши сидели в Череповце. Страна разваливалась, захлебываясь инфляцией, а наши, решив, что малая горстка отмороженных панков и хиппи сможет закрыть огромный Череповецкий завод, отравляющий нищий город, сидели там, в самом центре этого города, на газоне, перед главным входом на завод.
Разбили палаточный лагерь посреди города, развесили плакаты, собрали вокруг себя сочувствующих местных жителей и малолетних беспризорников. Периодически выкидывали знакомые всем финты ушами. Разбрасывали листовки. Размахивали черными флагами. Даже пытались во главе с Евой как-то раз захватить кабинет директора. Потом в лагере на пару дней появился Женя, и Ева спешно уехала.
Экологические акции случались каждое лето. В то лето выпал Череповец.
Я никогда не ездила на эти акции. Я считала, что я не могу себе это позволить, потому что у меня была работа, училище и дом, из которого никогда не хотелось уезжать надолго. И я боялась. Боялась ментов, приводов, дубинок по плечам; висящих над всеми нами, как дамоклов меч, административных правонарушений с перспективой отчисления из учебных заведений.
Этим занимались профессиональные революционеры. Анархисты с большой буквы А. Профи. А кто я? А я так, любитель.
Единственная причина, по которой я решилась туда сорваться, - задание партии, читай, редакции, читай, личная просьба Кристмаса. К своим двадцати годам Кристмас, несмотря на драные джинсы и ирокез, довольно бойко стал делать журналистскую карьеру. Начал со статей для маленькой профсоюзной газетки «Свобода», потом дорос до «МК». По его просьбе я встретилась со всеми, кто побывал в Череповце и уже успел вернуться в Москву. Со всеми нашими ребятами. Диктофон – маленький черный агрегат с обычной кассетой – отдыхал в рюкзаке. Мы бродили с Ником, меряя шагами мой район, по кругу, растаптывая покрывшиеся пылью скукожившиеся листья. Мне не нужно было записывать эти истории. Я их запоминала. Со всеми подробностями. Но рассказов очевидцев все равно оказалось недостаточно. Ник говорил, что по ночам Череповецкий завод выглядит как христианский рай. И в черное небо взмывают снопы разноцветных искр. А в городе стоят сплошь покосившиеся хрущобы, и каждый второй встречный ребенок, судя по виду, дебил.
- Захочешь острых ощущений, Ежик, дойди до коксохима. Мы не дошли, начали харкать кровью. Зато завод обеспечивает работой целый город. Какой, на хер, работой, на дворе инфляция, девяносто лохматый год. В общем, береги себя там. Пожалуйста. Будь осторожней.
Репортаж про Череповец будет моей первой и последней публикацией.
Кристмас, лежавший дома с воспалением легких, продиктовал мне по телефону ценные указания. По пунктам составил список вопросов, на которые мне предстояло получить в Череповце ответы. Сказал, чтобы я только набрала фактуры, остальное он сделает так, как надо. Сам.
Писать я никогда не умела.
Предполагалось, что мы поедем вдвоем с Олеськой. Олеська умела фотографировать. А я хотела поехать в Череповец не с ней, а со своей первой любовью, Женечкой. Я купила билеты. Дала отбой Олеське. Олеська повозмущалась, но простила. Олеська, предположительно будущая журналистка, хотела поехать со мной.
С Женечкой мы забились на «Комсомольской». На кольце. У Ленина.
Мы с Лениным так и не дождались Жени.
Ждали до последней минуты. И после нее – тоже.
Я продолжала ждать.
Из вагонов изрыгались люди.
Смешивались в кучку, как муравьи, и торопливо покидали станцию.
Приезжал следующий поезд и изрыгал очередную партию.
Я вглядывалась в лица.
Знакомого лица среди них не было.
Он так и не пришел.
Не знаю, почему я не побежала на поезд.
Билеты пропали. Я купила другой билет, на завтра, и вернулась домой. Позвонила Жене. И его мама сказала, что Женечка, моя первая любовь, уехал в Питер по очень важным, неотложным, срочным институтским делам.
Так что я позвонила Нику.
На следующий вечер приехал Ник.
Дать ценные указания.
Ник провожал меня на поезд. Попасть получилось только в общий вагон.
- Ежик, будь осторожна.
- Хорошо.
- Удачи.
Какая-то женщина, узнав, что я еду за репортажем, пустила меня поспать на свою полку. «Высыпайся, - сказала она. – Я-то домой еду, я еще дома высплюсь. А тебе весь день мотаться по городу».
Говорили, что чем ближе подъезжаешь к Череповцу, тем труднее становится дышать. Я спала и потому не заметила. На подъезде проснулась и стала опрашивать попутчиков. Они жали плечами и говорили, что нет ничего такого страшного. Весь СССР попередох от алкоголизма, подумаешь, какой-то Череповецкий металлургический завод. Ну и что, что средняя продолжительность жизни в этом городе – 59 лет. Зато они страну подняли. Детей вырастили. Им было чем гордиться. Так что надо уметь расставлять приоритеты.
На вокзале сквозь мутные тучи в глаза брызнуло солнце.
До палаточного лагеря, как оказалось, минут пятнадцать пешком. Не больше.
В Череповце в начале августа тоже случилась осень.
Желтые листья сухо шуршали, укладываясь камуфляжным покрывалом на пробитый асфальт.
Город – сплошь покосившиеся краснокирпичные пятиэтажки. Черные рамы. Мутные стекла. Тепло, тоскливо и уныло, как и в любой российской провинции.
Сонные, тупые глаза прохожих.
На лужайке перед проходной завода между палаток лениво растянулись наши.
Наши. Теплая волна торкнула в грудную клетку и разлилась по всему телу. Наши, это сладкое, сладкое слово. Я никогда не была вместе с ними, но я чувствовала себя сопричастной.
Я передала им банки с консервами, которые они незамедлительно опустошили. Жестянки небрежно отбросили в сторону, туда же, к палаткам.
- Ежик! – Они мне обрадовались. - Надолго?
- На один день. За репортажем.
- Так ты не останешься?
- Нет. У меня больница, там работа.
- Отмазки все – твоя эта работа.
Конечно, отмазки. Но вслух я этого не сказала.
Я же конформист. И трусиха. И у меня не хватит смелости бросить все и пойти вот так, за идею. За ура. В скольких митингах и пикетах я принимала участие? Я и сама не помню, сбилась со счету. Но это не важно. Потому что у меня ни одного привода. Ни одного административного наказания. Как говорила Олеська: «Главное в нашем деле – что? Скипеть вовремя». При малейшем подозрении на появление ОМОН мы скипали. Мы бежали так, как я никогда не бегала ни на лыжах, ни на коньках, ни на забегах на уроках физкультуры. Ближайший переулок служил нам прибежищем.
Я не была готова ни к административной, ни к уголовной ответственности.
Пусть этим занимаются профессиональные революционеры.
А я так не умела.
Я умела играть на клавишах и ставить клизмы.
Так что, думала я, я лучше довезу свой репортаж до Кристмаса, который, перекроив его и отредактировав, отдаст на публикацию в «МК». А потом – просто повезло, темой заинтересовались – мы с Кристмасом рассказали про череповецкую акцию по радио «Маяк». Звучит как отмазки. Конечно, отмазки. А вдруг, - лицемерно думала я, - вдруг так от меня будет больше пользы? А вдруг это что-то изменит?
Мне всучили граненый стакан с горячим чаем.
Сладкий, как патока, тягучий и пряный чифирь. В поездках все по-другому, даже на вкус. Чай был вкусным. Несказанно вкусным.
Вокруг палаточного лагеря скакал местный череповецкий фотограф Сергей Краузе. Щелкал фотоаппаратом. Говорил, что пытается поймать на моем лице какое-то особенное выражение. Я позерствовала, и поэтому того самого выражения он не поймал. Но наличие живого фотографа было как нельзя на руку. Фотографировать я не умела и теперь кляла себя на чем свет стоит, что не взяла с собой Олеську с ее дорогим «Кэноном». Я рассчитывала на Женечку, который, хоть и не был профессиональным фотографом, имел личный навороченный «Никон», купленный на выручку с партии каких-то вьетнамских рубашек, но Женечка так и не пришел к поезду, он объявится через две недели и соврет что-то насчет того, что не смог, не успел предупредить, взял билет в Питер в самый последний момент… это будет уже неважно.
Краузе притащил меня к себе домой. Заперся в ванной, шлепал, безжалостно разрывая дорогую фотобумагу на клочки, фотографии. В однокомнатной обшарпанной квартире одновременно околачивалось человек пятнадцать наших, оборванных, но счастливых панков и анархистов. Краузе был добрый. Пускал их всех поесть, помыться. Заставил меня, совершенно неголодную, есть суп. Потом мы поехали на завод.
Меня пропустили. Из-за Краузе. У меня не было с собой никакого удостоверения. У него же имелся какой-то волшебный пропуск.
Все ужасы завода я увидела мельком и издалека. Страшные мартеновские печи. Огромные цеха. Вздымающиеся вверх снопы искр.
Не помню, чтобы я ходила с диктофоном и что-то записывала.
Просто говорила с народом и смотрела по сторонам.
Вечером я уехала. Опять в общем вагоне. В компании пьяных череповецких гопников, свесивших грязные ноги с третьей полки. Я отдала Кристмасу репортаж. Нацарапанный шариковой ручкой в школьной тетрадке.
Через три недели он вышел.
Он назывался «Оранжевое небо».
Оранжевое небо в Череповце бывает только по ночам. Я там не ночевала. Так что я не могу сказать со всей достоверностью, что оно было оранжевым.
Но люди, которые прожили там месяц, говорили, что это именно так.
Я уехала, анархический народец остался протестовать. Каждое утро они разворачивали плакаты и говорили местным жителям: «Люди, одумайтесь. Мы уедем, вы останетесь. Это вам и вашим детям предстоит тут умирать. По экологическим показателям это мертвая зона. Протестуйте. Добивайтесь, чтобы на заводе стояли современные системы очистки от выхлопов. Добивайтесь закрытия коксохима». Люди топтались вокруг палаточного лагеря, сочувствовали, ругались, но ничего не делали. К палаточному лагерю примкнул только Краузе и местные беспризорники. После отъезда наших беспризорники превратились в панков.
А потом Шершень залез на самую высокую трубу завода. Сбоку к трубе была прикручена хилая ржавая лестница. По санитарным показателям, если на трубе находился человек, завод не мог работать. Шершень долез до верха и объявил бессрочную голодовку. До тех пор, пока местные власти не примут требования экологов.
Наши – с помощью, естественно, Краузе – раструбили об этом по всем местным газетам.
Завод встал.
Три дня местные власти молчали. Шершня не могли снять оттуда даже пожарные – слишком высокой оказалась труба. Потом заводское начальство вышло на переговоры к палаточному лагерю. Наши отдали им бумаги.
Власти обещали разобраться.
После этого народ потихоньку стал разъезжаться…
В Москве меня встречал Ник.
Он сказал
- Ежик, плохие новости. Убили Удава.
Удав, в отличие от меня, был настоящим анархистом. Панком, нон-конформистом и профессиональным революционером.
Катька
- А почему ты не подашь в суд на отца своего ребенка? Кать, это же реальные деньги, тебе всяко будет не лишнее.
- А, - машет рукой Катька. – Ну и будет он мне платить по своей бухгалтерской белой ведомости, где у него официальная зарплата сто долларов. Нужны мне эти копейки? А так я от государства получаю как мать-одиночка.
- Мать-героиня.
- Угу. И отец-героин. И потом, вот вздумаю я куда-нибудь поехать, мне не надо будет никакой доверенности получать от отца, ничего. Знаешь, как разведенные девчонки с этим мучаются?
- Не, не знаю. Расскажи.
- Да что рассказывать. Папашки упираются рогами, не отпущу, мол, ребеночка за границу, мое чадо, и за эту доверенность мамки еще и папашкам денег башляют.
- Ты думаешь, отец твоего ребенка на такое способен?
- Х! Он говорил, что он не способен отказаться от собственного ребенка, а в итоге что получилось?
- Тут не поспоришь.
- Не хочу. Вообще вспоминать не хочу. Я и фотки-то все выкинула. Пусть живет как хочет. Ну то есть я подозреваю, что рано или поздно он захочет познакомиться с сыном. Я не буду сильно противиться. Пусть только финансово в таком случае поддерживает.
Катька задумывается.
- А впрочем, есть у меня одна его фотография. Ксерокопия паспорта. Показать?
- Ну давай, - усмехаюсь я.
Катька уходит в комнату, выдвигает ящики стола, шуршит бумажками. Возвращается.
- Вот. – Протягивает мне потрепанный клочок. – Нравится?
- Угу, - киваю я. - Я б ему яйца отрезала.
Катька смеется.
Я выдыхаю дым и продолжаю:
- Если, неровен час, попадет к нам в травматологию, обязательно отрежу.
Мама-анархия
Удава убили. Это не было ни несчастным случаем, ни смертью от передоза. Это было самое настоящее убийство.
Статью про убийство Удава не напечатали ни в «МК», ни в «Свободе», ни в «Московской правде». В «Мосправду», к важному редактору Егору, выслушав мои жалобные причитания, нас с Кристмасом отправил Марк Семенов, ставший потом скандальным тележурналистом. Тогда еще застенчивый и никому не известный большой и добрый бородатый дядя из «Свободы».
Егор шустро пролистал наши экзерсисы и отправил нас в ментовку, знакомиться с делом.
В ментовку нас пустили.
Дали почитать дело.
Я почитала.
Написанное сухим ментовским языком, оно меня не зацепило.
К тому же никто не хотел признавать, что это было убийство.
С чего бы вдруг убийство?
А с чего двадцатитрехлетнему здоровому мужику вдруг ложиться на землю и умирать посреди Москвы?
Я равнодушно изучала описание вскрытия. Вес мозга, размер печени.
Мне было все равно.
Потом я посмотрела на дату его рождения.
И меня стошнило прямо в ментовке.
Все, не могу.
Он даже не был мне близким другом
У Удава была своя тусовка.
Профессиональных революционеров.
Он умер, а его подельники через несколько лет отправились по тюрьмам и психушкам.
Его подружку Машку, беременную, со старшей дочерью на руках, посадили за терроризм.
Разве же это терроризм?
Просто очередная оранжевая акция.
Плевок в лицо власти.
Посреди ночи. Посреди Москвы. Не чеченские террористки. Не вакхабитки.
Две смешные девчонки взорвали бомбу.
Не где-нибудь.
Напротив приемной ФСБ.
Ну это же обоссаться со смеху.
Нет, мы все периодически плюем в лицо системе.
Но латентно.
Так, что это никому не видно.
Украсть что-нибудь из дорогого магазина.
Подделать справку.
Проехать без билета.
Обмануть родную корпорацию, клиента, государство.
Получить незаконную субсидию.
Что чтобы вот так смело… чтобы вот так открыто…
Никто ведь не пострадал. Никто не лишился глаз, рук, ног, не получил сотрясения мозга.
Не говоря о том, чтобы умер.
Нет.
Но их посадили на много лет. Решили, что две худенькие девочки с испуганными глазами представляют страшную угрозу для общества. Одна из которых - мать двоих детей.
Нет, я бы на такое не пошла.
Никогда.
Ни за идею, ни по приколу, никак.
Я бы испугалась.
Но за этих двоих я испытывала неподдельную гордость.
Да, теоретически тут было все понятно. Лев Гумилев, теория пассионарности. Они были пассионарии.
Ну и пусть.
Они были герои.
Шершень, главный экстремист - как называли его менты и официальная пресса - зеленых акций, тоже потом угодил в тюрьму.
Как говорят, за наркотики.
Моего однокурсника по мединституту тоже чуть не упекли за наркотики.
Теперь я знаю, как и кого сажают за наркотики.
У него валялся дома коробок травы.
Позвонил друг. Продай, говорит.
Договорились встретиться. Встретились. Один отдал другому деньги, получил коробок.
Тут откуда-то выскочила группа захвата.
Однокурсника скрутили, засунули в обезьянник.
Друг его сдал.
Менты хотели выйти на дилера.
А вышли на обычного потребителя.
Даже не регулярного торчка.
Он так, иногда баловался.
Сидел без работы, денег было впритык.
А тут коробок.
За который предлагали тысячу рублей.
Менты и на него потом насели.
Сдай, говорят, дилера.
Он бы сдал. Он был готов. Плакал и умолял отпустить. Он просто не вспомнил телефона дилера.
Так и сел бы.
Но не сел.
Продал машину - и откупился. Пять тысяч косарей - небольшая цена за свободу.
Не удивлюсь, если примерно по той же схеме за решетку упекли и Шершня.
Он тоже кому-то не очень-то нравился.
Он был слишком левым. Слишком громким. Слишком нон-конформистом. Слишком досаждал своими выходками нашей Родине.
Да ****ись ты, Родина.
Но волна пошла.
Об этом заговорили.
Не я.
Но я гордилась.
Сопричастностью.
И для меня они – Машка, Шершень – по-прежнему были наши.
Как и Удав.
Который шел мимо ресторана «Пхеньян».
Разбил камнем витрину.
И которого после этого инцидента до смерти забили ногами охранники.
И их не нашли.
И не посадили.
Потому что они, видимо, не представляли угрозу для общества.
- Я не могу, - сказал Кристмас. - Не могу про это писать. Я в это не верю. Я до сих пор его не отпустил. Так что пиши ты, Ежик.
Я написала.
Статья про убийство Удава не пошла и в «Ступени».
И в «Новую ежедневную».
Короче, она никуда не пошла.
Кристмас сказал, что из меня никакая журналистка. Он сказал, фактов маловато, но зато слишком много соплей.
Я теперь и сама понимаю, что много.
Чего я плакала?
Ведь Удав даже не был мне близким другом.
Моя лучшая подруга говорила, что люди из этого мира должны уходить оплаканными.
16
Женечка, моя первая любовь, все время от меня уходил. В конце лета он ушел окончательно. Все думали, что это не он, а я его бросила. От этого было немножко легче. Я так никому и не рассказала, что произошло между нами на самом деле. Среди леваков его знали все. Я же была просто знакомым лицом, бесплатным приложением к Женечке, такому яркому, высокому, громкому, язвительному. Кто бы мне поверил, если бы я вдруг заикнулась про то, что нашла у него в квартире… Про ту мерзость, ту гадость, узнай о которой левые, никогда бы ему не простили… Так что я молчала.
Лето подходило к концу.
Женечка вернулся из Питера. Рассказывал, как много в мире анархистов. Убеждал меня, что мы не одни. Что в конце концов недалек тот день, когда мы построим общество свободных людей, где не будет ни ментов, ни спекулянтов, ни денег.
- Ты же сам спекулянт, - со смехом говорила я.
- Это вынужденные меры, - отшучивался Женечка. - И вообще. Деньги - явление преходящее.
- А как же мы будем жить без денег? У кого покупать одежду?
- А одежду, - с серьезным видом говорил он, - нам будут шить анархические свободные швеи. Для всех одинаковую. Будем носить синие френчи.
- Как же так? – говорила я. – Я люблю красивую одежду. Я не хочу носить синий френч.
- Ну хорошо, - смеялся он. – Тебе в виде исключения выдадим серый.
Потом он снова уходил, не говоря ни слова.
Я знала, что он уходит к Еве.
Он так и не смог с ней расстаться.
Весь тот год, когда сердце то было готово лопнуть от горя, то разорваться от счастья, я звонила Нику. Ехала к нему через всю Москву, с юго-востока на север. Мы сидели в его уютной теплой квартире и слушали старые пластинки. Он меня ни о чем не спрашивал. Я была ему за это благодарна.
В конце того лета Ника не оказалось в Москве. И мне некому было звонить.
Ник писал мне письма с Таймыра, он уехал туда на практику по заданию своего геофака. Я не знала, когда он вернется, поэтому не отвечала. Ник был бы единственным, кому бы я осмелилась рассказать про эту дрянь, эту мерзость, эту гадость… Ника не было, и потому никто так ничего и не узнал.
А потом лето кончилось. Начался мой третий курс медучилища.
И Женечка уходил от меня. На этот раз уже с концами. Каким-то шестым чувством я это знала.
Он спал. Я швырнула в него увесистый телефонный справочник, и он даже не понял поначалу, что произошло. Осовело моргая, он смотрел на меня, а я хватала со стола и кидала в него все эти ручки, учебники, ластики… Если бы он сообразил в тот момент, что мне можно в очередной раз что-нибудь наврать, я бы поверила – и никогда бы от него не ушла, но он был спросонья – и потому сказал мне правду. Я сбежала из его квартиры, захлопнув дверь, оставив неубранными его бумаги, документы, фотографии… Все то, что мне удалось вытащить из запертого письменного стола. И в самом центре кучи – эта мерзость, эта гадость.
Я думала, он больше не позвонит.
Я гуляла по Москве со своими преданными, своими любимыми до рези в глазах панками, пила пиво и боялась оставаться одна. Я затыкала наушниками уши, кассетник захлебывался голосом Егора Летова, я зажмуривалась, и мне казалось, что вокруг меня рушатся, взрываются и горят здания, падают башни и самолеты. Мой маленький мирок, центром которого был Женечка, неотвратимо раскалывался на мелкие обломки, на клетки, на молекулы, на атомы.
Я безбожно прогуливала занятия и забивала на пересдачу хвостов, оставшихся с весны. Бабушка просила приходить ночевать домой или хотя бы звонить, сообщать, что живая. Я забывала ей звонить. Она ежевечерне капала себе валидол и настойку пустырника.
Я приползла домой через неделю. С синяками под глазами и со сваливающимися с бедер джинсами. Бабушка накормила меня грибным супом и уехала на дачу.
Я осталась одна на выходные.
Женечка, моя первая любовь, все-таки позвонил.
Снова-здорова.
Я думала, что телефон лопнет от звонков.
Я стояла и смотрела на него, как обмороженная, зная, что это звонит Женечка.
Я боялась поднимать трубку.
- Да?
- Ежик? Ежик, где ты была?!
Я даже не могла ему внятно ответить. Стояла и молчала. Потом, еле ворочая языком, сказала:
- Женечка, как ты мог, сука, как ты мог.
- Я просто не понимаю, что ты так взбеленилась.
Сухой голос. Чужой. Чужой человек говорил со мной по телефону.
- Женечка, сука, зачем ты это сделал. А как же анархисты? В конце концов, а как же я?
- Как же ты? Дура ты, Ежик. Все же было понятно с самого начала.
- Ага. По крайней мере, мне было понятно, с кем я связываюсь. С мерзкой, лживой, отвратительной тварью. Скользкой, как угорь. Продажной, как вокзальная проститутка.
- Ах ты гнида.
- Ну вот ты и раскололся. Это ты мне так сказал? Или кому?
- А что я тебе еще должен был сказать?
- Женечка, - сказала я. - Мне очень больно. Я боюсь, что от этой боли я просто умру. Или даже нет. Я сейчас возьму нож, полосну по венам и точно умру. Думаешь, не сумею?
- Да умирай. Одной дурой меньше. Ежик, как ты меня заебала своим шантажом.
- Ах вот оно как… Да не умру. Буду жить долго и счастливо. Тебе назло, сука. Все, ****ь, пока. Не звони мне, понял? Не звони мне больше.
Я смотрела на кухонный нож. В ванной лежали опасные бритвенные лезвия. Я уже и до этого пробовала полосовать собственные руки. Царапать и смотреть, как тонкие струйки крови стекают в раковину. Это было не больно. Это было красиво. Я совсем не боялась вида собственной крови.
Зачем, думала я, зачем после этого жить. В чем цель существования, если Женечка - свет и смысл моей жизни - вдруг превратился в чужого, мерзкого человека. В чем цель существования, если Женечка, моя первая любовь, и был таковым все эти долгие тринадцать месяцев, а я зажмуривала глаза, затыкала уши, отказываясь это понимать.
Грош мне цена после всего, что случилось.
Грош цена ему.
Но плакала я не поэтому. А потому что теперь, после того, как я нашла в его квартире эту дрянь, эту мерзость, эту гадость, уже ничего нельзя было исправить.
Ничего нельзя было починить.
Невозможно.
Даже если он приползет на коленях.
Никак, хоть ты тресни.
Дзыннннь…
- Я же тебе сказала, сука, не смей!
- Ежик…
- Ник? – я подпрыгнула на табуретке. - Это ты?! Ты вернулся?
- Да, прилетел сегодня утром.
- Когда ты ко мне приедешь?
- Когда ты хочешь меня лицезреть?
Пара шмыгов носом в сторону. Чтобы не было слышно в телефонной трубке. И после этого, утирая кулаком слезы, я каким-то не своим, деревянным голосом начинаю тараторить:
- Я хочу видеть твое красивое лицо вот прямо сейчас. Я соскучилась по тебе до коматоза. Правда. Веришь?
- Хм… Да… Номер квартиры напомни?
И Ник приехал, примчался в тот же вечер, и нож мне был уже не нужен, потому что я раздумала полосовать вены, нож пригодился, чтобы резать яблоки, сыр, хлеб, открывать вино, все же можно, радость подростка, бабушка на даче, разговоры до утра, «Как ты провел время на Таймыре, комары не сожрали?» - «Как видишь, метеорологи – люди стойкие», я постелю тебе в комнате у бабушки, а сама просижу два часа на подоконнике и тоже пойду спать, а утром мы будем пить чай и целоваться у меня на кухне, и я буду счастлива, так счастлива, как будто у меня никогда не было первой любви, как будто в моей жизни никогда не было Женечки, как будто не он послал меня вчера к чертовой матери, обозвав дурой и гнидой, как будто моя первая любовь – это ты.
Ник
Ник улыбался, глядя на меня своими ореховыми глазами. Своими невозможного цвета глазами, которые лучились, как звезды. Вокруг лежал снег, но почему-то было тепло. Так тепло, что можно было стоять на улице в одной тонкой майке и не чувствовать кожей ни снега, ни ветра. Иногда такое бывает.
- Ежичек, я привез тебе булочку. С маком.
Я хмыкнула.
- Ну хоть не батон с героином.
Старый анекдот. До колен с бородищей.
- Какие планы на вечер?
- Я полностью в вашем… - я растерянно огляделась по сторонам, выбросила на асфальт сигарету.
- Иди оденься, тебе же холодно.
- Как ни странно, нет.
Не было даже мурашек. Гадкая осень. Снег. Минус. Рядом с Ником могло быть и такое.
- А вот ты не мерз на своем Таймыре?
- Мерз. Зато я теперь не мерзну здесь.
- Вот! – закричала я. – Это я от тебя заразилась!
Я прыгала вокруг Ника, растаптывая тяжелыми ботинками только-только выпавший, пушистый и скрипучий, с крупными разлапистыми снежинками, новенький снег, оставляя четкие черные следы рифленой подошвой. Ник улыбался.
- Ты еще такое дитя, Ежик.
- Ага! – радостно кричала я. – Это сейчас. А в четырнадцать я выглядела на двадцать пять, честное слово! У меня были длинные волосы. И я носила мини-юбку. И красилась как проститутка. Хочешь, покажу фотографии?
Ник улыбался.
- Не хочу. Такая ты мне нравишься больше. Иди одевайся.
- Я не могу. Потому что я не могу решить, что мне вначале сделать – съесть твою булочку или одеться.
- Если ты сейчас же не оденешься, я сам съем твою булочку.
- Ну вот, опять ты все решил за меня.
Ник улыбался.
- Имею право. Ты несовершеннолетняя. Ты еще маленькая.
- Угу, - опять хмыкнула я, - а курить мне типа можно?
- Нельзя, но я прощаю.
- Да нужны мне твои прощения!
Я дернула на себя дверь и отправилась в раздевалку. Ник в первый раз в жизни приехал в мое медучилище - забирать меня после занятий. Юные медики, смолившие вокруг сигаретки, гоготали, плевались и бодренько покрывали друг друга несложным матерком. Нику наверняка было неуютно во всем этом пролетарском бытии… он не курил. Редко матерился. В конце концов, он учился в аспирантуре МГУ. Но мне было плевать, каково ему в этом моем маленьком, дурацком и злобном мире. В конце концов, это он меня выбрал, а не я его. Я не затаскивала его в свой глупый социум против воли.
Однокурсники с гиканьем разбирали куртки, пальто и шапки. На ходу всовывая руки в рукава косухи, я выскочила на улицу. Отобрала у Ника свою булочку.
- Из-за своей первой любви, Женечки, я в прошлом году не сдала сессию. Лишили стипухи. И заставили отрабатывать физкультуру и практику. В этом году я не сдам сессию из-за тебя.
- Сдашь, - сказал Ник. – Ну или тебя выгонят, и дело с концом.
- Из-за тебя, - повторила я.
Ник улыбался.
- Я написал новогоднюю пьесу. Главный персонаж – девочка Анархия. Редкая раздолбайка, надо сказать. Но она умеет ставить клизмы врагам-буржуинам, делать уколы товарищам по революции и играть на пианино. Списано с жизни. Очень актуально.
- Раздолбайка, но не без талантов. А еще, к примеру, - сказала я с набитым ртом, - она умеет одновременно курить и есть булочку с маком.
Ник улыбался.
- Y tiene los ojos azules.
- Сам такой, - сказала я, дожевывая булочку. – Так куда идем мы с Пятачком?
- Надо было бы, - растерянно сказал Ник, - заехать к Моссовету. Там под Долгоруким наши сегодня стояли в пикете. Хотя бы узнать, чем дело кончилось.
- Во сколько?
- В три.
- Черт. Опоздали. Ну поехал бы без меня…
Ник пожал плечами.
- Я не мог поехать без тебя. Я уже пообещал привезти тебе булочку.
Катька
- Так зачем ты тогда связалась с Никитой, если он тебе не нравился? – спрашивает Катька.
- Ну как сказать не нравился… Нравился. Просто мы расстались с моей первой любовью, Женечкой, и после этого мне было все равно с кем. Лишь бы не одной. Нет, он мне, конечно, нравился. Он был классный. Так бывает, знаешь, когда не можешь сделать над собой усилие и окончательно влюбиться в человека. Хотя это возможно. Все возможно. Но тогда я ничего не чувствовала. Была как будто под анестезией. Жила как в вате. Бесчувственность. Отстраненность. Как будто все, что происходит, происходит не с тобой. И ты можешь вытворять что угодно. Потому что это вроде как и не ты. Просто способ убежать от реальности.
- Зачем надо бегать от реальности?
- Зачем-то надо. У всех найдутся совершенно различные причины. Думаешь, вранье – это не способ убежать от реальности?
- Думаю, что побег от реальности – это трусость. Вот зачем отец моего ребенка столько раз говорил мне, что бросит жену и уйдет ко мне? Он же знал, что этого никогда не случится.
- А ты? Ты же тоже знала, что этого никогда не случится.
- Знала.
- Я потому и говорю, что эта игра в шпионов, игра в «Кто кого наебет» - это всегда игра двусторонняя.
- Это когда вы врете друг другу, и каждый знает, что другой ему врет.
- Это когда ты следишь за кем-то, зная, что этот кто-то наверняка следит за тобой.
- Я знаю, потому что у меня глаза на спине.
- У всех глаза на спине. Просто не все решаются их открыть.
- Надо убежать от себя.
- Потому что наедине с самим собой страшно.
- Да, страшно.
Ник
Давным-давно, когда я еще была с Женечкой, а не с Ником, когда мы только дружили, и я звонила ему и рассказывала обо всех своих приключениях, когда еще сердце было способно выпрыгивать из груди от восторга, Ник поехал в очередную экспедицию и привез мне оттуда зуб коровы.
Завернул в бумажку и подписал. Как-то типа «Самому лучшему в мире Ежику от скромной анонимной коровы». Обычную бумажку - тогда, в начале девяностых, мы понятия не имели про упаковочные подарочные ленточки. Бумажку я перелепила на память в записную книжку. Зуб дела не помню куда. Зуб был коричневый и длинный. Такой длинный, что можно было принять за зуб динозавра. Карликового динозавра. Не думала, что у коров бывают такие большие зубы.
Ник привез мне зуб коровы. Ник рисовал про меня комиксы. С Ником мы лазили на шпиль ГЗ МГУ.
Ник учился в аспирантуре геофака.
И у него был студенческий билет, по которому можно было пройти в этот страшный, длинный, призрачный ГЗ. С его мраморными лестницами, пыльными заброшенными аудиториями и бесконечными переходами, с его бесшумными огромными лифтами («Засекай время, мы будем целоваться») и запахом из столовой, который я не могла выносить, слишком вкусно оттуда пахло. Запах расплывался по всему второму этажу ГЗ. Я тащила Ника за руку. Скорей, скорей…
Сменив лифты, Ник тащил за руку меня.
Потому что он хотел посмотреть на город с высоты птичьего полета.
Потому что он не боялся высоты.
Потому что он был авантюристом. В гораздо большей степени, чем я сама.
Он не мог просидеть целую неделю безвылазно дома или бессмысленно прошататься с панками по Москве, глуша реальность дешевым пивом… Как я. Он не любил виски… Как я. Не курил «Житан». Как я. Он вообще не курил. И не пытался каждый раз проверить свой организм на выносливость, накачиваясь коньяком, накуриваясь травой... Как я. Да, как я.
А я развлекалась как могла, концерты, квартирники, косяк по кругу, пиво, водка, хорошо все то, от чего забываешься, потому что после того, как мы расстались с Женечкой, после того, я увидела в его квартире эту гадость, эту мерзость, мне казалось, что этот мир - мой мир друзей, панков, осенних листьев, музыки, тлеющих зажигалок на концертах, черных знамен и белых халатов - никогда не станет прежним. Я каждый день прощалась с Женечкой, понимая, что больше его никогда не будет. Я была мертвой. Я жила словно в спячке. Я ходила словно под анестезией. Долгоиграющая анестезия, говорила я. Анестезия, говорил Ник, - это Анастасия по-французски.
Так что мне было все равно с кем. Подвернулся Ник. Что ж, пусть будет Ник.
Не самый плохой вариант, говорила моя хваткая, роскошная Олеська. Но одеваться, добавляла она, он мог и получше. А потом осторожно спрашивала, дарит ли он мне подарки и сколько зарабатывает…
Ник зарабатывал мало. Но Олеське я этого не говорила.
В своей больнице я зарабатывала больше.
Ник, казалось мне, вообще не думал про деньги.
Он смотрел на этот мир и, словно головоломку, поворачивал его так и сяк, разглядывая под разными углами и ракурсами, удивляясь, задумываясь… Он смотрел на меня, на свои руки, на город… Да, еще и с высоты птичьего полета.
Мы, пробравшись мимо музея со злобной бабкой-охранницей (она и по сей день сторожит тот музей), задыхаясь, бежим наверх, оглядываясь на лучи света, в сочащиеся сквозь мутные окна, и в лучах пляшут крохотные золотые пылинки, мы, проводя руками по выкрашенным зеленой краской казенным стенам, протиснувшись по бесконечным лестницам, ведущим вверх, по коридорам с трубами, добираемся до конечной точки путешествия. Мы стояли на шпиле ГЗ МГУ и, затаив дыхание, смотрели вниз. Город, рассыпавшийся далеко внизу, новостройками, высотками, облаками, подъемными кранами, вдруг моргнул, вздрогнул и, как и тогда, на крыше маленького особняка, медленно поплыл под ногами.
- Смотри, Ежик, под тобой целый город!
– Мама, я сейчас умру!
– Ты похожа в этих очках на Джоанну Стингрэй.
– Ага, и в этой кепочке.
Мимо осеннего фонтана по дорожке движется маленькая нервная фигурка.
– Это что, Москва? А почему тут оранжевый асфальт? Мне кажется, это Париж.
– Ну пусть будет Париж. Хорошо, пусть Париж. Если тебе так хочется, пусть будет Париж.
– Осенний Париж.
– Принято.
- Дай сигарету.
– Я не курю, откуда у меня сигареты?
– Ну пойдем найдем сигареты. А еще у меня есть с собой косяк. Поехали к тебе, я выкурю этот косяк. Будешь со мной косяк?
– Не буду, зачем мне твой косяк?
– Ну тогда посмотришь, как я сама буду курить свой косяк.
Косяк, да. Огромный, длинный косяк, с широкого плеча пожертвованный мне Кристмасом, марихуана - единственный наркотик, который я попробовала – и который я никогда не понимала и не любила, после которого кажется, что Ник стоит не в шаге от тебя, а в тысяче километров, и ты плохо понимаешь, что он тебе говорит. После которого ты едва можешь связать два слова, в голове скачут, беснуясь, страшные мультики, и ты боишься, что забыла, как дышать, забыла, как ходить в туалет, забыла собственное имя. А самое страшное, чего ты боишься, - что этот непреходящий бред, творящийся у тебя в голове, никогда не кончится.
- Ежик, очнись.
- Ежик? Это я - Ежик? Опаньки, приехали. Я – Ежик. Ни головы ни ножек. Самое смешное в этом знаешь что? Что я не помню, как ехать домой. Я не помню, как говорить. Сделай что-нибудь. Я боюсь. Я вообще ничего не помню.
- Вот на, выпей.
- А это что?
- Настойка женьшеня. Не кури больше травы.
- Спасибо. Не буду. Ты очень хороший. Я не могу сказать, что я тебя вот прям люблю. Я много кого люблю. И я, наверное, все еще люблю Женечку.
- Я знаю.
- Ну и тебя в этом смысле тоже люблю.
- Я знаю. Ну как, полегчало?
- Полегчало. А косячок ты мой выкинул?
- Выкинул.
- Ну и дурак. Кто ж такие вещи выкидывает?...
Катька
- Катейка, ну ведь бывает же у людей настоящая близость? Когда живут бок о бок двадцать лет и надышаться друг на друга не могут? Я говорю не о быстром сексе с женатиком, которого всегда ждут дома, а о человеке, с которым ты могла бы вообще ничего не стесняться, зная, что ты нужна ему любая, веселая, грустная, раздраженная, с хвостиком и немытыми волосами, да хоть в телогрейке, при котором ты могла бы позволить себе что угодно… прокладки менять, краситься. Трусы переодевать... И при этом помнить, что ты всегда ему интересна?
- Что самое смешное, именно это у меня и творилось пять лет с тем женатиком. Я могла рассказать ему обо всем. Я могла перед ним переодеваться и не краситься. Больше у меня ни с кем такой близости не было. Ближе не бывает. Дальше просто некуда. Боятся они близости. Пугливые они, мужчины.
- Это чушь, Катейка. Если они пугливые, как же доходит до того, что они все-таки женятся?
Катька смеется.
- Ну есть у женщин в арсенале всякие штучки.
Я притворно настораживаюсь.
- Какие такие штучки?
- Игрушки. Актерство. Поиграть в беззащитность, поиграть в доверчивость. А потом резко поиграть в недоступность. Не подходить к телефону, не встречаться в компаниях. Знаешь, как это их заводит? Вроде только что была твоя – и куда она вдруг делась?
- Не знаю. Я просто сознательно никогда такого не делала.
- А я не говорю, что женщины делают это сознательно. Скорее подсознательно. Мужчины любят, когда им морочат голову.
- Ты Колумб, дорогая, - говорю я. – Ты только что открыла для меня Америку.
Катька снова смеется.
- Только мне кажется, что это нечестно, - продолжаю я. - Куда честнее просто прийти и сказать, так вот, мол, случилось, дорогой, что я люблю тебя до невметоза, и что хочешь с этим, то и делай.
- Ты так пробовала?
- Пробовала. Со своей первой любовью, Женечкой, – да.
- И что?
- Ничего. Ему было приятно. Приятно, когда тебя любят. Люди любят, когда их любят.
- А потом?
- А потом мы со скандалом расстались. Он решил, что моя любовь его к чему-то обязывает. Обязывает ли?
- Вот видишь, - говорит мудрая Катька. – Надо быть хитрее.
- Куда уж хитрее, - вздыхаю я. – Между тем мы с тобой на равных позициях. Две одинокие женщины за тридцать.
- Ну а как тогда сделать, чтобы тебя полюбили?
Я молчу. Я не знаю. Никак.
Меня любил Ник. Просто любил. Я ничего для этого не делала.
Ник
Давным-давно, когда я со скандалом рассталась с Женечкой, моей первой любовью, из нас двоих мерзавцем оказался он.
Теперь я была с Ником.
Из нас двоих я мерзавцем оказалась я.
Как будет мерзавец, но только женского рода? Мерзавица?
Он старался. Он писал мне письма, хотя можно было просто снять трубку и позвонить. Эти письма я регулярно находила в почтовом ящике. «Ежик, я сегодня увидел девушку в метро с такой же, как у тебя, стрижкой. Я бросился ей вслед, думая, что это была ты. Но это была не ты».
«Милый Ежик, не соблаговолите ли вы в пятницу составить компанию скромному геологу, дабы посвятить ваше драгоценное время просмотру фильма «АССА», который мы и так уже посмотрели с тобой две с половиной тысячи раз?»
«Ежик, разверни листок, там рисунок. Я знаю, ты будешь смеяться…»
Он пытался меня удивить, рассказывая то про северное сияние, то про китов, которые выбрасываются на берег, то про дельфинов, то про сверхзвуковую скорость. Плевать мне было на это. Какой смысл был восторгаться этими чудесами вселенной, если Женечка, моя первая любовь, которому я верила больше, чем самой себе, предал меня, нас, анархию, революцию, свободу ради… а впрочем, разве важно, ради чего именно?
Ник понимал и это. Он меня не торопил. Он просто ждал, тихо и терпеливо… Как последний дурак.
Так что мы сидели у него дома, литрами пили чай – и просто говорили.
Это неправда, что нельзя рассказывать о своих бывших. Я рассказывала ему вечера напролет про все. Про Женечку, про Еву, про Олеську, про Кристмаса и Шершня, про школу, про Берлин, про Калашникова, про Катьку, про располосованные лезвием руки, про музыку – умолчав только об этой гадости. Этой мерзости. Этой дряни.
Он рассказывал мне про МГУ, про экспедиции, про Аргентину, про Хемингуэя, про Че Гевару, про польскую «Солидарность» - и про своих бывших девчонок, обычных, уютных и теплых, совсем не анархисток, которые любили его и которым он не мог сказать, что тоже их любит, потому что это было бы неправдой, а Ник не любил врать, даже в дипломатических целях, даже таких эфемерных вещах, как любовь. «Была только одна, - говорил он. - Она родилась со мной в один день». – «А Женечка, - говорила я, - тоже родился со мной в один день». – «Мне казалось, - говорил Ник, - что это навсегда». – «Мне, - говорила я, - когда я была с Женечкой, тоже так казалось». Мы допивали чай, и я уезжала в ночь, домой, к бабушке. Он провожал меня до метро и пешком шел до дома.
- Я нормальный человек, у меня нормальные желания.
Он не любил сигаретный дым. Я закуривала очередную сигарету и усмехалась.
- Это какие?
- Ежик, когда ты уже начнешь спать со мной?
- Тогда, когда ты меня полюбишь.
Ник смотрит в окно. И говорит:
- А я уже... тебя люблю.
- А я вот, - отвечаю я, - тебя не люблю, понял? Вот прям ни грамма.
- А что ты тогда тут делаешь?
- Ну… Сижу курю. Провожу с тобой время. С тобой прикольно. В одиночестве я бы рехнулась.
- Надо бы тебя, по идее, отсюда выгнать.
- Надо бы тебя, по идее, давно уже бросить.
- Ну так бросай, - спокойно сказал Ник.
Разве такие вещи говорятся без страха?
Теперь мне уже не шестнадцать. Даже не двадцать пять. Теперь я знаю, как это.
Это же легко. Сказать тому, кого любишь – бросай меня и уходи. Ты не волнуйся, со мной ничего не случится. Делай что хочешь, ты свободен. Мне от тебя ничего не надо.
Лишь бы ты был.
Ник устало вздохнул.
- Ежик, делай что хочешь, лишь бы ты была.
Так что в итоге я его бросила.
Мерзавица.
16
К Нику надо было ехать через весь город. Но что такое в шестнадцать лет – через весь город? Что такое – через весь город с юго-востока на север Москвы? На его севере было существенно холоднее, чем на нашем юго-востоке. На уютной кухне всегда было тепло.
Через город, на метро, а потом на еще и на трамвайчике, который ходит неспешно, как ему вздумается, не обращая внимания на расписание, север Москвы встречает неприветливо, угрюмо, бросая в лицо колючие снежные хлопья.
Мне казалось, что зимой всегда была ночь.
Мне казалось, что в конце осени у нас тоже наступает полярная ночь.
Пряча в карманы руки в цыпках, забиться в остановку, дождаться грохочущего трамвая, проехать через мост, пробежать под мостом, вжав в плечи голову и спасаясь от ледяного, пронзительного ветра.
Позвонить в дверной звонок.
Где меня всегда ждали.
Где мне всегда были рады.
Позвонить и сказать, что я вернулась.
На плите заливался чайник со свистком. Я притащила с собой дорогущего печенья. Из «Березки». Он бы не оценил, но оно было действительно дорогущее. И вкусное.
Почти такое же, как комплексные обеды из его столовки в ГЗ МГУ.
У него дома стояло расстроенное пианино.
Иногда я на нем играла.
- В общем, я написала песню.
- Песню? Ну спой мне свою песню.
- Я только не все слова помню. Только первые две строчки. «Ты предатель. У тебя мясные глаза, ты не можешь не врать».
- Это ты про Женечку, свою первую любовь, так лихо, да?
- Блин. Все ты про меня знаешь. Ну да. Да.
- Слушай, Ежик.
- Слушаю.
- А когда мы с тобой расстанемся, ты и про меня напишешь, что у меня мясные глаза?
- Нет. Про тебя я такого никогда не напишу. Обещаю.
- Тогда почему ты это пишешь про него?
- Потому что он мудак. Он ни *** не понял.
- Что он должен был такого понять, что не понял?
- Он не понял… - я замолкаю. Потом вдруг спрашиваю, - Ник, а если вдруг ты загремишь в ментовку и тебя будут пытать, то что – ты всех сдашь?
- Кого это всех? - спрашивает Ник. – Организаторов? Я сам себе организатор. У нас нет организаторов. У нас никто никому не подчиняется. Мы – анархисты.
- Не уходи от ответа, – тереблю я его руку. - Что будет, если менты - или спецназ, или ГБ - не просто приволокут тебя в ментовку, а начнут шантажировать. Пригрозят отчислением из аспирантуры. Или здоровьем сестры. А в обмен потребуют имена других анархистов, что ты сделаешь?
- Ты хочешь, чтобы я ответил? – говорит Ник. – Ты хочешь, чтобы я сказал, что я герой и готов ко всему? Я так не скажу. Я не знаю, что я буду делать в таком случае. Не знаю.
Я тоже не знала. Я думала, что если когда-нибудь меня будут пытать, я сознаюсь в чем угодно. Я с детства плохо переносила боль. Может быть, поэтому и выбрала своей профессией анестезию.
- Так чего же не понял Женя? – спрашивает Ник.
- Ничего он не понял. Что самое главное – это не эти его, ****ь, конференции. Не эти его ебучие статьи. И не митинги и пикеты. Мы же их делаем только для того, чтобы самим повыебываться. Ну согласись? Выйти на улицу и показать, какие мы гордые, храбрые и крутые. Какие мы охуительные. Просто лучше всех. Сбежится пресса, нас покажут по телеку, про нас напечатают в газетах. Это все тщеславие. Самое главное, самое ценное – это люди, понимаешь? Люди.
- Понимаю.
- Ну и вот. Что мы реально делаем для людей? Кровь сдаем? Детей усыновляем? Бомжей кормим? Да ни ***. Выпускаем какие-то сраные никому не нужные газетки. Ходим на какие-то сраные сходки. Друг перед другом покрасоваться. Так, развлекаемся. Вот поэтому я и не воспринимаю это всерьез. Так что, видишь, я ни хуя не борец ни за какую такую свободу. Зачем? Чтобы получить по ребрам? Чтобы героическим загреметь в ментовку? И вообще, честно тебе признаюсь, меня мало волнует вся эта политика.
- Зачем тогда ты вращаешься в этой тусовке?
- Ты меня слушаешь или нет? Ключевое слово – люди. Понял? Люди. Мне просто нравятся некоторые люди.
- Которые?
- Хороший вопрос. У меня как раз есть на него подходящий ответ. Ну вот, к примеру, ты.
- Нравлюсь?
- Нет. Я опять не то говорю. Нет, не отворачивайся, послушай. Действительно люблю тебя. Не смотри на меня так. Но Женечку я тоже до сих пор люблю. Того Женечку, который был когда-то, потом пропал… Теперь это другой человек. С ним уже ничего нельзя починить.
Ник молчит.
- Но тебя я тоже люблю, - добавляю я. - Ну ты сам знаешь, в каком смысле.
- Знаю. Да, знаю.
Я никогда не писала про него стихов.
Никогда не называла его предателем.
Не говорила, что у него были мясные глаза.
У Ника были ореховые глаза.
Его глаза сияли как звезды.
Ник был слишком хорошим. Для меня, для нас. Для этой страны. Для этой жизни.
Стиха про Ника у меня не получилось.
Так что я сдержала обещание.
Обыкновенный панк
Близился анархический Новый год. В особнячке на Тургеневской, в маленькой редакции профсоюзной газеты «Свобода», мы вечерами репетировали новогоднюю анархическую пьесу. Пьесу, которую написал Ник. Шершень был Марксом. Мне отводилась героическая роль девочки-Анархии. Девочка-Анархия сражалась с капиталистами, после чего ее спасал от смерти обыкновенный панк Кристмас. Автор, то есть Ник, выдавая свои редкие реплики, прятался за имитированной сценой.
Собрались все – и интеллектуалы, и панки.
Нарядили черно-красную елку. Интеллектуалы продолжали обсуждать французскую революцию.
Панки тянули пиво и тайком накуривались в туалете.
Мы договаривались поехать к Нику после репетиций.
Впереди были выходные.
В нашем распоряжении – его пустая квартира.
Он сказал: «Наконец-то мы останемся одни, без этих бесконечных сборищ. Наконец-то я спокойно отмечу свой день рожденья».
День рожденья Ника был как раз перед самым Новым годом.
Ник никогда не опаздывал, никогда не обманывал и всегда сдерживал обещания.
Козерог.
Я люблю Козерогов.
После представления мы вышли на улицу. Покурить. У моих панков откуда-то из небытия материализовалась трехлитровая банка пива. Кристмас взорвал косяк и пустил по кругу. Нас было пятеро. Сверху спустился кто-то еще. Сказал, что поблизости есть кафешка, в которой продают дешевый коньяк. И можно исподтишка наливать себе в стаканы пиво.
Все решили идти пить пиво.
Ник не курил и потому не вышел с нами на улицу из здания редакции газеты «Свобода».
Да и холодно было. Снег лежал. Декабрь. Зима. Темно, и лица слились в какую-то веселую карусель. Зима – это черная дыра. Это депрессия. Вечная темень. Непроглядная.
Зима – это как долгий запой. Не хочется трезветь и просыпаться.
Вместо того чтобы поехать к Нику, я отправилась пить пиво со своими панками.
На все выходные. Пропадала три дня. Без звонков. Без ничего. Пиво, коньяк, пиво, и вот уже, притопывая, пританцовывая, чтоб не замерзнуть, мы кружимся по какой-то заледенелой детской площадке в ночи и тянем вино на морозе. Пушкинская. Мое святое место. Мое место силы. Мой Иерусалим, моя Мекка и Медина. Центр Москвы. С другой стороны детской площадки собрались какие-то бомжи и бродяги. Мы угостили их сигаретами. Мы раскачиваемся в ночи на деревянных качелях. Кто-то протягивает косяк, потом мы опять передаем по кругу бутылку. В какой-то момент я поняла, что сижу, обнимая любимую женщину Женечки. Еву. Я погладила ее по голове. Она не заметила.
Потом мне приспичило пописать.
Панки встали кругом.
Я сказала, чтобы они отвернулись. Сказала, что я стесняюсь.
Они загоготали, но отвернулись.
Снег под горячей желтой жидкостью стал таять.
Осталась зазубренная по краям ледяная дырочка.
Все подошли и посмотрели. Всем почему-то было смешно.
Потом мы решили поехать к кому-то в гости. Я поняла, что потеряла бандану.
- Ежик, ты идешь? Что она там делает? Ей совсем херово. Почему она ползает по дороге на коленях?
Я подбирала с дороги тряпки. Рассматривала их и разочарованно отшвыривала обратно. Ни одна из этих тряпок не была похожа на мою бандану.
Мы добрались до чьей-то огромной обшарпанной квартиры. Я добрела до туалета, опустила крышку унитаза, уселась на него, как на табуретку, привалилась боком к стене и заснула.
Утром, собравшись с бутылками пива на кухне, мы выкуривали последнюю на пятерых сигарету, смущенно поглядывали друг на друга и, вспоминая все, что творилось накануне, сдержанно хихикали.
- А помнишь, как ты ползала по дороге и искала свою бандану?
- А помнишь, как ты приставала к прохожим и просила сигарету, только без наркотиков?
- А помнишь, как ты справила малую нужду, поставив нас всех кругом? И пела при этом «Встаньте, дети, встаньте в круг»?
Я помнила, все помнила. Только очень смутно. Мне было смешно и стыдно.
Мы сходили в магазин и купили сигарет и пива.
Забрались в комнату и смотрели телевизор.
Шел какой-то дурацкий мексиканский сериал.
Мы отключили звук и стали озвучивать происходящее сами. Причмокивая, когда касались губами пивных бутылок, и тяжело дыша при затяжках. До кучи постанывая, словно в порнофильмах.
Было смешно.
Мы толкали друг друга локтями, сгрудившись впятером на продавленном диване.
В комнате с заветренными коричневыми обоями. Потом заснули вповалку.
С панками было просто. Легко и весело. При них можно было блевать, писаться, плакать и вытворять совершеннейшие непотребности.
За это никто бы не стал смотреть косо. Никто бы не стал осуждать. Мои панки были ручные, как морские свинки, и заботливые, как любящая бабушка. Мои панки оберегали меня, как зеницу ока, единственную девочку в компании. Рассказывали мне похабные анекдоты. Делились любовными переживаниями. Держали над унитазом, если я напивалась и мне приспичивало поблевать. Приносили водки и пива. И никогда, никогда, в каком бы состоянии я не была, не пытались переспать со мной. Чем я была для них так ценна, я не знала.
С интеллектуалами надо было все время держать себя в руках.
Стараться быть серьезной. Начитанной. Воспитанной. Вежливой.
Они с тем же омерзением отвернулись бы от меня, напейся я до икоты или начни я при них плакать или материться.
С интеллектуалами надо было постоянно развиваться. Читать умные книжки. Следить за собой. Я от этого уставала.
Панкам от меня этого было не надо.
Они заранее прощали мне все мои выходки, все истерики, все мое безумие.
После той ночи Кристмас объяснился мне в любви.
Стоя на платформе метро, провожая меня до поезда домой.
Мы стояли, наклонившись над рельсами, привычно, по-панковски пугая пассажиров.
Стояли, махали руками и кричали: «Кис-кис-кис».
Пассажиры тоже наклонялись, пытаясь разглядеть несуществующего котенка.
В черном тоннеле показался поезд.
Мы отпрянули.
Грохот приближался.
- Ну пока, - сказала я.
Кристмас посмотрел на меня и сказал:
- Я люблю тебя, Ежик.
Я тогда цинично подумала, мол, мелочь, а приятно.
- Это здорово, - ответила я. – Любовь – она облагораживает.
Поцеловала его в щеку и шагнула в вагон.
Что во мне такого нашел этот Кристмас, я не понимаю.
В понедельник вечером, отоспавшись после всех подвигов, я поехала к Нику. Без звонка. Дома его не было. Я гуляла по морозу, пыталась дозвониться до него из телефона-автомата. Его не было дома. Потом он появился. Услышал меня, не раздеваясь, выбежал из дома, прыгнул в трамвай и домчался до того места, где я стояла.
Он на меня тогда накричал.
Первый и последний раз в жизни.
Он кричал:
- Тебе никто не нужен! Тебе, по-моему, все равно с кем!
- Не говори мне так, Ник. Не будь сволочью. Я ни с кем, кроме тебя... ни с кем.
- Ты просто монстр, Ежик. Ты чудовище. Такое впечатление, что ты нарочно делаешь всем больно. Ну и как, что ты чувствуешь, когда так надо мной издеваешься? Тебе приятно? Тебе легче? За что ты мне все время мстишь? За то, что я – не Женя? А знаешь, хватит уже. Все, хватит. Оставь меня в покое. Я тебе не плацдарм для самоутверждения. Делай для этого что-нибудь еще. Пиши стихи, мой полы, ставь больным клизмы, рисуй. Или вставай за клавиши и пой песни. Что ты улыбаешься? Ты и играть-то толком не умеешь.
Это был запрещенный прием.
Почти как удар под дых.
Из всего перечисленного я только и умела, что играть на клавишах и петь песни.
Видимо, я и в самом деле окончательно добила его своими идиотскими, злыми и бессмысленными выходками.
Я пожала плечами, развернулась и пошла прочь. Он не побежал меня догонять. Хотя именно на это и было рассчитано все мое неубедительное представление.
Мне было обидно и стыдно.
На следующий день я позвонила. На работе его не было.
Он перезвонил через пару часов.
- Мне передали, что звонила грустная девочка. Я знаю, что это ты.
- Я. С днем рожденья. Ты ведь правда простишь меня?
- Правда прощу.
- Я знала. Скажи, что я хорошо играю.
- Ты хорошо играешь. Ты лучше всех на свете.
- Не, не лучше. Пойдем по Москве шарахаться?
И мы пошли.
Пряча в карманы замерзшие руки, мы с туристической пытливостью обходили незнакомые дворики и заброшенные московские проулки. Москва с какой-то дикой остервенелостью праздновала канун Нового года, схватив с самого начала ноября скользким льдом кривые разбитые дорожки. Заморозив голубей и пьяных. Мы грелись, заходя в подъезды. Выходили – и ахали, поняв, что забрели непонятно куда, видя перед собой то кусок Питера, то кусок Лондона, то квартал Берлина, то задворки Амстердама. Ник держал меня за руку и думал, что теперь у нас все будет хорошо. Я держала его за руку и отдалялась еще больше. Смотрела на призрачное московское небо и напевала очередную песню. Не о нем. Щурилась от желтого света мутных фонарей, и слова в голове складывались в рифмующиеся строчки. В этих строчках для него не было места.
Катька
- Чем ты зарабатываешь на жизнь, Кать?
- Да так… Администратор в салоне красоты. Ты же знаешь, я пошла работать сразу после десятого класса. Да так и засиделась в администраторах.
- Много платят?
- Немного, но на жизнь хватает. Я Козерог. Я бережливая. Даже на декретный отпуск накопить успела.
- А ты не думала пойти дальше учиться?
- Какое там, - хмыкает Катька. – Вот уж никогда не испытывала особой тяги к науке.
- Почему?
- Родилась такой. Вот девчонки в школе мечтали учительницами быть, актрисами, врачами. А мне всегда хотелось просто быть женой и мамой. Растить детей. Играть с ними. Водить во всякие кружки и секции.
- А воспитательницей?
- Ты не понимаешь. Не чужих – своих детей. Устраивать им праздники. Ждать с работы мужа, кормить ужином. Простые, приземленные желания. Одно слово - Козерог. Поэтому я не понимаю, когда девчонки говорят, что не хотят замуж. Ну как это – не хотеть замуж? Как это – не хотеть детей? Это же инстинкт. Это как сознательно отказываться от еды, питья, это как не дышать, не сморкаться, не ходить в туалет.
- О-о… Перевидала я и таких, и сяких.
- Ну расскажи, расскажи.
- Да что там. Осложнения после абортов, кровотечения, чистки… Потом всю жизнь мучаются, на лекарства работают, в итоге усыновляют первых попавшихся детдомовских. А там как сложится, возможно, повезет. Они меняются, конечно, эти детдомовские, когда в семью попадают. Но иногда и наследственность дает знать. В подростковом возрасте на улицу убегают, наркотики, детская комната милиции. Приемные родители вешаются. И никто не знает, почему так. А эти дуры безмозглые, анорексички, которые в модели метят, прости господи… Ходячие трупы, тридцать килограмм весу, и все равно брыкаются, жрать отказываются, пару кило прибавили – уже истерика, ах, я толстая. Да кому ты нужна, скелет ходячий, из пасти воняет мертвечиной, волосы все повылезли, какие на *** съемки, какой на хуй подиум? Разве что в анатомический театр. А ведь тоже хотят не славы, не денег – хотят, чтобы их любили. И честно верят в то, что счастье зависит от количества килограммов в твоем теле. И на таких насмотрелась. Худеют, пока их к нам с сосудистым кризом не привезут. А в эпикризе - двадцать абортов. Потому что ей дети не нужны, но ее ***ый олигарх трахаться с презервативом никак не может. Ему, ***ь, неудобно. И все вокруг какие-то несчастные, такие жалкие, замученные, куда ни плюнь, везде горе.
- Я - счастливая, - смеется Катька. – Я – мама. Но замуж, - серьезнеет она, - все равно хочу. А ты?
- Я? – Я улыбаюсь и молчу. Мне нечего ответить. Я, наверное, тоже счастливая. При том условии, что очень хорошо понимаю весь ужас этой жизни.
- У тебя, - осторожно спрашивает Катька, - есть кто-нибудь?
- Я расскажу, расскажу, - торопливо говорю я. – Только это долгая история. Все так запутано. Надо тогда с самого начала. Помнишь мою первую любовь, Женечку? А Кристмаса? А Никиту?
- Ну да, только смутно.
- Так вот, это только преамбула. Амбула будет впереди.
Ник
Ник улыбался. Смотрел, как я танцую на снегу, напевая очередную глупую песню, и улыбался.
- Ежик, когда ты танцуешь в этих рваных джинсах и тяжелых ботинках - это так пластично, как… как стриптиз Ким Бесингер в фильме "9 с половиной недель". Кто ставил тебе хореографию?
Я останавливаюсь.
- Никитос! Я хочу на «9 с половиной недель».
- Ты что, не смотрела «9 с половиной недель»?
- Не-а.
- Хорошо, Ежик. Я свожу тебя на «9 с половиной недель».
Я грустно раскидываю снег тупыми носами тяжелых ботинок.
- Ник! Почему она ушла от него? Все же было так здорово.
- Потому что у них не было ничего общего, кроме секса. Помнишь японский фильм «Империя чувств»? Вот точно так же. Кроме секса, ничего не было.
- Как это не было?
- Ну так. Вот смотри. Она занимается искусством. Он бизнесмен, делает деньги. Их интересы нигде не пересекаются. Она – живая. Он – мертвый. Он ничего не создает.
- А зачем там рыба?
- О, это очень важный символ – рыба. В фильме три раза появляется рыба. Сначала живая. Бьется на прилавке. Это – она. Женщина. Она пока еще жива, понимаешь? Потом оглушенная. Потом разделанная, нафаршированная и поданная на блюде. Именно так он с ней обращается. Она для него – как та рыба. Как вещь. Он ее покупает. Уже практически купил. Но она все еще живая. И хочет оставаться живой. И не умеет продаваться. Поэтому она от него и уходит.
- А разве он не мог измениться и стать живым?
- Наверное, мог. Но этого не случилось. Такое редко случается.
- А как понять, что тебя покупают?
- Очень просто. Когда к тебе относятся как к вещи. Как к товару. Без любви.
- Без любви. Вот Женечка, моя первая любовь, не покупал меня, а все равно это было с его стороны без любви. Он мне говорил, что любит меня. Так вот, как видишь, он врал.
- Тебе теперь не все равно?
- Мне еще долго не будет все равно. Я думала, он у меня на всю жизнь. Он был мой первый мужчина.
- А я у тебя какой мужчина?
- Тебе не все равно?
- Мне все равно.
Я пинаю смерзшиеся снежные комья.
- Второй.
- Вот как. Теперь понятно, почему ты меня так долго не подпускала.
- Да? Мне непонятно, почему я тебя в итоге вообще подпустила.
Ник отворачивается. Морщится, как от зубной боли. Смотрит в сторону. И спокойно произносит:
- Сволочь ты, Ежик.
Мама-анархия
Зима пролетела невыносимо быстро. Анархический Новый год, бесконечные поездки в Минск и в Питер, и вот уже снова в нос бьет этот весенний и сладкий запах, который я называла воздухом свободы.
Мы любили первое мая. Мы считали его своим, анархическим праздником. Про забастовку чикагских рабочих-анархистов первого мая восемьсот восемьдесят шестого года, с которой и началась великая международная солидарность трудящихся, никто и слышать не хотел, но мы только снисходительно улыбались. Праздник все равно оставался нашим. Несмотря на то, что коммунистов было несколько тысяч, а нас – едва ли несколько сотен.
Мы считали себя левыми. Коммунисты и троцкисты тоже считали себя левыми. Как и социал-демократы, и кадеты, и весь прочий политический сброд. Так что на первое мая мы выходили все вместе, одной толпой. Под разными знаменами, но одинаково готовые порвать глотку ментам за свою мифическую революцию, за свою хрупкую виртуальную свободу.
Мы пели революционные песни. Размахивали черным флагом с черной кошкой. И при появлении ОМОНа моментально разбегались врассыпную. Так что это не было революцией. Это было игрой в кошки-мышки.
Когда через год после расстрела китайских студентов на площади Тяньаньмынь Ник готовил голодовку, он был серьезно готов к тому, что в любой момент его придут и арестуют. Я же не допускала для себя возможности ареста ни под каким соусом. Хулиганить на улицах – это одно. Сидеть за решеткой – совсем другое.
- Ну и правильно, Ежичек, - говорил он. – Ты еще маленькая. Тебе еще рано.
Мне было в самый раз. Мне было шестнадцать. Почти семнадцать.
- Будет тебе восемнадцать, будешь сама за себя отвечать. А пока что за тебя отвечаю я. Тебе не стоит светиться.
Ник не знал, что в мои восемнадцать меня уже не будет в этой стране. Я буду жить на берегу моря, нежного и теплого, и срывать на ходу апельсины с деревьев, и носить шорты по полгода, и смотреть на богатых и умопомрачительно красивых, бездушных мужчин и женщин, которые уходят в это море на собственных яхтах… Там, в моей далекой восхитительной стране, небо будет таким прозрачным, море – таким чистым и ласковым, а воздух – таким жарким, что мне не захочется больше бунтовать.
А в мои шестнадцать мы все еще жили в холодной неприветливой Москве, и каждый раз при выходе из подъезда нас пьянил воздух свободы. СССР больше не существовало. Денег на еду хватало впритык – это у Ника, а у меня хватало и на траву, которую можно было купить в любом ларьке, в любом цветочном киоске, и на пиво, и на наши любимые булочки с маком. Ник писал диссертацию, а я работала санитаркой, с горем пополам заканчивая медучилище. Меня устроили в институт имени Склифосовского. Выздоровевшие пациенты несли нам цветы и конфеты. Их родственники стыдливо засовывали в карман халата падающие в цене деньги. Я экономила на обедах, но покупала себе новые джинсы. Ник тратил свои деньги на журналы и кассеты и третий год носил одну и ту же вытертую куртку.
- Никитос! Ты что, не можешь себе заработать на нормальную одежду?
- Я не жалуюсь на свою одежду.
- Ну блин. Ну ты не крут.
- А зачем?
Я не нашлась что ответить. Для меня одежда была не просто ворохом забавных тряпок. Она была способом самовыражения. Самоидентификации. Это было в крови. Пусть ты даже санитарка в больнице.
Легко было говорить об этом, если у тебя родители-ученые и бабушка, всю жизнь проработавшая во «Внешторге». Легко говорить так, если ты родилась в Берлине и до первого класса средней школы беспрерывно каталась с родителями по миру.
Ник родился в Москве. Ник был из той породы честных интеллигентов, которым, несмотря на защищенные диссертации, вечно не хватает на еду, не говоря уж об одежде. Он жил в квартире с потрескавшимися оконными рамами, давно не ремонтированной ванной и бабушкиным комодом. В его мире не понимали моих заморочек по поводу одежды и стиля. В его мире меня считали неоправданно шикующим мажором. В его мире ученых и суровых бородатых геологов ценился аскетизм и неприхотливость. Впрочем, шестнадцатилетней девочке Ежику прощалось любое сумасбродство.
Мы любили первое мая.
Я несла впереди колонны наше черное знамя с черной кошкой в красном круге. Маленькая стайка анархов среди огромной колонны коммунистов. Но черное знамя было только у нас. И потому среди бесконечных красных знамен его было видно со всех сторон.
Мы шли по Тверской. Мои драные панки и анархисты и я в своей дорогущей косухе.
На первое мая всегда бывало солнечно.
Это было третье Первое мая в моей недолгой анархической жизни. Мое третье и последнее первое мая.
Мы знали, как сматываться от ментов. Знали, как вести себя, если заметут. Знали, как делать, чтобы отпустили. Но все равно было немножко страшно. Хотя мы со всех сторон были прикрыты толпой коммунистов. И от этого страха становилось еще веселей. И мы горланили очередное переделанное Avanti popolo, alla riscossa, bandera nera, bandera nera… Конечно, в итальянской версии пелось о красном знамени. Но мы кричали о черном. Bandera nera la trionfera.
Не помню, откуда тогда вдруг взялся ОМОН. Было такое впечатление, что его десантировали с воздуха вместе со щитами и дубинками. ОМОН появился в самом центре колонны. Красные флаги почему-то не трогали. Били только нас.
Красномордые молодчики лупцевали моих обтрепанных, тщедушных анархов и панков. Моих малахольных хиппи. Моих худеньких девчонок-наркоманок. Меня.
Похоже, они делали это с удовольствием. Им нравилось нас бить. Мы были отбросами, белым отребьем, швалью, не сумевшей вписаться ни в советское, ни в постсоветское общество. Своим идиотским видом мы всех раздражали. Замотанные в палестинские платки, с дредами, с ирокезами, бритые, в рваных джинсах. Мы раздражали их на животном уровне. Мы были для них чужими. Мы были для них врагами.
За спиной у Женечки, моей первой любви, стояли родители. Работники посольства. За спиной у меня стоял Ник. За спиной у Ника не было никого.
Красномордые молодчики добрались и до меня. Легкий удар сзади по коленкам – что вы, что вы, мне совсем не больно, даму под локотки – я вцепилась в знамя, горестно подумав, ну вот, пробил и мой час, надо же когда-нибудь и мне посидеть в ментуре, теперь административное правонарушение как минимум, штрафы, суд, погонят из училища – и мягко унесли в сторону, в арку, во дворик. Древко я не отпускала, думая, что сейчас меня будут бить уже серьезно.
Но бить меня не стали. Сломали древко, а я смотрела на это и ничего не могла сделать – меня по-прежнему держали за руки.
- Отдайте тряпочку, - безнадежно сказала я.
Красномордые молодчики удивленно посмотрели на меня, но знамя вернули.
- В отделение поедем, барышня? – весело сказал кто-то.
- С вами что ли? – сказала я.
- А чем мы тебе не нравимся? – сказал опять кто-то.
- Вы мне ничем не нравитесь, - сказала я и спрятала знамя под косуху. Хотя бы его я сумела спасти, подумала я.
- Отпустите девочку, - откуда-то сзади спокойно сказал Ник.
Как будто тоже появился из пустоты. Десантировался из воздуха, из небытия.
- Меня никто не держит, - сказала я.
- Ну и хорошо, - сказал он мне. А потом ментам, - Не трогайте ее, она маленькая.
ОМОНовцы плотоядно ощерились. Это даже было похоже на улыбку.
- А по виду не скажешь, - сказал кто-то.
- Заберите лучше меня, - сказал Ник. – Я большой. Взрослый.
- Да ладно, - сказал кто-то, - идите. – И махнул в нашу сторону рукой. – Мы что, звери?
Мы видели из арки, что творится на Тверской. Красные флаги рассыпались в стороны, а у ментов и анархов шла кровавая бойня.
- Конечно, звери, - сказал Ник, не переставая смотреть на эту мясорубку.
- Пойдем, - сказала я. – А то еще и тебя заберут. Не смотри туда. Мы уже ничего не можем сделать.
- Не пойдем, - сказал Ник. – Стой здесь. Я сейчас.
И быстро пошел в арку. В сторону Тверской. В сторону бойни.
Ник никогда не дрался.
Но тут он зачем-то полез в самое пекло. Зажав в руке обломок древка от знамени.
- Он ****улся что ли? – сказал кто-то из ОМОНовцев.
- Да, - сказала я. И пошла во дворы, подальше от места спектакля. Не оборачиваясь.
Я не хотела этого видеть.
Уже потом, вечером, когда половину наших все же загребли в отделение, мы начали обрывать телефоны отделений милиции и требовать, чтобы их немедленно освободили, звонить по редакциям газет, развозить фотографии и писать заявления в многочисленные инстанции.
Но было поздно.
Нику сломали нос.
Одной из девчонок – руку.
Они сидели там, в этом тесном обезьяннике, окровавленные, голодные, злые, но при этом были счастливы. Они говорили – система может избить нас, но она не может нас напугать.
Они говорили – мы верим, что когда-нибудь наступит мир, в котором будут жить только свободные люди, в котором не будет ни государства, ни чиновников, ни ментов, ни бюрократов.
Я в это не верила. Хотела верить, но нет… Не в моей жизни.
Катька
- Так что, ты больше не встречалась с отцом своего ребенка? Он больше не объявлялся?
- Неа. Хотя мы в одном дворе живем. Вчера шла и видела, как он в машине от меня прятался. Пригнулся за руль. Как будто бы я к нему ломанулась бы, ага. Сметая все на своем пути! – Катька хохочет.
- На крыльях любви, - поддакиваю я. – Ломая каблуки на бегу.
- А, - Катька снова машет рукой. – Ничего мне от него не надо. Хотя от денег я бы не отказалась. Я, видишь ли, на данный момент пока что единственный кормилец семьи. А у меня еще папа-пенсионер.
- А ты, - осторожно спрашиваю я, - больше никого себе не нашла?
- Ну, девчонки пытались меня с какими-то приятелями своих мужей познакомить. Один мне вроде понравился, СМС-ками перекидывались. А я тогда дома со сломанной ногой сидела, и вдруг он как-то вечером звонит, говорит, я, мол, сейчас приеду. Ну приезжай. Думала, в машине посидим, - куда мне со сломанной ногой-то по кафе шарахаться? - так нет, он поднялся в квартиру. Бутылку шампанского принес. Накрыли на стол, сели. Скользил он по мне сальным взглядом. Ну так, ничего мужик, понтовый слишком. Проговорили весь вечер, время спать ложиться. Где, говорю, тебе постелить? У меня много комнат свободных. Он говорит – или с тобой, или никак. Я говорю – юноша, так если вы на секс намекаете, то у меня вот тут немножко нога сломана. В гипсе. Он говорит, ничего, мне и так нормально. Я говорю, а мне? Я тоже хотела бы как-то поприсутствовать. В общем, обиделся товарищ, собрался и уехал. А мужья девчонок как узнали, знаешь что сказали? Прям хором, единогласно?
- Что?
- Ей мол, что, жалко что ли было?..
- Катька, - говорю я, отсмеявшись. – В этой стране к женщинам относятся как к вещам. Их используют для удовлетворения естественных потребностей. Как, например…
- Унитаз, - говорит Катька.
- Или сковородку.
Мы снова смеемся, зажимая руками рты, чтобы не разбудить Катькиных сына и папу.
16
Лето тоже пролетело невыносимо быстро. С поездками в лес, с концертами в Нижнем Новгороде и Твери, с пришлыми западными леваками.
Оно кончалось.
Очередное анархическое лето.
То лето было грустным и скучным. Тусовка потихоньку расползалась, распадалась, распускалась по швам. Интеллектуалы писали диссертации, панки потихоньку скуривались, скалывались, старчивались и спивались. Единицы из них выживали, пытались стать цивильными. Кристмас ушел в штат газеты «МК». Я закончила медучилище, и меня повысили из санитарок в медсестры.
Как-то раз Шершень и девчонки позвонили мне и сказали, чтобы я приезжала. Что в той квартире, в которой мы все периодически собирались и оставались жить, настала пора делать ремонт.
Я позвонила Кристмасу. Он тоже собирался ехать делать ремонт.
Мы встретились с ним в метро и приехали.
Панки обдирали со стен обои, обнажая наклеенные на бетон куски старых советских газет. Тут же читали их и хихикали. Все уже успели дернуть по пиву, а некоторые – еще и накуриться. Основная толпа кучковалась на кухне, где олдовые люди, деловито выставив на обеденном столе в рядок баночки из-под солутана, варили винт. Кто-то готовил шприц. Один на всех. Этот кто-то мыл шприц под краном с хозяйственным мылом. Девчонки нервно предвкушали лишение венозной девственности.
Панки говорили, что винт – честный наркотик.
Что с него колбасит столько же, сколько и отпускает.
Причем сразу.
Как-то убитые винтом люди пытались починить при мне телефонный провод.
Процесс, казалось, был им до одурения интересен.
Провод они так и не починили. Но зато с неописуемым азартом порезали его на сантиметровые кусочки. Всем было весело.
Потом они оба спали сутки. Потом еще сутки ходили как зомби. С черными кругами под ввалившимися глазами и неспособные внятно выражать свои мысли. А были ли у них мысли?
Им не то чтобы было плохо.
Их просто не было.
Я безучастно сдирала со стены обои.
Рядом стоял Кристмас. Рассказывал какие-то анекдоты.
Солутан наконец сварили. Шприц пошел по кругу. Нас было одиннадцать. Я была единственной, кто отказался от винта. Кристмас смело всадил себе в вену шприц. Зажмурился. И сказал, что я трусиха. Я с ним не спорила. Я не боялась привыкнуть к наркотикам. Я боялась гепатита и СПИДа. Впрочем, в тот раз, кажется, никто ничем не заразился.
Но меня все равно называли чистюлей.
Мне это было приятно.
Я улыбалась и не понимала, что я делаю среди этих людей.
Я не вписывалась ни в панки, ни в интеллектуалы.
Для одних я была слишком припанкованной, для других – слишком начитанной.
Я искала таких, как я. «Сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных».
Нет, теперь я больше уже не хотела жить по Летову.
Я, наоборот, искала нормальных.
Я нашла Кристмаса.
Все думали, что я ушла от Ника к Кристмасу, но это было не так.
Официально я ни от кого не уходила. Просто как-то раз уехала в Питер и не звонила после этого Нику месяц.
Потом мы снова начали перезваниваться.
Я звонила, чтобы рассказать, как мы с Кристмасом и с Олеськой ходили на концерты, какие мы снимали репортажи, как я живу… Только сердце больше не выпрыгивало из груди от восторга.
Никто не верил, что с Кристмасом мы всю жизнь были просто друзья. Даже несмотря на его незначительную, временную в меня влюбленность.
Пройдет, говорила я.
Только не принимай меня всерьез.
Если тебе удобно, люби.
А я пока не могу.
Ни с кем не могу.
Я ничего не чувствую.
Анестезия.
Кристмас меня понимал.
С Кристмасом было легко, как ни с кем больше.
Мы оба не стали ни профессиональными революционерами, ни истинными нон-конформистами. Но про нон-конформистов всем было интересно читать. Нон-конформизм и панк всегда хорошо продаются. Позже ко всему этому присоединится оголтелый экстремизм. К смерти по телевизору привыкаешь с рождения. К смерти друзей никогда не привыкнешь. Наши друзья начали умирать один за другим.
Сначала был Удав.
Потом передознулся Питер.
Потом следующая четверка смелых подцепила в собутыльники какого-то бомжа. Четверка смелых к тому моменту обрела независимость от родителей и жила на заброшенной даче. Бомж в благодарность за гостеприимство запер их и поджег дачу.
Все сгорели заживо.
Еще один спьяну попал под машину.
Тоже насмерть. Моментально.
И одна из девчонок упала под поезд.
Нечаянно. Она не хотела. Так получилось.
Вторая скололась и угодила в психушку. Кажется, она там до сих пор.
Олеська тоже любила винт. Я надеялась, что она еще жива. Я никогда не пыталась ее найти. Она сама угодила к нам в реанимацию. Через пятнадцать лет она была жива, но спившаяся и вся в струпьях. Я была счастлива, что она меня не узнала…
А тогда она, вылетев со второго курса журфака, просто занимала у всех деньги, пила, ела циклодол и самостоятельно варила винт.
- Кристмас, - говорила я. - Я бы никогда не смогла про это писать. Я не журналист. Мне страшно.
- Ежик, - говорил Кристмас. - Пойми, что это делается не ради славы и денег. Кто, если не мы? Это именно те вещи, про которые надо писать. О которых надо кричать. Эти люди – их ничто не держит в этой жизни. Они умирают. Они дохнут. Пусть об этом все знают.
Я отмахивалась от него.
Кристмас делал фотографии.
Его статьи выходили, а нам почему-то продолжало быть за это стыдно. Словно сжималось кольцо, становясь все уже и уже. Наши уходили, один за другим, вымирали, оставляя более везучих, разбросанных поодиночке и растерянных, созерцать разрушенную Москву. Горелые баррикады.
Расстрел парламента.
На дворе девяносто третий год. Самый темный, тоскливый, мрачный год в моей жизни. Вокруг меня разрасталось, словно раковая опухоль, человеческое горе. Люди, которых я знала, заболевали, умирали, гибли.
А потом мне пришел вызов от родителей. В страну, где можно было рвать апельсины и лимоны прямо с деревьев, гуляя по улицам, где море было таким прозрачным, а песок – таким белым, что все казалось нереальным, словно в голливудском кино. Словно в буклете туристического агентства. Словно в мультфильме.
И я подумала, что пора. Что оставлять мне, по большому счету, в этой стране уже нечего.
- Будешь лежать у моря кверху пузом, - говорил Кристмас. - Хорошо, - говорил он, - ты устроилась. Умеют же некоторые.
В этом не было зависти.
Ему просто было жаль, что я уезжаю.
Мне было не жаль. Мне было интересно.
Я думала, что больше никогда не вернусь.
Я думала, я навсегда останусь в этой сладкой стране, где лимонами, растущими на деревьях вдоль тротуаров, пахнет столь резко и приторно, что от этого запаха забывается все на свете, и Ник, и Кристмас, и моя первая любовь, Женечка, и эти холодные мурашки, и эта мерзость, эта гадость…
Обыкновенный панк
1993
Версия Ежика
Тогда еще, в конце девяносто третьего в Москву в первый раз приехал с концертом Егор Летов. Он был нам царь, бог, папа римский и крестный отец – Егор Летов. Остальные музыканты не были способны на такой отчаянный нон-конформизм. У них не нашлось столько смелости и надрыва. А у него нашлось. И поэтому на всех сходках мы орали только его песни. Не песни Шевчука или там группы «Алиса», а исключительно его, летовские. Ну еще и Янкины, но реже – и тише.
И мы всей когортой пошли на концерт Егора Летова.
В ДК имени Горького, не помню, где это. Где-то на севере Москвы.
Отправились все наши. И Олеська, и Кристмас, и девчонки, и Шершень. Отправились заранее, только все равно не успели. Вокруг ДК уже стояла толпа неизвестных истории панков, и все требовали видеть «Гражданскую оборону» и Егора. Они молились на Егора. Думали, что это икона. Что он святой и живет где-то далеко, на облаках, и что это единственный случай, когда он спустился со своих недосягаемых омских облаков. Панки плакали и умоляли ментов, чтобы те пустили их на концерт.
Но что-то пошло не так. Было как-то неладно. Это мы поняли сразу.
Потому что толпа панков должна быть внутри, а все почему-то стояли снаружи.
И плакали.
Пронесся слух, что концерт отменили. Но панки решили стоять до конца.
Не расходились.
Они не хотели драться. Они просто хотели увидеть Егора.
Против левых в этой стране есть единственное испытанное оружие – ОМОН. Я уже не помню, откуда они взялись, эти боровы с дубинками. Понемногу стали разгонять толпу, толпа редела, но неохотно. Нашим тоже попало. Кристмас прикрыл Олеську – и вдруг побелел. Мы оттащили его в какой-то подъезд, прислонили к стене, стали лупить по щекам. У него было сотрясение, он получил по голове дубинкой как минимум четыре раза. После этого я все время представляла себе, что менты именно так наказывают за двойки и своих собственных детей – лупят, и лупят, и лупят им по голове этими резиновыми дубинками… Кристмас на удивление быстро оклемался, а когда мы вышли, застали восхитительное зрелище – толпа панков неслась в сторону трамвайных путей, а за ними тяжело грохотала толпа омоновцев. Подъехал трамвай, мы забились внутрь, Кристмас держал двери. Водитель трамвая, видимо, все понял. Это было чудом. Двери закрылись ровно в тот момент, когда последний из наших втиснулся в трамвай. Прямо перед носом ОМОНа. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Прям по Янке. Погуляли, ****ь, по трамвайным рельсам.
С тех пор я никогда не слушала Летова.
Я даже не могла объяснить словами, почему. Просто не могла его слушать.
Я всегда думала, что писатели, поэты и музыканты должны быть в ответе за то, что создали. И если под песни Мэрилина Мэнсона подростки в американских школах стреляют друг в друга, винить в этом надо Мэнсона. И если от песни Оззи Озборна подвесился какой-то впечатлительный дурило, то в этом виноват Оззи Озборн.
Олеська рассказывала мне, что после выхода «Страданий юного Вертера» Гёте по Европе прокатилась волна самоубийств среди молодых людей. Зато было создан очередной шедевр мировой литературы.
А думала, лишь бы они были живы.
Обошлась бы без такого шедевра эта, блин, литература.
Катька
- Ну так рассказывай, как так получилось, что ты бросила Никиту, и куда делся Женечка?
- С Женечкой, понимаешь… с ним все было по-другому. Он же был богатый. С ним все было как в декорациях американского кино.
- Я помню, - смеется Катька. - Ты тогда очень любила американские фильмы.
- Не очень. Я просто ненавидела Совок.
С Женечкой все было по-другому. Можно было смотреть видео, можно было слушать музыку на дорогущей системе. Пить чай с печеньем, сидеть, устроившись у распахнутого окна на подоконнике, и курить «Житан», выдыхая дым в закатное небо, да, «Житан», моя первая любовь Женечка привез мне из Парижа целый блок, еще оставалось, я курила его понемножку, чтобы хватило на подольше, и думать, что хорошо бы так было всегда, или еще – хорошо бы умереть прямо сейчас, потому что было понятно, что рано или поздно он бросит меня, Женя, Женечка, аспирант МГИМО, прикладывал меня к своим душевным ранам, как марлю, точно так же, как после него я пыталась вылечить свои раны Ником. Я написала Женечке стих «Ты уйдешь, когда кончится лето», и в конце лета он ушел от меня, точнее, ушла я сама, хлопнув дверью, потому что дальше было уже невозможно. Потом были какие-то телефонные звонки, бессвязные разговоры, говорили, что он даже хотел помириться, приехал специально на один из концертов, но я была уже с Ником и делала вид, что счастлива с Ником.
Катька грустно улыбается.
Я снова вылезаю на балкон с сигаретой.
Я до сих пор курю «Житан». И по-прежнему не боюсь высоты.
Моя лучшая подруга говорила, что словами мы создаем реальность, нужно только произнести слова и поверить в них, и тогда эти слова вдруг станут правдой, но я не верила в то, что с Ником можно быть такой же счастливой, с ним было хорошо, с ним было легко и весело, и бабушка то и дело говорила мне «Не бросай Никиту», а мне всю жизнь так не нравилось имя Никита, что я его то сокращала до Ника - мы тогда любили слушать Ника Рок-н-ролла, вот с этого и повелось - то удлиняла до подросткового Никитос, но он не обижался, говорил, хоть горшком, смеялся, рисовал про меня комиксы и читал мне стихи по-испански…
Катька тихо крадется ко мне на балкон. Ей интересно дослушать всю эту историю до конца.
– Так что там Женя?
Я помню все так ярко, как будто это было вчера.
- Женя, да, и этот чай с печеньем в жестяных коробках, Женечкина мама привезла откуда-то из Брюсселя, а может, из Бонна, его родители тогда часто по всяким странам ездили, ну и хорошо, квартира оставалась свободной, только кота надо было кормить и не водить тусовки, потому что Совок, понимаете, драгоценности, всякое винище и коньяки дорогие в баре, ну и техника, у него был видеомагнитофон, мы смотрели фильмы, фиговые американские слезливые фильмы, мы болели весной шестьдесят восьмого года, как бы было хорошо оказаться не в Москве в начале девяностых, а в Париже в мае шестьдесят восьмого, это Женечка так говорил, потому что Даниэль Кон-Бендит, студенческие волнения, это же было замечательно, у них, видимо, тоже сорвал башню воздух свободы, от которого пьянеешь хлеще, чем от стакана ледяного виски, но мы считали, что и в Москве еще надерем всем задницы, и мы выстраивались в пикеты напротив Моссовета, и Женечка, такой высокий, такой красивый, настоящий революционер, замотанный в палестинский платок, что-то выкрикивал в матюгальник, ах, да, я же еще не рассказала историю про Родионова и Кузнецова, были два такие мальчишки, наши, анархи, маленькие еще, лет по восемнадцать, пришли на какую-то акцию «ДемСоюза», и их свинтили, и за что, непонятно, пришили статью о хулиганстве, сопротивление властям и прочую всякую ересь, и мы начали скандалить, Лерочка Новодворская выступала как правозащитница, а еще был такой убойный чел – Я Зеленый, в паспорте было так и написано, имя – Я, фамилия – Зеленый, тоже правозащитник, в общем, мы долбили пикетами прокуратуру, писали в разные инстанции, и по газетам инфу пустили, и вот этих мальчиков держали где-то полгода за решеткой, а потом отпустили – вроде как смягчили наказание, я была на суде, когда их выпустили из-под стражи, мы все плакали, обнимались, по первому каналу показали сюжет, ну тогда еще все можно было, гайки не прикрутили, швыряло как-то, было неспокойно, но совсем не страшно, а потом мы обычно ехали к Женечке, я вытаскивала его на крышу, он не любил лазить со мной на крышу, высоты боялся, а я вот нет, легко могла сесть и ноги вниз свесить, он видеть этого не мог, нервничал, у него даже с сердцем как-то раз плохо стало, у него порок был врожденный, и он все время ругался на меня, когда я сидела у него дома на подоконнике с распахнутым окном, все-таки тринадцатый этаж, а это мое любимое число, представляешь, мы, анархисты, в приметы не верим, у нас даже символом – черная кошка, короче, когда он меня бросил, когда появился Ник, все было не так, Ник не мог подарить мне мои любимые сигареты, а я уже успела привыкнуть к Женечкиным подаркам, ну и что, что анархи, почему они должны быть бедными и выглядеть как бомжи, ну да, панки, революция и все такое, но я любила комфорт, понимаешь, любила красивые вещи, а у Ника ничего этого не было, ему и не нужно было, а мне, видимо, нужно, еще и Олеська со своими новыми русскими всю плешь проела, да сколько он зарабатывает, да сможет ли Ник меня обеспечивать, он ведь бедный, он нищий аспирант, потерянный маргинал, - а я всю жизнь сама себя обеспечивала, не знаю, почему я так серьезно отнеслась к ее словам, в общем, что теперь говорить, сколько лет с тех пор прошло, где он и где я, а где Женечка…
- И где?
- Где-где… в ****е. Такая история.
Катька смотрит на меня непонимающим взглядом.
- А Никита? Ник?
Ник
В декабре шел дождь. Противный, занудный дождь, от которого хотелось выть на луну и сводило зубы. Кристмас улетел в командировку во Владивосток. Олеська ушла в разгул и запой, поэтому звонить ей я не хотела. Очередной вечер, когда нечем заняться, и ты слоняешься по квартире, задевая плечами углы, берешь какие-то книги, кладешь на место, потому что в голову не лезут все эти истории, все эти слова, все эти сюжеты. Просто пустой, тупой, скучный вечер. Зима, что тут попишешь.
Нет, я не боялась звонить Нику. Я знала, что Ник – единственный, кто сможет меня развеселить. Он вообще почти всегда шутил и улыбался. Даже когда шел под ментовские дубинки.
Просто мне снова было стыдно.
- Ник… Как у тебя дела?
- Привет, Ежонок.
Наверное, время такое невеселое, подумала я, если даже у Ника грустный голос.
- Как ты поживаешь?
- Ну так… - говорю я. – Поживаю.
- Что нового? По-прежнему ходите с Олеськой по концертам?
- Ну да. Вот позавчера сходили на БГ.
- Ну и как?
- А никак. Никакой он не БГ. Просто Г.
- Расскажи?
- Да что рассказывать, - вздыхаю я. – Приехали, послушали концерт, как всегда, прошли в гримерку, сам он куда-то смотался, сидит новый состав, что, говорит, девчонки, пришли за интервью? Поехали с нами в гостиницу, там и поговорим. Мы сели с ними в автобус, приехали. Стол накрыт в номере, водка рекой…
- Олеська напилась, - продолжает Ник.
- Ну да. А самого все нет. А потом я спросила, а как же интервью, времени за полночь, а они говорят – вы что, не знали, для чего сюда едете? Лучше раздевайтесь побыстрее…
Я потянулась за сигаретой.
Ник молчал.
- Не бойся, - говорю я, закуривая. – Ничего не было. Я достала паспорт, показала им, сказала, что я несовершеннолетняя и, если что, всех пересажаю. В общем, нас отпустили.
- Противно как… А интервью?
- Приехали на следующий день на прессуху. Сидел такой важный, мегагуру, ни на один вопрос толком не ответил. Скользкий, как червяк. Гадость. Олеська ему процитировала все тексты на английском, которые он перевел и выдал за свои. Он в ответ сказал ей что-то такое совсем завернутое и эзотерическое. Дрянь. Я не буду его больше слушать.
- С кем ты сейчас? С Кристмасом?
- Дурак что ли? – смеюсь я. – Сама с собой. Я никогда не была с Кристмасом.
- Понятно, - говорит он. – Приезжай как-нибудь в гости, Ежик. – Потом медлит и добавляет, - я по тебе скучаю.
- Черт, - говорю я, чувствуя, как голос разом становится сиплым. – Конечно, приеду. Когда? Хочешь, сейчас? Что тебе привезти?
Ник снова смеется. Таким знакомым смехом.
- А слабо в это время суток достать булочку с маком?
- Не слабо, - говорю я. – Только что это меняет…
- Мир, Ежичек, - говорит Ник, - меняется от нашего присутствия и наших поступков каждую секунду. Ты никогда не знаешь, каким следом и для кого ты останешься… хотя бы с этой булочкой.
- Хорошо, - говорю я и смотрю в окно, в ночной дождь, на Москву, дрожащую от света фонарей. – Я еще, кажется, успеваю на последний поезд.
Женя
- Сложный у меня тогда был период в жизни. И тут вдруг появляется эта девочка, Ежик. Хорошая такая, свеженькая. Пятнадцать лет. Горит революционными идеями. Рвалась вместе с нами на баррикады, говорила, что учится на медсестру, что умеет раны бинтовать. Ну куда ее – маленькая совсем, жалко же ребенка. Мы предложили ей листовки рисовать и заголовки для газеты придумывать. Согласилась. В общем, она мне понравилась. На первой встрече мы сидели у кого-то дома, я ей все время вина подливал. Напилась, расслабилась, шутить стала. Все тут же начали к ней приставать, а вдруг что обломится, она была глупенькая, но хорошенькая. Таких все любят. Но она потом уехала. Я ей через пару недель позвонил, позвал рисовать листовки.
Говорю ж, сложный был период. Проблемы с ментами. Аспирантура. Тем летом меня бросила любимая женщина, Ева. Не могу сказать, что мне с ней было хорошо. Она меня не любила. Она никого не любила. Диктатор в юбке, одно слово. Вот кто был настоящий профессиональный революционер. Она ничего не боялась. Говорила, что чудом живет на этом свете. Говорит, что уже умерла – должна была умереть, у нее в подростковом возрасте нашли опухоль мозга, запущенную, от нее отказались все врачи – от одиннадцатилетней! – и отправили домой, под присмотр мамы. Мама поймала такси, чтобы отвезти умирающую Еву. Плакала в машине, рассказала всю историю таксисту. Таксист оказался родственником какого-то светила в области нейрохирургии. Еву отвезли в Филатовскую больницу. Спасли. Так что она осталась жить. Но после этого двинулась головой. Говорила, что живет бонус-треком. Не боялась, ни ментов, ни приводов, ни тюрьмы, ни смерти. Чего ей было бояться? Собственная жизнь для нее была минимальной ставкой.
После операции у нее случались приступы, жуткие головные боли. Она не могла жить без каких-то лекарств, возила с собой таблетки, а однажды, в лагере, они закончились. И я видел такой приступ. Она кричала, плакала, царапала ногтями землю и умоляла ее убить. В общем, страшно это. И жалко ее было до слез. Гнал ее из головы, развязаться не мог.
Потом она нашла себе другого человека. Я даже не знал, кого именно, я просто чувствовал. В одно мгновение она стала такая отстраненная, такая чужая. Спокойно так сказала мне «Женя, мы расстаемся. Это не подлежит обсуждению". И переспала со мной на прощание, из жалости. Я мог был ее убить в тот момент. Я хотел. Хотел, чтобы ей было больно. Так же больно, как и мне. Но я просто уехал. Она осталась.
А тут, в Москве, вдруг нарисовалась эта девочка, Ежик. Вундербэби. Ходила по тусовкам, играла на пианино, песенки пела. Если б не она, я бы рехнулся. Я бы сошел с ума от тоски и от скуки. Хорошо, что она была. Она меня понимала. Только любви у меня к ней не было. Так бывает, да. Есть рядом с тобой человек – классный, юморной, веселый. И здорово с ним, легко, свободно. Только любви к нему нет. Что тут поделаешь?
А в конце осени вдруг позвонила Ева и сказала, что беременна. Я не знал, что делать. Я не был готов иметь детей. Тем более детей с ней. Так что я предложил ей денег. Мы встретились, поговорили, но недолго. Она меня во всем обвинила. Я сказал, делай что хочешь, рожай или делай аборт, я дам тебе денег, куда ж деваться. Она съездила мне по морде и ушла. Что касается по морде, то, наверное, правильно.
А Ежик что-то явно чувствовала. Похудела, синяки под глазами, и глаза эти преданные, полные слез, - она прятала их под черными очками. Я ее такой видеть не мог. Она сказала, что если я ее брошу, она вскроет вены. Сволочная она была девочка. Это ведь шантаж. Я ей так и сказал. Хватит с меня потенциальных самоубийц. Но она вцепилась в меня мертвой хваткой, ни в какую не хотела отпускать.
А Ева решила рожать. Беременность была тяжелой. Три месяца она мучилась, еле ползала, потом случился выкидыш. Она позвонила мне ночью, я примчался. Она говорила, что умирает. И наотрез отказывалась ехать в больницу. Сидела на полу, в луже крови, тряслась и кусала рукава свитера. Утром ее забрали на скорой.
Все обошлось, но после такого я не мог ее бросить.
Собрал вещи, уехал жить к ней. Но с ней было трудно. Долго с ней вряд ли бы кто смог.
А потом на одной из конференций вдруг наткнулся на свою девочку. Она говорит, поздравляю, в качестве отца ты состоялся.
Показывает пальцем на живот.
Надо было дать ей денег на аборт.
Но я не решался ей звонить.
Думал, повешусь.
А потом она сама позвонила.
Говорит, не переживай, мол, все обошлось.
Это была не беременность. Просто очень долгая задержка. Переживания там, нервы. Попортил ты их мне, любимый.
Ну и на том спасибо. Успокоила.
Весной я вернулся.
Попросил прощения у своей вундербэби.
Она сказала, что простила, но на самом деле нет. Начала пропадать куда-то, ругаться со мной, капризничать… Все уже было не так. Как будто она знала, что мы с ней расстанемся. Все чувствовала. Я ведь ее не любил. Надо было ее послать с самого начала. Но мне было стыдно. Я так просто не мог. Хотя, конечно, я по уши виноват перед ней. Не сказал, что уезжаю в Китай. Не сказал, почему. Не сказал, с кем. Она сама выяснила. Маленькая была, еще не понимала, что вся эта революция – игрушки, просто игрушки. Рано или поздно каждый из нас встает перед выбором: что дороже, мифическая революция или собственная, личная свобода. Я так устал воевать с этой системой в одиночку. Я так устал бояться. Я хотел просто нормальной жизни. До нее это почему-то не доходило.
В итоге мы и расстались.
Она потом, я знаю, нашла себе нормального парня. Только сама свихнулась. Издевалась над ним при всех, чуть ли не с говном мешала. Он все терпел. А со мной добрая была такая, хорошая. Любила меня, наверное, дура. Все, не хочу вспоминать. Она меня еще тогда достала своими слезами. Ну ее на фиг.
Мама-анархия
Зачем, с какой стати снова, в две тысячи шестом году, я вдруг вспомнила про Ника, от которого, как и ото всех остальных, я сбежала сорок тысяч лет назад, и подумала, что, может, стоит позвонить ему, он всегда был мне рад, даже после того, как я его бросила, все думали, что я ушла к Кристмасу, но это было не так, я ушла сама к себе, Кристмас мне всегда был просто другом, какое-то время – хорошо – пусть влюбленным другом, он был репортером, он был журналистом, и мы успели объездить с ним всю Москву и Московскую область, после «МК» он даже какое-то время поработал корреспондентом «Времечка», я повсюду была с ним, потому что просто не могла быть одна, и мне было все равно, чем заниматься, лишь бы меня не оставляли в четырех стенах с собственными мыслями, такая херня в голову лезла, так что лучше с Кристмасом, все время с ним, мы видели умирающих стариков, умирающих младенцев, убийства, изнасилования, ограбления, шантаж, а еще как-то раз его дернули с оператором – и со мной, конечно – в квартиру, где, по слухам, лежал мертвый пенсионер, соседка сказала, что он не выходит уже неделю, мы приехали, и Кристмас ногой выбил дверь, дверь была фанерная, вылетела с полпинка, пенсионер был еще живой, поскользнулся в ванной, перелом шейки бедра, у стариков такое часто бывает, и он лежал в этой загаженной ванной, худой, седой, вонючий, обосравшийся, и не мог дышать, Кристмас взял его на руки и сказал – да он как пушинка, я сказала, чтобы оператор снимал, но тот отказался, сказал, я не могу, у журналистов должна быть своя этика, я не могу показать это по центральному каналу, мы позвонили в скорую, приехала медсестра, пощупала пульс и сказала, что это уже не жилец, и ушла, Кристмас сказал – Ежик, еб твою мать, что ты стоишь, ты же медик, сделай же что-нибудь, а я сказала – а что я сделаю, у меня даже нет с собой нашатыря, и старик за десять минут умер у нас на глазах, даже не мог ничего сказать, смотрел так жалобно, а потом отъехал в страну вечной охоты, так что пришлось вызывать труповозку, ментов и все такое прочее, и после этого я опять приехала к Нику, и он обрадовался, а я курила у него на кухне, насупленная, рассказала ему всю эту историю, и он долго сидел, нахмурившись, глядя в окно, за которым стремительно падало вниз солнце, огромное, красное, наглое, оно будет падать так и через тысячу лет, когда не будет ни тебя, ни меня, Ежик, а я курила, сидя на подоконнике, распахнув окно и свесив вниз ноги, высоко, но он за меня не боялся, говорил, что пока мы помним друг про друга, ничего с нами не случится, и мы уснули, просто обнявшись, как старые друзья, и я сказала, что скоро уеду, мне все надоело, а там у меня родители, которых я вижу раз в полгода, океанологи, то в одной части света, то в другой, привозят шмотки, приводят подарки, а теперь живут на берегу, где прибой и пальмы, зовут меня туда, а теперь, когда я закончила медучилище, можно спокойно валить, я уже делаю загранпаспорт, так что еще полгода, и все, надеюсь, на этом все, я сказала про это только Кристмасу и тебе, Ник, но я знаю, ты поймешь, что мне здесь делать? - тут почти что война, и это не моя война, я так устала от этой вечной зимы, от этой грязи, от этого бессмысленного бунта, а он сказал, позвони тогда, если вдруг вернешься, я сказала, хорошо, я позвоню, но надеюсь, что я не вернусь.
Я вернулась через два года, но я так ему и не позвонила. Просто не вспомнила.
Вспомнила только тогда, когда прошло много лет, когда, как и в шестнадцать, очередной мерзавец, которому было плевать на меня, походя разбил мне сердце, и бежать было некуда, как и в шестнадцать, разве что к Нику, у него, видимо, был специальный клей для склеивания разбитых сердец.
Я помнила наизусть его телефон, но никогда, ни разу в жизни я не подумала о том, чтобы позвонить Нику. Вот и тогда я просто сидела, курила и вспоминала. А вдруг, малодушно думала я, там семья, жена и все такое прочее, а вдруг он давно ушел из анархистов, зачем бередить старые раны, разберусь я сама со своим мерзавцем, Ник же не виноват в том, что я в таких влюбляюсь. А вдруг, думала я, в конце концов он просто будет мне не рад.
Мне было с ним хорошо, да. Только одна загвоздка – он не был похож на мою первую любовь. И на меня тоже не был похож. Он не был мерзавцем. Поэтому я никак не могла в него влюбиться. В этом все дело.
16
Эта гадость… Эта мерзость, которую нашла в квартире у своей первой любви, Женечки… Эта дрянь… Я так хотела бы, чтобы он от нее отказался, чтобы сказал, что это не его, это чужое, *** знает, что это такое, подделка, неудачная шутка, оставили гости, хотя бы что-то соврал, он ведь так хорошо умел врать…
Но Женечка сказал мне правду. Это ему было несвойственно. Он все-таки вырос среди чиновников. Говорить правду – чтобы не нервировать собеседника – у них было не принято. Обычно Женечка отделывался от меня откровенным враньем или обтекаемыми фразами. Чтобы не расстраивать. Чтобы не обижать. Чтобы не делать больно. Он меня жалел. От этого было еще больнее. Но в этот раз моя первая любовь, Женечка, по непонятным мне причинам, видимо, растерявшись, сказал мне правду. И после этой гадости ему уже было нечего терять, поэтому он сказал мне и всю остальную правду. Про свою любимую женщину Еву, про ее выкидыш, про то, как ездил к ней ночами, как сорвался к ней в Питер, а мне плел про срочные вызовы на работу, про аспирантуру, про конференции… он сказал мне про то, что никогда не любил меня, просто не мог оставаться в одиночестве… Я могла бы остаться с ним, перетерпев и это, если бы не та гадость, та дрянь, та мерзость, которая все перечеркнула, я бы могла любить его до конца жизни, если бы не эти отвратительные бумажки, после которых больше ничего не могло быть между нами… Нет, никакой ошибки. Никакой путаницы, никакого недопонимания. Он уходил от анархистов. Он нас бросал. Он выбрал нормальную жизнь. Так что он никогда и не был анархистом. Несмотря на замотанный на шее палестинский платок и длинный список статей в радикальных газетках. Несмотря на то, что его знали леваки всего бывшего СССР, не говоря уж о леваках из-за границы. Несмотря на то, что он, как представитель русских левых, как истинный революционер, единственный, кто свободно говорил по-немецки и по-английски, ездил во Францию и в Испанию на международные левацкие съезды. Он был сыном посольских работников, и потому он решил жениться не на мне и не на своей любимой женщине Еве, а на Илоне. На дочери маминой подруги, на дочери чиновников-функционеров.
- Почему?! – кричала я. – Я поняла бы, если бы ты снова ушел к Еве, но почему так?!
- Потому что, - монотонно и сонно говорил Женечка, - я устал. Я устал вести этот полуподпольный бизнес, устал давать взятки, устал все время бояться, что меня поймают с этими контрабандными шмотками, с этими поддельными духами и просроченной косметикой, что опять будут шантажировать аспирантурой, что будут грозиться уголовщиной, что меня попросту прибьют на этом рынке. Я устал откупаться. С Илоной и ее родителями – с ее папой – мне это уже не грозит. Мы спокойно откроем представительство компании в Китае и спокойно, легально будем зарабатывать деньги. И никакие менты меня там не достанут.
- Ты продался! – кричала я. – Дешево же ты ценишь свою свободу, если продал ее за эту дрянь!
- Знаешь что?! – зло ответил Женечка. – Есть только одна свобода. Это когда ты не сидишь за решеткой. И не дай бог тебе пережить такое.
Я смотрела на него и не знала, что ответить. У меня тряслись руки и стучали зубы.
- Женечка, - тихо сказала я. - Но ты же ее не любишь...
- И что? - усмехнулся он. - Какое твое дело? Это не тебе, это мне с этим жить. Только, - как-то спокойно и равнодушно добавил Женечка, - умоляю тебя, не будь дурой. Не говори никому. Тебе все равно не поверят.
Я и сама в это не верила. Я запустила в него сумкой и сбежала, захлопнув дверь с такой силой, что в подъезде зазвенели стекла. Я шла под дождем по Волгоградскому проспекту – прямо по двойной сплошной – надеясь, что меня сшибет какой-нибудь сумасшедший водитель. Но меня не сшибли. Рядом со мной остановились какие-то веселые братки на бордовой «девятке», усадили в машину, протянули бутылку пива, выспросили адрес и подвезли до дома. «Не ссы, Женек, - на прощанье сказали братки, - прорвемся. Всякое бывает, нам тоже несладко".
Женечка уходил из моей жизни. Я видела документы. Через несколько месяцев он должен был жениться на Илоне, естественно, не сказав об этом никому из наших, не пригласив на помолвку – оборванным левакам нечего было делать на таких понтовых мероприятиях, а сейчас Илона укатила с родителями в Бельгию, а потом, после свадьбы, они с Женей должны были уехать вдвоем в Китай. В тот самый Китай, на главной площади которого давили танками безоружных студентов и где, щедро сдобренное выручкой за одноразовые кроссовки, футболки и игрушки, росло и жирело светлое коммунистическое будущее. В пухлый Женин загранпаспорт были вложены бумажки о регистрации конторы, какие-то анкеты, выписки, справки - и заявление на получение визы. Паспорт, документы из загса, загранпаспорт, диплом МГИМО, какие-то бумажки Илоны, бескровной, тощей Илоны, этой – как он сам называл ее – бледной спирохеты – все это было аккуратно сложено в пухлый конверт канцелярского серого цвета. Эта гадость, эта мерзость, эта дрянь хранилась у него в верхнем ящике письменного стола, в котором я шарила, пока он спал, ища фотки его любимой женщины, его Евы, ее вещи, ее письма…
Я ненавидела город, в котором все это случилось. Я больше не хотела здесь оставаться. И от этого меня не мог вылечить ни Ник, ни Кристмас, ни один человек на свете. Я хотела сбежать хоть куда-нибудь, хоть на Северный полюс. Я получила свой медсестринский диплом, получила вызов и подала документы на визу. Потом забрала в кассе «Аэрофлота» оплаченный билет. И все. Прощайте, мои дорогие. Надеюсь, что больше я к вам никогда не вернусь. Счастливо оставаться.
Первая любовь, и Кристмас, и Ник, - они все стали для меня затяжным сном, воспоминанием, затянувшимся похмельным бредом, они все казались мне персонажами какой-то пьесы, вовсе не настоящими людьми, и самолет летел в далекую волшебную страну, где никогда не бывает снега, никогда не бывает ОМОНа, никогда не бывает ни винта, ни кокса, ни точек, на которых, нервно пританцовывая на снегу, испуганно озираясь, топчутся наркодилеры, где нет ни палестинских платков, ни анархической прессы, в идеальную страну, созданную словно по лекалу, где идеальные женщины спали с идеальными мужчинами, где по берегу чередой выстроились пятизвездочные отели с прилегающими, белыми до рези в глазах песчаными пляжами и ласковым, прозрачным и теплым морем, с лунной долиной, через которую вырублена трасса от прибрежного города в столицу, с инжиром и апельсинами, нависающими над головой, и с небом, которое шесть месяцев в год остается безоблачным, и только ближе к октябрю на асфальт начинают падать тяжелые капли, много шума – и ничего, гроза получается только с третьей или четвертой попытки, но так, что пересохшая речка моментально наполняется и выходит из берегов, грязные следы на полу, под мостом буйствует стихия, гонит к морю мутные коричневые волны, в конце октября все еще под тридцать, и только в феврале дуют холодные ветры и дождь, ливень, словно по расписанию, льет каждую субботу, но что это после Москвы с ее грязным снегом, жидким вонючим месивом на дорогах и аляповатым, кричащим богатством тех, кто успел разбогатеть, с ее стальным небом и унылыми, монотонными многоэтажками, все это оставалось позади, как фотографии на перевернутой альбомной странице, как скомканный, выброшенный билет на только что отсмотренный, долгий, муторный, тяжелый фильм, оставались здесь, вместе с Пушкой, вместе с ГЗ МГУ, вместе с Тверской, с больницами, операторами, журналистами, наркоманами, моргами, реанимациями, операционными, оставались жить без меня - моя музыка, мои панки, мои оранжевые, моя анархия.
Конец первой части
Часть вторая
Не 16
31
Я – одинокая женщина за тридцать. С комплексами по поводу собственного социального статуса, собственной внешности и уровня собственного материального благосостояния.
Моя жизнь – словно поставленная на паузу видеокассета. Подрагивающее изображение, застывшее в одной точке. Свое время я провожу на работе от смены до смены. Впрочем, мои выходные тоже не отличаются разнообразием. Сериал «Секс в большом городе». Редкие вылазки до магазина. Генеральная уборка в давно не ремонтированной квартире откладывается с недели на неделю и ограничивается лишь тем, что я кормлю своих котов, чищу лотки, ложусь в ванну с пеной и отключаюсь. Иногда я вляпываюсь в короткие отношения, ненужные, пресные, мертвые и пластиковые, как вибратор. В роли вибратора выступает очередной женатый придурок.
К неженатым я отношусь с еще большим презрением. Если верить собственному опыту, мужчины моего возраста остаются без штампа в паспорте исключительно из-за наличия проблем психологического или сексуального характера. Возможно, бывает и по-другому. Анархисты учили меня верить только собственному опыту. Я давно перестала верить самим анархистам. Собственный, мать его, опыт. Врачи научили меня цинизму. Это все, что у меня оставалось. До тех пор, пока не появился этот мерзавец.
Наша медсестра Алена говорит, что анестезиологи и хирурги могут выпить больше, чем все остальные врачи вместе взятые. Неврачи могли с нами даже не тягаться – это рискованно и бессмысленно. Мы умели пить чистый спирт, не жмурясь, запивать его водкой, а потом, вопреки всем питейным законам, полировать вином и пивом вперемешку. После этого иногда приходилось идти в операционную. В операционной все моментально трезвели. Для меня это оставалось чудом. Мы выходили после сложнейших операций, снимали перчатки и наливали себе еще по стопочке. Начинали вечные пьяные споры. Когда мне надоедало пить с врачами, я втихую, вопреки неписаному докторскому правилу «Никогда не квасить с пациентами», уходила пить с больными.
Какие-то люди в дорогих пиджаках, накинув халаты, проходили в отдельную палату к этому мерзавцу. О чем-то вполголоса говорили за закрытыми дверями. Оставляли пакеты из Duty Free. В пакетах позвякивали пузатые бутылки с виски.
- Вам же нельзя пить, - сказала я.
- Ты издеваешься что ли? – ответил он. – Виски любишь?
- Придется полюбить. Вы знаете, что вы выжили только из-за того, что были вусмерть?
- Так надо же это дело отметить. Приходи, когда все улягутся. Захвати мензурки. И презервативы.
- Мензурки захвачу. Не вздумайте надеяться на интимную близость. Секса в вашем состоянии вам точно нельзя.
- Совсем нельзя? – жалобно переспросил он.
Я строго ответила:
- Только легкий петтинг.
- О! Легкого петтинга у меня с семнадцати лет не было! Обещаешь?
Я расхохоталась.
- Нет.
Этот мерзавец
Я смотрела на него и думала - почему же мне не шестнадцать?
И даже не двадцать пять.
Будь мне шестнадцать, меня бы убила такая любовь. Она бы меня растоптала. Я помнила, как это было. Слезное объяснение в любви, пьяная истерика, битье пивных бутылок об асфальт, пробежка до кустиков, размазанные по щекам потоки черной туши, похмельная прогулка по просыпающемуся осеннему городу. Лекции будут забыты, телефонные номера друзей – до поры до времени покоиться в захлопнутых телефонных книжках. Итогом такой любви станут двухнедельные запои и расцарапанные безопасной бритвой вены.
Но мне не шестнадцать.
И даже не двадцать пять.
Будь мне двадцать пять, я сама бы убила такую любовь. Мои преуспевшие в мастерстве манипуляций подруги подробно и безуспешно учили меня, как сделать так, чтобы мужчина ревновал, страдал, мучился догадками, есть женщины, которые умеют и такое. Это как играть в марионетку – дергаешь за нужные ниточки – шевелятся соответствующие хвостики. С каким азартом можно играть в такую войну! А еще мы тебя вот так! Опа! – Опять разрывается телефон. – А теперь вот так! Опа! – И рабочий стол завален мерзлыми цветами. – А вот еще иголочкой кольнем в то самое местечко. Что, сволочь, больно? Думаешь, мне не больно? Ха-ха, накололи дурака. Нет, мне не больно. Мне страшно, что, когда ты меня бросишь, будет очень больно. Так что на всякий случай я тебя сама сейчас брошу. Еще немножко помучаю– а потом брошу. На самом деле, конечно, все это безумие надоест тебе первому. Ты устанешь. Так что это ты меня бросишь. Но я сделаю так, чтобы все выглядело, как будто это я. Чтобы в итоге – все-таки не очень больно.
Но мне ведь уже не двадцать пять.
Так что я не знаю, что делать с этой любовью.
Прогулять работу? Устроить пьяную истерику? За что им такое? Они ведь не виноваты, что мы в них влюбляемся.
Так что разве это столь необходимо – расставлять ловушечки, точить коготки, готовить крючочки? Играть в беззащитность, в недоступность, в звездность? За что им такое? Разве они заслуживают того, чтобы быть подопытными кроликами? А если без манипуляций, без стрельбы глазами, без коварных планов и подстроенных подножек, так вот по-честному, просто по-дружески, по-человечески, я вот тебе – ты только не смейся – дарю кусок своего сердца, то что, никак, да? Никак?
Мне не шестнадцать. Не двадцать пять.
Никаких долгих ночных звонков.
И похмельных утренних прогулок по осеннему городу.
Поцелуев на морозе.
Туши, потекшей от слез.
Обкусанных губ и бесконечных прощаний.
Теперь все по-другому.
Стерильность и сплошь улыбки на фотографиях.
Пронзительно ясное, синее небо.
И жизнь, четкая и размеренная до звенящей прозрачности.
Никаких таких жалобных «Я не могу без тебя».
О, еще как могу.
Много-много дней подряд.
Я просто все время думаю об этом мерзавце.
Катька
- Я никогда, - говорит Катька, - никогда никому не говорила этих слов «Я тебя люблю».
- Почему? – спрашиваю я.
- Не люблю врать, - говорит Катька. – Ну если только в шутку.
- Разве это вранье, - говорю я. – Любить можно две минуты. День. Час. Неделю. Неважно сколько. Вряд ли можно любить всю жизнь. Но до тех пор, пока ты любишь, ты не врешь.
Катька прикусывает губу. На несколько секунд замолкает.
- Так откуда он взялся, твой мерзавец?
- Да не мой. Этот. Этот мерзавец. Все очень просто получилось. Алена отмечала день рожденья, как раз только сдала сессию в институте, а у нас все было просто, реанимация – дело такое, все на ты, хирурги дружат с медсестрами, реаниматологи пьют с санитарами, и мы все собрались в ординаторской, принесли торт, цветы, и еще пришли наши друзья – мои и Алены, они катались на роликах, и мы их втихую тоже пропустили на пьянку, они-то больше по пиву, а мы, как взрослые, коньяк, водку, никто не боялся, что вдруг кончится выпивка, спирт-то всегда под рукой, коктейльчик можно на крайний случай забацать, ну знаешь, спиртик с аскорбинкой размешанной и лимончиком, холодный если, то лучше чем водка идет, мягко так, правда, потом работать лень, но я привыкла, я на смене никогда не сплю, читаю, если компании нет, а так у нас весело всегда, привозят дураков поломатых, и вот мы только в перерыве между первой и второй все вычистили, как привозят этого мерзавца, башка напополам, ребра поломаны, говорят, разбил всмятку свой «Порше», кто такой, неизвестно, ни денег, ни документов, но по виду наш, цивильный, ладно, говорю, разберемся, что за птица, мы же типа ангелы, мы людям жизнь за так спасаем, деньги уже потом с родственников берем, если очень настойчиво предлагают, никто не отказывается, у меня зарплата официальная знаешь какая? Не скажу, обхохочешься потому что. И вот народ его прооперировал, перевезли мы его в реанимацию, еще наподдали, сняли с братвы ролики и стали по отделению кататься, все вместе, хирурги, санитары, я вот еще, анестезиолог – это звучит гордо, больные лежат в невметозе, никто не шевелится, но вроде все нормально, все живы, и тут этот мерзавец открывает глаза, а я уже так разогналась хорошо, а он смотрит на меня и сипит: «Во бля, ангел апокалипсиса!», все как начали ржать, ну правда смешно, у нас еще второй есть анестезиолог, мужик, так тот вообще не просыхает, но анестезиолог гениальный, как-то раз зашел в операционную, вообще лыка не вязал, так вот за те десять шагов, пока шел до операционного стола, он протрезвел на глазах, мы тогда какого-то перца спасали, криминального авторитета, у него было огнестрельное, все думали, что не выживет, а мы все сделали как надо, нам потом братва в отделение ящик коньяка привезла, ну и каждому по мелочи, сказала, если что, обращайтесь, но ты же понимаешь, к криминальным обращаться – себе дороже… В общем, этот мерзавец меня реально насмешил, народ стоит вокруг, уссывается, жить, говорит, будет, а он потом как только в себя пришел, телефон попросил, сделал один звонок, и сразу ему отдельную палату устроили, телек туда притащили, он у нас почти месяц провалялся, думаешь, я одна с ним пила? С ним все отделение не просыхало, я на фиг сопьюсь на этой работе, честное слово, хоть у тебя чаю попью, отдохну, а то завтра опять смена, опять день рождения у коллеги, проставляется, почистите мне кто-нибудь печень, иначе я точно сдохну во время службы…
Обыкновенный панк
2005
Версия Ежика
- Деточка, выходишь?
За спиной стояла тонкая, прозрачная бабуся с дрожащими руками, типичный божий одуванчик. Кой черт дергает их ездить в метро в самую давку? И вообще – какая я ей деточка?
- Разве мы перешли на ты?
- Да ты же маленькая еще.
Я засмеялась.
- Ну и как вы думаете, сколько мне лет?
- Лет шестнадцать…
- Бабушка, - серьезно говорю я. – Мне уже тридцать.
Старушка улыбается, пропускает мои слова мимо ушей и повторяет:
- Так ты выходишь, деточка? А скажешь, где тут институт Склифосовского?
Божий одуванчик шла к внуку. Как раз в наше отделение. К тому самому шалопаю, который, как сам говорил, влетел со всей дури на роликах в столб, укатился на трассу, от удара перелетел на встречку, в общем, мутная какая-то история… этим балбесам все по хер. Переломы срастаются, новая розовая кожа затягивает раны, сотрясение мозга потом сказывается редкими легкими головокружениями…
Божий одуванчик несла внуку кефир и апельсины. Я бережно ввела ее под ручку в палату.
- Вот, посмотрите, кого я вам привела!
Ватага безумных шалопаев, не вылезавшая из палаты Ромки, поприветствовала бабушку гиканьем и поднятыми в воздух пакетами сока… Так мы с ними и познакомились. То, что они устраивали, было похлеще любых революций.
Они бегали по всему отделению за нашей медсестрой Аленой, дергая ее то за халат, то за хвост, то за рукава, к ужасу санитарок гоняли по коридорам на роликах, таскали нас на съемки каких-то дурацких программ на русском МТВ, всемером катались на маленьком, купленном вскладчину Daewoo Matiz, шатались по концертам, и мне начинало казаться, что моя идиотская, моя ****ическая анархическая юность – просто кошмарный сон по сравнению с теми безумием и счастьем, которыми лучились эти дети.
Потом, когда мы уже стали не разлей вода, я доставала для этой бабушки-божьего-одуванчика редкие лекарства, ездила кормить ее кота, играла на ее старом пианино, а мои сумасшедшие шалопаи забрасывали меня дисками с новой, неизвестной мне музыкой, называя ее панком, но это был не тот беспредельный, беспринципный, злой и отчаянный панк, который я слушала в начале девяностых, - нет, это был добрый, смешной, светлый стеб. Хорошо сварганенный, запоминающийся, мелодичный. Если бы не слова, легко можно было спутать с любой телевизионной попсой. Под ту музыку можно было беззаботно прыгать, пить шампанское и падать спиной в фонтаны… В какой-то момент я вообще перестала различать, где заканчиваюсь я, а где начинаются они: Алена, Вася, Ромка, Андрюха, Даня…
А пока мы пили пиво, наблюдая, как у Ромки срастается нога, и строили планы на будущее.
- Женька, а ты поедешь с нами открывать сезон?
- Женька, а давай мы тебя поставим на ролики?
- Женька, а знаешь, как классно на ночных покатушках?
Какая я им на хер Женька? Они говорили – ерунда, каких-то несколько лет разницы. Я смеялась, а они тащили меня с собой – на горы, на трассы, на покатушки, на катки, доставали мне откуда-то ролики, доски, ботинки, коньки, ставили, учили кататься, под общий гогот я неуклюже падала и разбивала, как в детстве, локти и коленки… Потом как-то раз, на покатушках с пивом после очередного концерта, выяснилось, что они еще и играли музыку. Какую? – спросила я, зная заранее, каков будет ответ. Кажется, в тот момент у меня даже закружилась голова – но не от скорости и не от пива, а от счастья. Они играли панк. Да, панк.
Панк оставался со мной навсегда, независимо от моего желания, независимо от страны пребывания и окружающей меня действительности. Дежавю, сказала я, когда они, скинувшись, купили синтезатор и поставили меня за клавиши.
31
- Евгения Дмитриевна!
Черт, не дадут нормально перекурить.
- Ну что опять?
- Да вот привезли по вашу душу.
- Поняла. Иду.
Ох уж эти мне больные.
Евгения Дмитриевна – это меня. Новенькие не решаются называть меня Женей. Но ничего, привыкнут. У нас тут нет никакой такой субординации. Не до этого.
Я люблю этих больных. За то, что они такие смешные, растерянные, жалкие. За то, что все хотят жить. Это так естественно – хотеть жить. В этом так редко признаются.
Те, которые вчера пытались вскрыть вены.
Те, которые, забив на правила, пересекали двойную сплошную, влетали под кирпич и смело шли на обгон по встречной.
Те, которые разочаровались в жизни, поняв, что никому не нужны. Ни родителям, ни друзьям, ни женам, ни детям.
Те, которые потерялись, забыли про мечту, утонули в повседневности, в суете, хлопотах, заботах…
Те, у которых все уже было.
В общем, все поголовно. Жажда жизни пересиливает гордость, стыд, презрение и прочие человеческие условности.
Морщась от боли, хромая, едва переставляя ноги, они подходят к окну, щурятся, глядя на московское дымное сизое небо, и говорят: «Жить. Кайф-то какой…»
Впрочем, я ведь ничем от них не отличаюсь. И этот мир – у всех, конечно, по-разному, но в основном в районе тридцатника - хрен его знает, почему всех так клинит на этой дате – вдруг становится серым, скучным, плоским. И в нем ничего не остается, ни драйва, ни цели, ни любви. Остается только один идиотский вопрос, который, как солитер, ерзает внутри днем и ночью – зачем жить? Зачем тогда жить?
Хорошо быть котом. Или собакой. Пусть бродячей, лохматой, со свалявшейся в комья шерстью. Коты и собаки не ищут любви у себе подобных и не задаются вопросами, зачем жить. Глупость какая, правда? Зачем… Так надо. Родили тебя – живи. Живи.
Этот мерзавец тоже спрашивал, зачем. Я смеялась и говорила – живи. Ну придумай любое оправдание, любой повод, чтобы жить – и живи. Ну вот живи… ну хоть ради того, чтоб поить меня виски, я ведь люблю этот напиток, почему бы нет. Он смеялся и говорил – да, я, сука, живучий. Я подходила к окну, смотрела в сизое небо и думала – какая ж ты дура, Евгения Дмитриевна. Влюбленная нелепая дура… Какой кайф - кого-то любить. Я уже и забыла… В какой-то отчаянный момент мне показалось, что больше такого не будет.
- Евгения Дмитриевна! Там погорельца привезли. Ожог третьей степени, на операцию срочно.
Я с блаженной улыбкой тушила сигарету. Щурилась от зимнего солнца и шла в операционную. Заранее зная, что все будет хорошо.
Что все будут жить.
Курить, есть яблоки, швырять огрызки на тумбочку, улыбаться, щурясь на солнце, шевелить руками и ногами, вдыхать загаженный воздух и от одного этого испытывать неописуемое счастье и восторг, какие бывают только в детстве.
Все будут жить. Веселиться. Жениться. Трахаться. Зарабатывать деньги. Гнать себя по утрам в муторный офис, отрабатывая свое право на то, чтобы в официально предоставленные выходные дни снова стать собой. Ездить на пикники. Орать под гитару глупые песни, «Зеленоглазое такси», «Мурку» и «Владимирский централ». Рожать детей…
Все.
И этот мерзавец, и погорельцы.
Этот мерзавец
Анархисты в основном были люди творческих профессий.
Журналисты, писатели, музыканты.
Иногда даже ученые.
Естественно, в области социологии.
Политологии.
Иногда учителя.
Учителя-историки.
Кристмас начал с пописывания статеек на злободневные темы для газеты «Свобода» и к моменту моего отъезда стал вполне оплачиваемым, востребованным журналистом. Ник печатал свои очерки и фельетоны в журнале «Юность». Зам главного редактора газеты «Свобода», бывший школьный учитель истории, был одним из первых советских анархистов. Из школы его поперли за аморальщину, и он ушел в журналисты. В середине девяностых сильно продвинулся по профсоюзной линии и выбился в депутаты. Иногда, включая телевизор, я натыкаюсь на репортажи с заседаний Госдумы и вижу его откормленную, лоснящуюся сытую и довольную ряшку.
Я не стала музыкантом. Не стала учителем. Не стала журналистом. И у меня хватило ума не податься в политику. В гробу я видела всю эту политику.
- Анестезиолог? – спрашивали меня после концерта какие-то пришлые наркоманы. – В Склифе? Круто. А с****и нам там немножко наркотиков.
- *** вам, уроды, - говорила я.
Журналисты, историки, социологи казались мне бесполезными, недалекими людьми. Они торговали словами. Они не создавали ровным счетом ничего. Они с апломбом вещали со своих кафедр, и я смотрела на них в немом удивлении, не понимая, почему же они так преисполнены собственной значимости, собственной гордости, не понимая, почему они так откровенно и бесстыдно спесивы.
Я с неизмеримо большим уважением относилась к торговцам пирожками и чебуреками. К водителям трамваев. К автослесарям. Результат их труда был виден и ощутим. Результатов деятельности торговцев словами я не чувствовала. Поэтому я выбрала медицину.
Мне нравился цинизм докторов и беззащитность больных. Мне нравился запах лекарств и спирта. Нравились казенные коридоры и белое белье со штампами. Нравилось то, как люди, разбитые, расколотые, с открытыми черепами, торчащими наружу костями, вывороченными кишками, через какое-то время оживали, начинали ходить, курить, шутить, обзывать нас убийцами и коновалами, пререкаться с санитарками, кокетничать с медсестрами… Мне все это казалось чудом. Мне казалось, что без моего участия чуда бы не случилось, хотя основную работу по оживлению почти мертвых людей делали хирурги. Рецепт чуда заключался в том, чтобы смешать все ингредиенты, точно соблюсти все пропорции. Упусти хоть миллиграмм – и ничего не получится. Уверенные руки хирурга, чистота операционной, уважайте труд уборщицы, это она все отдраила, так что и без уборщицы ничего бы не получилось, а вот еще родственники со своими мольбами, и конечно, грамотный наркоз, надо не пить за сутки перед работой, мало ли что, с похмелья голова соображает туго, так что лучше в таких случаях не рисковать, и вот этот изувеченный, изломанный человек уже разлепляет глаза, просит пить, просит, чтобы мы его убили, жалуется, что не может терпеть этот отходняк, а мы хихикаем и говорим, видели мы, мол, таких, как ты, и все выживали и не жужжали, ничего, через неделю как орел будешь, и через неделю он, ковыляя, идет в курилку и, встречаясь со мной глазами, кивает, а я говорю, ну что, герой, берешь свои слова обратно? Хорошо же, что я тебя не убила. Тогда ничего бы вот этого не было. Он смущенно усмехается, а я думаю, козлы вы, мужики, нельзя же так стыдиться за единожды показанную слабость. А я вот как-то раз спьяну себя обблевала. С ног до головы, и голову тоже. Голову-то как? Сама не понимаю. Подумаешь, с кем не бывает. Зато чудо в очередной раз свершилось. Мне нравилось наблюдать за этим чудом. Нравилась сопричастность.
Мне нравилось то, что я была нужна там до зарезу, в этом Склифе, в этих операционных, в этих коридорах, в пропахших антисептиками и потом палатах. Все люди хотят быть кому-то нужными. Мучаются от одиночества, сидя в переполненных офисах, строча никому не интересные отчеты, рисуя ненавистную рекламу, снимая дурацкие ролики… У врачей нет таких проблем. Они всегда нужны. Иногда они нужны людям до такой степени, что их не остается даже на самих себя.
Этого мерзавца привезли к нам на скорой после аварии.
Словно в подарок.
Мы только сели за стол.
Целая череда дней рождения.
На этот раз была очередь Алены.
А тут вот он. И все повскакивали и, на ходу моя руки, побежали в операционную.
Он разбился, он тогда был даже не на своей машине.
Поэтому я понятия не имела, кто он такой.
Тогда он просто был очередным человеком без документов.
Я в него влюбилась.
Мне нравился его запах, цвет его кожи, волосы с проседью, большое красивое тело.
В первый раз в жизни мне нравилось в человеке все.
Вообще – все.
Открытая черепно-мозговая, лобовое столкновение по встречной. Не такая уж сложная операция. Я держала маску и думала, интересно, какой у него голос.
Голос у него оказался тихим.
Он открыл глаза и назвал меня ангелом. Ангелом апокалипсиса.
Через несколько дней он уже героически пытался ходить, еле волоча ноги, и курил в конце коридора.
Я смотрела на него и улыбалась.
Он косился в мою сторону и тоже криво улыбался.
Ночами я пробиралась к нему в отдельную палату, и мы пили его дорогой, нежнейший, вкусный виски.
Я смотрела в его карту. День рождения значился в декабре.
Я улыбалась еще шире.
Козерог.
Я люблю Козерогов.
- Евгения Дмитриевна, посидите со мной, - он, дурачась, хватал меня за руку. – А иначе я умру.
- Я тебе сейчас умру по рогам, - говорила я. – Я что, зря старалась?
Но сидеть все же приходила, когда отделение, наконец угомонившись, засыпало блаженным сном только что возвратившихся на этот свет.
- Принесите лед, Евгения Дмитриевна, - командовал он. – Не будем же мы пить виски безо льда? Это не комильфо.
- Во дает! – смеялась я. – Что за барские замашки?
- Я больной, в конце концов, или где? – возмущался он. – Могу я хотя бы здесь покапризничать?
- Капризничай, - говорила я. – Пока я тебе клизму не прописала.
- Больных успокаивают не клизмами, а добрым словом, - говорил он. – Вас что, не учили этому в институте? Сударыня анестезиолог, вы что, купили свой медицинский диплом? Вы были двоечницей?
- В школе – да. В последних классах. А в институте – отличницей. Врачи не имеют права плохо учиться.
Я шла к холодильнику за льдом, мы разливали его вкусный виски в мензурки, чокались, и я говорила:
- Будь здоров, дорогой друг. Живи долго и счастливо.
- Вашими молитвами, - усмехался он.
Мы рассказывали друг другу анекдоты и смотрели фильмы. В основном триллеры – он их любил. Мы обсуждали какие-то книги. Мы ругали зиму и политиков. Треп ни о чем. Ни к чему не обязывающий. Только он все равно каждую мою смену просил меня посидеть с ним.
- Я тебе что, няня? – спрашивала я.
- Точно! – комедийно восклицал он. – Я буду звать тебя Арина Родионовна. – Потом добавлял, - няня – это единственная женщина, которая будет любить меня просто так, без денег. Все остальные женщины – продажны.
- Расценки вы знаете, месье олигарх, - шутила я в ответ. – Договоримся.
- И ты, Брут, - махал он рукой. – А я-то думал, что хотя бы ты не продаешься.
- У тебя столько денег нету, чтобы меня купить, нищеброд, - смеялась я.
Просто обмен колкостями. Ничего серьезного. Никаких таких задушевных разговоров.
Так длилось месяц.
А потом ко входу в отделение подогнали машину.
Черный «БМВ» с английскими номерами.
Он уехал, и я подумала, что это все.
Обыкновенный панк
2005
Версия Ромки
Ты понимаешь, это глупо – ударяться в нацизм, особенно сейчас, через шестьдесят лет после победы в Великой Отечественной. Поэтому я охуеваю, когда, казалось бы, умные, взрослые, образованные, ***ь, люди начинают что-то гнать про национальное самосознание, про великую Россию, про ее особый путь, про всемирный еврейский заговор, про то, что Россию все хотят изничтожить. Ну кому мы нужны, подумай? Кому на *** нужна эта проклятая холодная страна, эта огромная незаселенная территория, которая, по большей части, не приспособлена для жизни?
Холокост, да. Шесть миллионов евреев. Почему никто из этих тупорылых нациков, что маршируют теперь по нашим улицам, не задумывается о том, что от рук фашистов погибло не только шесть миллионов евреев, но и двадцать миллионов русских? Что в списках на уничтожение славяне шли третьими по счету после евреев и цыган? И как после этого можно вдруг взять – и переметнуться на сторону наци? ***ый свет, на дворе третье тысячелетие, о чем и каким местом они думают, эти глупые дети?
Знаешь, я всегда был на стороне слабых. Так уж получалось. Какие-то бритоголовые заловили в нашем районе негра. Их много тусуется в Лумумбарии, так уж сложилось, и периодически скины открывают на них охоту. И вот идет по темной улице гражданин Анголы, а его окружают добрые люди с бейсбольными битами. Их – человек двадцать, он – один. Вечер, уже почти ночь на дворе. Он подходит ко мне, говорит, - проводи до общаги, там на аллее наци тусуют, они меня убьют, я один боюсь. Я как последний мудак пошел с ним. Меня жена дома ждет, а я тут геройствую.
В итоге ***ы огребли мы оба – я и он. Он – потому что черный, я – так, за компанию.
Так что ты не говори никому, как я сломался.
Все было просто до банальности.
***юлей я огреб.
Но ты же понимаешь, я не буду никого сливать - при любом раскладе.
Сам разберусь, как сумею. Ментам я сливаю только ментов. Не смейся только, пожалуйста. Я понимаю, что это смешно. Я мудак, да. Но я, видишь ли, убежденный анархист. Я считаю, что я не вправе привлекать к решению этих проблем государство. Пусть оно ***ся в рот само с собой. А мы тут сами между собой разберемся. Что ты смеешься? Никогда не видела долбоебов? В таком случае у меня для тебя есть пара отличных про них историй. Когда меня выписывают? Через две недели? Значит, время есть, рассказать успею. Готовь тазик, товарищ доктор, расскажу - уписаешься.
Этот мерзавец
Время шло. Снег податливо плавился под неласковым мартовским солнцем, обнажая черные, загаженные собаками, забросанные бычками и пивными бутылками лоскуты земли. Машины сталкивались на скользких трассах. Склиф, как и всегда, работал без выходных и перерывов на сон и обед. В операционную пачками везли поломавшихся, искалеченных, но все еще живых людей, которые стонали, вопили, плакали и крыли врачей на чем свет стоит. Мы посмеивались и беззлобно материли их в ответ. Потом они приходили в себя в реанимации, потом лежали в обычных палатах. Испуганные, притихшие родственники крались к ним по коридорам. И те, и другие отчаянно ждали дня выписки. Как правило, дожидались. Дальше все шло по устоявшейся схеме. Выздоровевшие больные несли нам конфеты, цветы и деньги. От денег мы не отказывались.
Хирурги покупали себе коньяк. Мы с моими панками пили шампанское, катались на коньках и репетировали очередную концертную программу на заброшенной базе, на которую скидывались впятером. Небо становилось все выше и прозрачнее. Провода дрожали от напряжения. Я смотрела на то, как медленно подкрадывается весна, и думала, что влюбляться в такое романтическое время года – просто непростительная пошлость. А потом вдруг, через месяц, через два, не помню, к нам в Склиф приехал этот мерзавец. По-хозяйски, смеясь, зашел к хирургу.
Проходя мимо меня, подмигнул, предложил денег.
Я расхохоталась.
Это было бы, как если бы он мне платил. Сколько надо заплатить за то, что тебе спасли жизнь? Сколько стоит жизнь человека?
- Тебе сказать, сколько стоит убить человека? - ехидно спросил этот мерзавец.
- Умножь это на количество спасенных нами жизней. Именно столько я и стою, - сказала я.
Мы, врачи, конечно, циники.
Я засмеялась при мысли, что не могу сходу прикинуть стоимость его жизни.
Я отказалась. Зато сказала, чтобы лучше вместо денег он отвез меня домой, у меня как раз закончилась смена.
Он удивился, но отвез. В салоне машины пахло дорогими сигаретами и выделанной кожей. У меня дома пахло котами и наличествовал только растворимый кофе. Коты его не впечатлили. Кофе – тоже. От ужина он отказался. Бросил на стул свой дорогой свитер. И остался у меня на всю ночь. На расстеленном на полу матрасе. У меня шел вялотекущий нескончаемый ремонт, в доме не было даже нормальной кровати.
Он был самый лучший. Даже нет, не так.
Кроме него, больше никого не существовало. Все другие в одночасье куда-то делись, остался только он один. Как будто кроме него не существовало вообще никого на свете. Никогда. Как будто не было всех этих мальчиков, чьих имен я не хотела помнить. Как будто не было ни Женечки, ни Ника. Я смеялась, удивляясь, как я могла быть с кем-то еще, как странно, что у меня кто-то был до этого мерзавца, и тело становилось невесомым и почти прозрачным, когда я, спотыкаясь, заходила в ванну, смотрела на себя в зеркало – и не узнавала. На меня с той стороны стекла ошалело глазела какая-то чужая девица, похожая, как две капли воды, на этого мерзавца и только отдаленно напоминающая ту, прошлую Женю по кличке Ежик, и эта девица стояла, пошатываясь, со счастливой блаженной улыбкой, с блестящими глазами и опухшими, вульгарно пурпурными и саднящими от такой любви губами.
Потом я обнимала его и думала, пусть так будет всегда.
Хотя с самого начала было ясно, что все это кончится. Скоро-скоро.
Я не хотела об этом думать.
Рано утром он разбудил меня и сказал, что поехал.
Сказал, чтобы я закрыла за ним дверь.
Я закрыла.
Подумала, что больше он никогда не приедет.
Зачем ему я?
Но он приехал. Через месяц. Привез молотый кофе, шоколад и виски. В нашем окраинном дворике с загаженной собаками детской площадкой и грудами мусора по углам красовался его черный сияющий «БМВ» с английскими номерами.
Он спрашивал, чем я занимаюсь.
Я работала в Склифе анестезиологом и играла на клавишах у своих безумных, отчаянных музыкантов, у своих сумасшедших панков, непонятно чем зарабатывающих на жизнь. Они меня периодически звали то на запись, то на концерты. Вася стоял у микрофона, Андрюха и Даня дергали за гитарные струны, Ромка стучал по барабанам.
Я неуверенно, но бодро тыкала пальцами в синтезатор.
Мы выступали по маленьким, заплеванным и никому не известным клубам. Но жалкая толпа постоянной публики все же присутствовала.
Вместо цветов нам дарили бутылки с пивом.
Вместо автографов у нас стреляли деньги на метро.
Мы не болели звездной болезнью – мы легко могли отправиться пить вместе с собственными поклонниками.
Стоило ли рассказывать обо всем моем обыкновенном панке этому мерзавцу?
Вряд ли.
Он не понял бы моих странных музыкальных пристрастий так же, как я не понимаю восторгов шахматистов, орнитологов или, на худой конец, дачников. Поэтому я и не хотела рассказывать. Мне никогда не нравилась сказка о Золушке.
Я не спрашивала, чем занимается он. Чувствовала, что это лишнее. Что на такие расспросы я не имею права.
Разве он мне что-то должен? Кто я ему такая?
По нему и так было все видно.
Политика, или бизнес, или бизнес и политика.
Мне было неважно.
Если человек – бизнесмен, неважно, чем он торгует.
Подумаешь, «БМВ». Подумаешь, дорогой телефон. Подумаешь, дорогой костюм. Торговец - и торговец. В особо крупных размерах. Он грустно, отстраненно смотрел на меня и молчал.
Я тоже молчала. Так и сидели.
Зачем ему я?
Я думала, что ему бы подошла тоненькая фотомодель.
С высветленными волосами и огромными инопланетными глазами.
Он бы о ней заботился.
Дарил бы ей дорогие машины, дизайнерские платья и бриллианты.
Приглашал бы ее на свидания в модные рестораны.
Возил бы ее на Карибы.
Так что я не знаю, зачем он приезжал ко мне раз в месяц.
Я не была похожа на фотомодель.
Во мне не было лоска.
Я не носила каблуков.
Не ходила по показам.
Не красила волосы.
Пила из горла шампанское, ругалась матом, курила «Житан», любила альтернативную музыку и тяжелые ботинки фирмы «Доктор Мартенс».
Этот мерзавец был всегда одет с иголочки, чисто выбрит, немногословен, говорил тихим голосом, а к его «БМВ» никогда не прилипала московская грязь.
Он курил Treasurer.
Пил семнадцатилетний шотландский «Бенриннс».
Имел сломанные уши и черный пояс по айкидо.
И в его присутствии все словно подтягивались и хотели выглядеть внушительнее.
Я и сама так хотела бы.
Перестать ругаться матом.
Снять тяжелые ботинки.
С ним мне хотелось стать похожей на девочку.
Надеть платье.
Отрастить волосы.
Спрятаться за его спиной, свернувшись клубочком.
Рядом с ним мне было не страшно.
Этот мерзавец не был похож ни на кого из тех, в которых я влюблялась раньше. Ни на Женечку, мою первую любовь. Ни на Ника. Ни на кого.
Он был другой крови.
Он был лучше.
Обыкновенный панк
2005
Версия Ромки
- В общем, есть у меня один знакомец. Редкий, я тебе скажу, мудила. Вовой зовут. Короче, в какой-то момент он задолбал всех своим долбоебизмом, и мама дала ему денег и сказала, иди, мол, сынок, отсюда на ***, сними квартиру и живи отдельно. Ну хули, снял. Пока деньги были – первые три дня – телки, водка, друзей полный дом, сама понимаешь. Потом деньги кончились. Соответственно, водка кончилась тоже, друзья и бабы быстренько свалили. Надо где-то брать денег. Работать не хочется. Что делает Вова? Берет кухонный нож. Я не преувеличиваю. Кухонный, ****ь, огромный нож. И спускается в палатку, в которой каждый день покупает сигареты. Прикинь, у него не хватило даже мозгов отъехать в другой район, где его ****ьник никто не знает. Ну вот, спускается, подходит к продавщице, снимает кассу. И все начинается сначала. Бабы, друзья, водка. Кассы было немного, так что деньги опять скоро кончились. Соответственно, бабы с друзьями опять разбежались. В общем, жить стало грустно, где-то надо дыбать лавандос. Что делает Вова?
- Опять берет кухонный нож?
- Да! И идет…
- В ту же палатку?
- Да! В ту же самую, ****ь, палатку. А там его уже ждали, с мусорами, с мигалками, в общем, со всем. Еле потом отмазали. Так что ты не думай, что все такие, как мы, умные. На свете очень много мудил. Ты даже себе не представляешь, каких. Просто, *****, не представляешь.
Этот мерзавец
В очередной из тошнотворных серий сериала «Секс в большом городе» смешная, морщинистая и кривоногая Кэрри Брэдшоу вопрошала бессчетное количество мужчин, почему те так любят моделей.
Кэрри Брэдшоу не нашла на свой вопрос вразумительного ответа.
А я нашла.
Даже не пытаясь пролезть в этот мир холеных женщин, богатых мужчин и дорогих автомобилей.
Мне было страшно лезть в их мир.
Я наблюдала за ними издалека.
Богатые мужчины, словно с прилавков, расхватывали с подиумов своих подруг, загнанных в единый шаблон девяносто-шестьдесят-девяносто, тонких, загорелых, на высоких каблуках, с высветленными мелированными волосами.
Богатые мужчины их покупали.
У богатых мужчин не было времени и сил на душевный труд, эмоции и любовь.
Они хищно, быстро и по-деловому выбирали себе спутницу, соответствующую общепринятому стандарту.
Тонкие девушки уезжали с показов на дорогих автомобилях.
Мы уходили с концертов и шли пешком по Москве.
Тонкие девушки плакали и царапали дорогую кожу длинными наращенными ногтями.
Мы пили шампанское из горла и, хохоча, падали в летние фонтаны.
Тонкие девушки просиживали дни напролет в салонах красоты.
Они были похожи друг на друга, как овечки Долли, и прекрасны.
Настолько прекрасны, что с ними можно было спать без любви.
Когда меня – не в мединституте, а в больничных курилках – мэтры отечественной медицины учили тонкостям нашей древнейшей профессии, они говорили, что главное – вжиться в роль родителя. Уметь быть мамой для кого угодно, от президентов мультинациональных корпораций и супермоделей до бомжей или дворников. И тогда они, став беспомощными детьми, будут послушно выполнять все твои предписания. Это делается только с одной целью – вылечить. Лишь бы они не мешали. Лишь бы они не брыкались. Я лечила президентов мультинациональных корпораций и супермоделей. Равно как и бомжей и дворников. Они все меня слушались. Как школьники. Как дети. Приходили потом с благодарностями. Президенты и модели несли дорогие подарки и деньги, бомжи и дворники – кислые яблоки и дешевые карамельки.
А что я? Я опять оказывалась где-то между, ни с теми и ни с другими. Я одинаково не могла позволить себе ни нищеты, ни роскоши. В обоих случаях это было бы неоправданным излишеством. Но бомжи и дворники были вне системы, и потому они оказывались мне ближе.
Как и панки. Анархисты.
Идиоты и отморозки, которые открыто отказывались подчиняться системе, не хотели играть по ее правилам.
Этот мерзавец принадлежал тому миру.
Что ему было от меня нужно, я не знаю.
Катька
Мы с Катькой на цыпочках крадемся на балкон. На ее огромный, вытянутый вдоль всех трех комнат и кухни балкон на восьмом этаже, с которого видно весь наш заставленный панельными домами, похожими на спичечные коробки, спальный райончик. Такой же утопающий в зелени, заплеванный и неброский, как и пятнадцать лет назад. Запруженный киосками, фруктовыми палатками, стихийными рынками вперемежку с салонами мобильной связи и супермаркетами. Ничего нового. Если не считать умопомрачительного количества машин, забегаловок, вонючих кибиток с шаурмой и курами гриль и нагло выросшим в центре всего этого бедлама «Макдональдсом», все так же, как и пятнадцать лет назад. Та же спальная Москва, неприветливая, грязная и наглая. Не сравнимая с моей далекой, вечно теплой, ласковой южной страной, в которой я не осталась.
- И когда ты вернулась в Москву?
- Да уж давно, - выдыхаю я в августовский воздух сигаретный дым. – Лет десять будет.
- А почему не позвонила?
- Хер знает. Я же уезжала когда, вроде попрощалась со всеми навсегда. Стыдно как-то было объявляться.
- Дура что ли?
- Ага, дура. Вроде как неудобно, ничего не добилась, замуж за принца не вышла, карьеры не сделала, выебнуться было нечем.
- Я по тебе скучала.
- Я по тебе тоже.
- А сейчас тебе есть чем выебнуться?
Я смеюсь.
- И сейчас, впрочем, тоже нечем, но мне уже все равно.
- А почему анестезиолог? Ты же хотела в музыку, музыкалку закончила, клавишницей стать хотела…
- Да так… У анестезиологов тоже пить не возбраняется.
- Знала бы я, то к тебе бы рожать пошла.
- А, - машу я рукой. – Я ж не в родильном отделении. Я этих лечу, дураков поломатых.
- И какая клиентура?
- Да в основном те, которые пьяными на машинах бьются. Интересные, надо сказать, люди. Что ты так смотришь? Это тебя удивляет?
Этот мерзавец
Потом он исчез, оставив свой дорогой шоколад, кофе, пачку сигарет Treasurer и две бутылки восхитительного виски «Айл оф скай» с картинкой заката на этикетке, который я пила по капельке, пытаясь растянуть на как можно дольше. Очередным похмельным и пасмурным ранним утром этот мерзавец поцеловал меня на прощание в щеку, уколов щетиной, мягко закрыл за собой дверь, завел свою роскошную машину и испарился из моей жизни, и я снова не знала, куда себя деть. Этот мерзавец, привыкший нагло, ни перед кем не оправдываясь, без раздумий, брать себе все, что ему заблагорассудится, с той же бесцеремонностью оккупировал мои мысли.
Нет, конечно, все шло так, как и раньше. Я встречалась с друзьями, ходила на работу, лечила больных, пила пиво… существовала, как все нормальные люди. За тем исключением, что у нормальных людей имелись бойфренды, подруги, мужья и жены, любимые, любящие, счастливые, несчастные, у каждого кто-то был рядом. Свою долю любви я получала в гомеопатических, мизерных дозах. Я хихикала сама над собой от такого определения. Какая ж ты дура, говорила я сама себе. Какая ж ты набитая дура, Евгения Дмитриевна.
Этого мерзавца снова долго нигде, нигде не было. Я уговаривала себя не думать о нем. Не думать об этом мерзавце получалось.
Я стерла из записной книжки его телефон. Боялась сама за себя, боялась, что вдруг после очередной пары бутылок пива позвоню ему и признаюсь, что не перестаю его ждать, и это ожидание так навязчиво, так неуютно, что дальше так невозможно.
Но так было только в первые пару недель.
Потом все становилось на свои места.
Дни тянулись, летние, осенние, похожие друг на друга.
В Склиф привозили искалеченных людей. Потом эти люди приходили в себя после операции, выздоравливали, выписывались и с ощущением чуда, с неверием в происходящее уезжали домой, чтобы жить дальше.
Я уже почти от него отвыкла.
А потом в один прекрасный момент он опять объявился. Велел мне собираться, сказал, что хочет вывезти меня на природу. На пикничок. И старушки у подъезда, злобно мерцая на солнце очочками, перемывали мне кости, пока я шла через весь наш замызганный двор к его сияющему черному «БМВ» с английскими номерами.
Мечта, а не машина.
Мы ехали через осенний лес в смутно знакомом мне направлении, я просто узнала то самое место с горами, куда когда-то водил нас Ник. Мы ехали тогда куда-то в сторону Дмитрова. Смешные подмосковные горы, на которые мы, пыхтя, карабкались, а особенно повезло мне, потому что у меня были байкерские сапоги на каблуках, и в гору в них было очень удобно… Нас тогда было человек десять, девчонки захватили какой-то еды, мы развели костер, разлили водки, кто-то прихватил гитару. Тогда еще я любила песни Егора Летова, но Янкины у меня получались лучше. Ребята подпевали. Ник тоже. Под ногами был откос, за ним – поле, за полем – маленькие домики и железная дорога. А потом вдруг резко стемнело, и над головой рассыпались бессчетные осенние звезды. И небо цвета индиго казалось таким глубоким, таким бесконечным. Мы смотрели на него, курили, смеялись, и я думала, что вроде ничего особенного, костер, звезды и бесхитростный анархический народец, еще не переболевший бредовыми идеями всеобщего равенства и братства, но это был космос, это было счастье.
Потом мы вернулись в Москву.
В Москве начали обстреливать Белый дом.
Это было как в кино. Только это было по правде.
Наши организовали санитарные дружины, чтобы выносить раненых.
По улицам была разбросана арматура и колючая проволока.
Обстрел парламента я видела по телевизору. Идти к Белому дому я побоялась.
Сидела весь вечер и звонила по анархическим номерам.
Никто не отвечал.
К Белому дому тогда пошли все. Все, кроме меня.
На следующий день московские больницы были переполнены.
Я не пошла защищать Белый дом. И не пошла в санитарные дружины. Я тихо взяла себе дополнительную смену. На войне не трогают врачей и журналистов.
Октябрь девяносто третьего.
Этот мерзавец курил, молчал и смотрел на звезды. Звезды были такие же, как и тогда.
Я напевала под нос те же песни Янки.
- Что ты поешь?
- Да так, ерунда. Вспомнилось.
В костре бодро потрескивали угли.
- Где ты был в октябре девяносто третьего?
Он задумался.
- В КПЗ.
- За что?
- Дурочка, - засмеялся он. – Об этом никогда не спрашивают.
- Я дурочка, мне можно.
- По обвинению в мошенничестве.
- То есть ты – преступник?
- Технически – нет, - сказал этот мерзавец. - Меня оправдали. Не смогли ничего доказать. А ты где была?
- Я? Здесь. Я была здесь.
- Что ты здесь делала?
- Так же пила, курила и пела песни.
Этот мерзавец разлил по пластиковым стаканам виски. Приподнял стакан.
- Твое здоровье.
В нос ударил сочный, резкий, богатый запах виски.
У меня пискнул телефон. Пришла СМС-ка. От Дани.
«Жень, мы опять загремели в мусарню. Позвони, скажи им, что ты мой адвокат. Мы в Питере».
«Какого хера вы делаете в Питере?" написала я.
«Мы приехали на концерт Гребенщикова».
«Идиоты, нашли кого слушать», - написала я. Я начала нервничать. Мне совсем не хотелось говорить по телефону с питерскими ментами в присутствии этого мерзавца.
- Что за проблемы? – спросил этот мерзавец.
Я замешкалась.
- Да говори же, - засмеялся этот мерзавец. – Мне, как врачу, можно рассказывать все. Меня уже давно ничего не удивляет.
- Друзей в милицию забрали.
- Да? – деловито хмыкнул этот мерзавец. - Скажи мне их фамилии и номер отделения. – Никакого удивления. Скучный, обычный голос. Как будто ничего не произошло. Он отвернулся, выдохнул в сторону дым.
Даня прислал мне номер отделения. Я показала СМС-ку этому мерзавцу.
После чего этот мерзавец достал свой дорогущий телефон и сделал один звонок. Только один. Какой-то шишке в Санкт-Петербурге. И через полчаса за Васей и Даней в засранное питерское отделение милиции приехало два «Мерседеса», груженные генералами ФСБ. Менты выстроились по стенке. Извинились. Отпустили Васю и Даню. Вернули им все деньги, которые отобрали. Генералы доставили Васю с Даней на Московский вокзал и благополучно посадили их на отходящую «Красную стрелу».
«Женька, как тебе это удалось?!» - кричала Данина СМС-ка.
Я молчала.
У этого мерзавца зазвонил телефон.
Он ответил, сказал спасибо, хихикнул и попрощался.
Повернулся ко мне.
- Ты знаешь, за что их забрали? – спросил он меня. В его глазах плясали черти.
- Ну просто… люди пришли на концерт.
- Люди пришли на концерт. – Он рассмеялся. – Твои люди мало того что были пьяны, как слесарюги, так они еще и прыгали в оркестровую яму! На глазах у мэра Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, которая сидела там в первом ряду! Женька, - отсмеявшись, отдышавшись, сказал этот мерзавец, - ты не перестаешь меня удивлять. – Ситуация его явно забавляла. - Что у тебя за друзья за такие?
- Нормальные друзья, - сказала я. – Не то что ты, торгаш. Или как это называется? Бизнесмен?
- *** знает кто, - сказал этот мерзавец.
- А мои друзья – люди искусства, - гордо сказала я. - Музыканты. Поэты. Художники. И романтики. – Улыбнулась собственному пафосу. И рассмеялась.
Он посерьезнел.
- Твои люди искусства уже едут домой в теплом купе. Один – ноль в пользу бизнесменов.
- За искусство, - сказала я.
- Базар тебе нужен, - сказал этот мерзавец.
Подлил нам виски.
И опять замолчал.
Мне хотелось остаться там навсегда. С ним. С сигаретами. Со звездами. И с виски.
Но мы выпили бутылку на двоих, а после этого он отвез меня домой.
Поцелуй в щеку на прощанье.
- Сегодня я не останусь. Не могу. Если что, звони.
Хлопок дверью.
Мягкое урчание «БМВ», вибрирующее по всему двору. Осторожно зажигаются фары.
Я подсматривала за ним из-за занавески.
Он простоял еще несколько минут и медленно выехал из нашего грязного, заброшенного дворика.
Я не знала, когда он вернется. Вернется ли.
Я думала, что на этот раз я сойду с ума от ожидания.
Обыкновенный панк
2005
Версия Ромки
- История с Вовой на этом не закончилась. Этот, ****ь, Вова спустя несколько месяцев зачем-то прикатил в Москву. Стал ломиться к своей дальней родственнице. В шесть утра, ****ьник в крови, вся рубашка – тоже, здрасьте, ***, тетя Маша, можно, я у вас тут поживу? А затем выяснились леденящие душу подробности. Чувак съездил с приятелями на пикничок, на природу, оттянуться. Все как полагается, водчанский, накатили, шашлычок, речка, бабы, еще водчанский, накатили, разговоры из серии «ты меня уважаешь», потом, как водится, махач, и одного из своих корешей они по пьяни за****или до бессознания. Утром продирают глаза, а чувак не дышит, окочурился, уже замерз на хер. Ну что, надо ж его согреть? И чтоб мусора ничего не чухнули, они распилили жмура на несколько частей и эти части отволокли и зарыли в совершенно разных направлениях. Ну и все, сами тоже разбежались. Кто куда, а Вова ломанулся в столицу, отсиживаться к тетушке. В шесть утра трезвонит в дверь, весь в кровище… Там его и накрыли. Хотя бы такие дела у нас мусора раскрывают. А впрочем, на что их еще хватит, этих мусоров? Короче, ты себе не представляешь, сколько на свете долбоебов. И каких! Отборных, ***, долбоебов.
Этот мерзавец
У глупенькой, наивной и очаровательной Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе» было три близких подруги. Эти подруги бесстыдно рассказывали друг другу все, вплоть до размеров членов их мужчин и собственных сексуальных предпочтений.
У меня такая подруга была одна.
Мы никогда не обсуждали с ней мужчин, секс с ними, размеры их членов и свои сексуальные предпочтения.
Мы любили говорить на отвлеченные темы.
Еще чаще мы просто сидели рядом, курили и молчали.
Но моя лучшая знала обо мне все. Даже то, чего я никогда ей не рассказывала.
У моей лучшей подруги были раскосые восточные глаза умопомрачительного цвета спелых маслин и дар читать мысли, чувствовать людей без слов.
- А вот Алена говорит, что люди больше всего любят, когда их любят.
- Ну да, это так. Но и не так. Есть люди, которые больше того, чтобы быть любимыми, любят быть правыми. Это как если человек с детства считает себя дерьмом, так он и будет делать все так, чтобы доказывать снова и снова себе и окружающим, что он – дерьмо. И как ты его ни люби, ни облизывай, ничего ты ему не докажешь.
- И что, разве не все хотят, чтобы их любили?
- Хотят. Но в очень узком смысле. Ему комфортно, когда его любят тихонечко так, издалека. Сделай шаг ближе – ему уже неприятно. Вот как-то так.
- Понятно. То есть моя конкретная любовь никого ни на что не вдохновит. Никого не спасет.
- Конечно, нет. Это нереально, даже если посчитать математически. Ты лучше скажи, почему тебе нравятся исключительно мерзавцы?
- Упс. Вот ты спросила. Потому что с ними заранее знаешь, что серьезных отношений строить не надо. А я боюсь их, видишь ли. Серьезных-то отношений.
- Да, - говорит моя лучшая подруга. – Отношения – это работа.
- Ну и как? Каков гонорар? - грустно усмехаюсь я. - Она того стоит?
Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе» называла того-которого-много-лет-не-могла-забыть «мужчиной своей мечты». Какие они омерзительно восхищенно-возвышенные в своем Нью-Йорке, брезгливо думала я. Или это просто возраст? Я не Кэрри Брэдшоу, и мне пока не тридцать восемь. Мужчину моей мечты я называла «этим мерзавцем».
Этот мерзавец не водил меня в кино.
Не дарил мне зуб коровы.
Не покупал булочек с маком.
Не отпаивал настойкой женьшеня.
Не кормил мороженым.
Не рисовал про меня комиксов и не писал мне стихов.
И с ним мы никогда не лазили на шпиль ГЗ МГУ.
Все, что у меня было, - было без него. Он не увидел того, что видела я. Он не видел города с высоты птичьего полета. Не лазил на крыши. Не жарил ночами картошку на вечном огне. И не орал безумные анархические песни, захлебываясь от восторга и счастья. Впрочем, мне же не шестнадцать. И даже не двадцать пять. Так что разве это важно?
Он не говорил со мной по-испански. Не писал мне писем. Не рисовал про меня комиксов. Он вообще не очень дружил со словами. Он говорил тихим голосом, который приводил в ужас халдеев и охранников. Они смотрели на него и начинали икать от страха.
От него исходила наглая, сокрушающая сила, которой я не видела никогда раньше. Он плевал на все законы человечества и мироздания. Умудряясь избегать ментов, судов, тяжб и бандитских разборок и оставаться живым после такой аварии, после которой, согласно всем законам физики и медицины, он должен был умереть на месте.
Смерти он тоже не боялся. Говорил о ней и смеялся. Как будто остановка жизненных функций – не больше, чем прогулка по парку или пара кругов на карусели. Люди вокруг меня жили в согласии с законами, мирскими и космическими. Платили налоги, давали взятки и исправно ходили на работу. Регулярно, словно по расписанию, напивались по пятницам. В понедельник, приняв обязательный «Алка Зельтцер», снова уходили в свое личное пожизненное рабство. Считали деньги и тянули дни от зарплаты до зарплаты. По-детски радовались, урывая себе не положенный по рангу кусок.
Этот мерзавец был тотальный беспредельщик. В гробу он видел все ваши законы. Мир послушно и охотно плясал под его дудку. Ему козыряли толстые гаишники, перед ним услужливо открывали двери депутаты Госдумы, перед ним вытягивались в струнку отморозки-гопники и чеченские бандиты. Он единственный из всех, кого я знала, был свободным ото всего на свете. Анархистам такая свобода и не снилась.
Я любила его до судорог. Я хотела, чтобы он был. Всегда. Он же вообще не хотел - быть. Он пил за рулем, нарушал все возможные правила дорожного движения, а у меня не проходило и дня, чтобы я не подумала: «Пусть этот мерзавец живет. Пусть весь мир катится в задницу, лишь бы он был живой».
Я просила, чтобы он – был.
Я посылала радиосигналы на далекую планету, виртуально умоляя его жить, жить еще. Мужчины умирают рано. Многие – не дожив до сорока. Не знаю, чем это объяснимо. Криминал, аварии, болезни, пьянки… Такой вот возраст, когда эти сумасшедшие мальчики вдруг поочередно начинают загибаться, и идет черная полоса, и у нас недели не проходит, чтобы кто-то из сравнительно молодых пациентов не окочурился, кто от водки, кто после аварии, у меня уже не хватает пальцев на руках, почему все они - мальчики, которым далеко за тридцать, растерянные и не понимающие, зачем пришли в этот мир, так и не повзрослевшие, но уже успевшие разочароваться и смертельно устать от этой жизни. Они не хотели умирать, но просто не хотели больше жить. Но ведь этот мерзавец был не из их числа, и я повторяла про себя, живи, живи…
Обыкновенный панк
2005
Версия Ромки
- Никакие экстремальные виды спорта, никакие аттракционы не сравнится с мескалином, я тебе обещаю. Хотя, ты же видишь, я и так почти никогда не бываю трезвым. Вечно под чем-то.
- Почему?
- Как тебе сказать… Тонкая кожа. Я не могу смотреть на этот мир трезвыми глазами. Мне больно. Пару пива с утра – как Отче наш. Потом что-нибудь посерьезнее, но лучше траву. Она - добрый наркотик, с нее не звереешь. Просто тупеешь. Можно и кокос, но кокос еще больше отупляет, и отходняки после него жуткие, депрессия, слезы, все такое. А мескалин – это вообще жесть. Мы как-то сидели с другом дома, приняли, подождали. Вроде не торкает. Решили за пивом сходить. И вот я одеваюсь, открываю дверь, а за ней - натуральный пожар. Я дверь захлопнул, прижался к ней спиной. Понимаю, что это глюк – потому что ни дыма, ни жара нету. Ну что, решили никуда не идти сели чаю попить. И вот я наливаю заварку, смотрю на струйку из носика и понимаю, что вместо заварки в чашку льется кровь. Сгустками. Я вздрогнул, чайник дернулся, кипяток полился на пол, другу прямо на ногу. А он тоже стоит с этой ногой и ничего не чувствует. Через сутки только обнаружил, что там ожог немереный. А дальше было четырнадцать часов огня и крови, балконы соседних домов превращались в рты, смеялись… Нравятся такие развлечения?
- Сколько тебе лет, Ром?
- Тридцать один. А тебе сколько лет, товарищ анестезиолог? Тридцать? Хороший, циничный возраст. Ну и что, что не шестнадцать? А сколько бы ты хотела? Сколько сейчас? Нормально было бы лет двадцать пять. Двадцать семь. Когда уже вроде все понимаешь. А в шестнадцать еще все впереди, да. Нестабильность такая, нервозность. Надо еще завоевать мир и доказать всем, что ты есть и существуешь. Свербит все время, и жить неуютно. Больно жить в шестнадцать лет. Трудно это – заявлять о себе. Каждый рубеж – приступом, как последний. А потом уже хрен знает, ради чего ты воюешь. А мне вот тридцать один. И я о себе заявлять устал, знаешь ли. Трудно, и грустно, и надоело.
- А семья?
- А что семья? Я ее знаю как облупленную, эту семью. То есть жену. Она родной мне человек, и я без нее не смогу, и сына надо растить, и мне с ней хорошо. Только больно. Ну что ты смотришь? Ну да, свобода. Свобода. Думаешь, я не знаю, что она мне изменяет?
- Как же не знаешь? Это всегда видно. Слышно. Чувствуется.
- Вот именно, что чувствуется. Она после этого на вкус другая. Я ничего не сказал, и она подумала, что я этого не заметил. А я заметил. Такие вещи невозможно не заметить.
- Если только тебе не все равно. И если только ты не специально закрываешь на это глаза.
- Точно. Давай напьемся?...
Не 16
Тысячу раз обещала себе не курить на морозе. Алена говорит, что больше всего пьют анестезиологи и хирурги. Ну не знаю. Никогда не пыталась сравнивать наш литраж с, допустим, гинекологами. Смена закончилась коньяком. Продолжение тоже прошло с коньяком. Домой донесли тяжелые ботинки фирмы «Доктор Мартенс»…
И вот опять… Вроде выспалась, и этот дурацкий мороз, и солнце, день чудесный, тошнит с похмелья, и снег потрескивает под ботинками, и я достаю первую сигарету, и голова резко тяжелеет, и я опускаюсь на лавочку, а народ испуганно косится на мое вдруг побледневшее лицо. Здесь, в нашей стране, все старательно будут отворачиваться, видя, как земля уходит у кого-то из-под ног. «Девушка, вам помочь?» - «Как ты мне поможешь, ты что, ****ь, врач? ***ня, похмелье». – «Бля, ну и бабы пошли».
Дыши, дура, дыши. Ты же медик. Дыши животом. Глубоко. На счет четыре. Четыре туда. Четыре задержка. Четыре обратно. Ну вот. Сигарету еще на *** в урну. Фу. Вроде отпустило.
Тысячу раз обещала себе не курить на морозе.
Не пить после обеда. Особенно во время смены.
Не спать с женатыми. Да… как-то раз даже с завотделением. Случайно, по пьяни.
Ничего в этом нету. Пу-сто-та. С вибратором, наверное, интереснее. Нет даже намека на удовольствие. Они даже не знают твоего тела. Ты не знаешь их. Не привыкла к их запаху. К их голосу. К позам. Просто пробный шар. Неудачный. С первого раза обычно никому не нравится. А потом и не хочется… так что зачем это было? Разве что от скуки.
Мое тело знал Ник. Ямку на шее. Родинку на лопатке. Шрамы на левом запястье. Форму ногтей на пальцах ног. Рассказывал мне это все с закрытыми глазами. Запрокинув голову. Сидя за расшатанным кухонным столом, откинувшись спиной на стену, повернувшись лицом к окну, в котором всегда было страшное черное морозное небо. Он рассказывал мне это, вставляя четверостишия по-испански. Как давно это было. Так давно, что вроде бы даже как и вовсе ничего не было. Так давно, что кажется, что так вообще не бывает.
- Зима – это жопа, Ник, - говорила я. – Зима – это смерть. Это всегда темно. И это небо нависает, как падающий мост. Ненавижу зиму. Зимой я каждый раз умираю. – Затяжка. – ****ь, Ник… Обещай, что не будешь ругать меня?
- Не буду. Что такое?
- У меня кружится голова. Я тебе говорила, что иногда падаю в обмороки? Вот сейчас оно, кажется, случится. Тысячу раз обещала себе не курить на морозе.
- Дыши. Глубоко. Животом. Все нормально будет. Дыши. Только медленно. И ничего не бойся, я тебя держу.
- Не удержишь…
В глазах начинают прыгать серые мухи, и небо усасывается вверх, словно в воронку. Обморок – это, наверное, как кома. Там совсем другая жизнь. Там показывают какие-то безумные цветные мультики, там не помнишь ни Ника, ни первую любовь, ни зиму, ни саму себя. Жестокое, нудное кино. Выныриваешь как из черной, мрачной зимней проруби. Холодной и плотной. Между ног становится сначала тепло, потом мокро и зябко. ****ь. Вот так всегда. Ладно бы если дома, а тут стоя на остановке *** знает где, в ночи на морозе. Взяла и описалась.
- Ник, - говорю я жалобно и виновато. - Я описалась. Обещай, что не будешь ругать меня.
- Ну что ты, малыш. Сейчас мы поедем домой, все высушим, чтобы ты не простудилась.
- Да я не простужусь. Я с детства не простужаюсь, представляешь? У меня хорошая наследственность. Все дети в школе болели, а я нет. Как-то раз вымыла голову и высунулась в форточку, чтобы не ходить в школу. Я ее ненавидела, эту школу. Все равно не заболела. Я вот только в обмороки падаю периодически. Вегетососудистая дистония. Это от сигарет, я знаю. Нельзя начинать курить в двенадцать лет.
- А я в армии курил.
- Фига се. Ты был в армии?
- А ты не знала? Я курил и пил водку. И матерился. Еще я там носил усы.
- Фу, какая гадость.
- И это мне говорит описавшаяся женщина?
- Скажи спасибо, не облевавшаяся.
- Ничего, все еще впереди.
- Ты уверен, что действительно хочешь это увидеть?
- Я в тебе не сомневаюсь. Ты смелая. Ты сильная. Яркая. Страстная. Ты все сможешь. Если надо будет, даже и облюешься. Всем врагам назло.
- Спасибо, что не заставляешь меня это доказывать на деле. Спасибо, Никитос, что веришь мне на слово…
Никитос… Я улыбаюсь и достаю вторую сигарету. Закуриваю, хотя тысячу и один раз обещала себе не курить на морозе. Никитос… Интересно, как он там поживает?
Катька
- Скажи, Катейка, а ты, кроме как со мной, с нашими-то видишься?
- Иногда. Не хочу я с ними видеться. Половину класса в начале девяностых перестреляли.
- Да неужели?
- Ага. Макаров погиб – застрелили на бандитских разборках, Петька тоже погиб, Леха сидит. Уж не знаю, за что. Поговаривают, что любовника жены топором зарубил.
- А Рыжий?
- Спился. Траванулся паленой водкой – и все. Царство небесное. Золотой был парень.
- Ужас какой. Лучше бы я об этом не знала.
- Да ладно, ты же врач, ты привычная.
- Я к чужим людям привычная. Скажи мне, а девчонки?
- Я толком и с девчонками никак. Замуж все повыходили, детей понарожали. Мужья – так себе. Пьют, бьют. Ну и девчонки тоже. Раздались, оматронились. Тети-моти, короче.
- Не то что мы с тобой? – смеюсь я.
- Все до сих пор как девочки-подростки, - смеется в ответ Катька.
- А Светка? Она была такая красивая. Мальчишки за ней толпами бегали. Даже которые на пару лет старше. И еще этот Влад, который в страхе всю школу держал, тоже на нее виды имел. Но она с ним боялась связываться. Как у нее дела?
- Светка… Сбежала от родителей-алкоголиков. Съехалась с каким-то мудилой. Он сидел у нее на шее, не работал, она сама за все платила, кормила его, поила и не могла бросить. Ненавидела его, ни в грош не ставила, а бросить не могла. Мне, говорит, уже под тридцать, кому я нужна останусь. Не хочу одна. У вас хоть дети есть, а я вообще одна. А лично по мне так лучше одной, чем с таким дерьмом. Вот настолько человек боится одиночества. Жалко. По мне так лучше одной, чем с кем попало.
- Это Омар Хайям.
- Так ведь прав же был.
31
Потом мне долго снилось, что этот мерзавец снова со мной. Мне снилось, что я лежу, обнимая этого мерзавца. Я даже чувствовала его тепло. После этого я просыпалась в слезах, потому что тепло оказывалось моим собственным. В ногах недовольно ворчали коты. Пригревшись под одеялом, я открывала глаза и понимала, что его рядом со мной его нет, что нет никакой уверенности, что он когда-нибудь снова со мной будет.
Я по нему не скучала. Я вообще давно разучилась скучать по людям в общепринятом смысле. Со времен Женечки, своей первой любви. Я могла без них безо всех обойтись. Ничего бы со мной не случилось. Но тот момент пробуждения был самым горьким.
Реальность неотвратимо возвращалась. За окном свисало серое небо.
Черные нервные фигурки бойко маршировали к метро, торопясь на работу.
Буква «М» в сером тумане мутно отсвечивала красным.
Этого мерзавца рядом не было.
Его никто не мог заменить.
Я шлепала босиком на кухню, ставила чайник и думала, чем бы сегодня заняться.
Вспоминала, что у меня есть мои безумные панки, мои сумасшедшие дети. Со своими роликами, сноубордами, коньками, гитарами, клавишами, репетиционными базами, концертами и бутылками полусладкого шампанского, которое пилось как газировка. Протяни руку, набери номер – и эти дети с гиканьем, криками, хлопушками заполонят квартиру, вынесут содержимое холодильника (почему они всегда голодные?) и утащат меня с собой, бесцельно шататься по московским улицам.
И меня отпускало.
Горечь отступала.
Я смотрела в прозрачное небо и улыбалась. Вспоминала всех своих выживших больных и думала, как это классно – жить.
Пусть этот мерзавец живет.
Просто живет.
Без меня.
Я не жадная. Я без него обойдусь.
Пусть живет. Лишь бы с ним ничего не случилось.
А со мной и без него ничего не случится.
Я приходила бы вечером домой после смены и с пивом и орешками, забравшись с ногами на матрас, смотрела бы очередную серию идиотского «Секса в большом городе».
Прижавшись с обоих боков, рядом довольно мурчали бы коты.
Я пропадала бы на свои редкие выходные с этими детьми, безбашенными идиотами, которые, сломя голову, носились по склонам, каткам и асфальту.
Что еще надо одинокой женщине за тридцать.
Только когда мне было шестнадцать, я не могла обойтись без своей первой любви физически. У меня были ломки. Как у наркоманов.
Я каталась по полу.
Выла.
И размазывала тушь по опухшим скулам.
Но он не мог ко мне вернуться. И я не могла вернуться к нему.
Так что слезы не помогли.
После этого любви больше не было.
Слез тоже не было.
Ничего не было.
Анестезия.
Обыкновенный панк
2005
Версия Ежика
И вот Вася решил серьезно заняться музыкой, в общем, назначил меня ответственной за все это безобразие, продюсером, ну какой из меня продюсер, я договорилась с одним клубом, чтобы концертик забацать, мы пообещали привести толпу поклонников, дали рекламу, а они пообещали нам двести долларов, но это мутный был клуб, бандитский, звук говенный, света вообще ноль, только для стриптизерш сойдет, а у Васи же было шоу, он костюмы менял, танцевал, в общем, я иду к хозяину заведения, говорю, давайте бабла, а не то мы концерт отменим, а Вася уперся, что надо начинать, народ, мол, собрался, то, се, мы отыграли, фигово отыграли, но что ж делать, а к тому моменту хозяина заведения уже след простыл, мы выпили с горя пива, Ромка тогда еще устроил образцово-показательный развод на пару со мной, чтобы напугать каких-то малолеток, которые крутились вокруг нас.
Вваливается в клуб, в цепях, в косухе, говорит, здравствуйте, малыши, здравствуйте, девушка, а чем вы, девушка, занимаетесь, я говорю, я делаю людям больно, а вы? Он говорит, а я наркодилер, я продаю наркотики. Могу достать любые наркотики, какие угодно, вам со скидкой. Малыши в шоке сидели. Потом поняли, что это шутка.
В общем, они с Васей с горя надрались слегка, погрузились мы к Ромке в машину, он вроде собрался нас развести по домам, только как-то странно повез, огородами, Рома, говорю, а зачем мы огородами едем, через центр же быстрее, а он говорит, а потому что у меня нет прав, я пьяный, а к тому же у меня полная машина наркотиков, загляни в багажник, я ведь не вру.
Потом вдруг зажмуривает глаза, бросает руль и начинает орать: «Ааааааа, я слепой водитель!», тот еще аттракцион, и вот мы выскакиваем на большую дорогу, какие-то люди ее переходят, Ленинградку, представляешь, я только собралась сказать, чтобы он притормозил, но не сказала почему-то, я всегда боюсь отвлекать водителей, он только бибикнул, а люди продолжают идти, все остальное как в замедленной съемке, как будто не с нами, он по газам, вовсю сигналит, а народ идет, идет через Ленинградку, они, верно, тоже убитые в хлам были, и один из них со всей дури впечатывается нам в лобовое стекло, стекло трескается, мужик через крышу улетает назад, а с заднего сиденья орет Вася: «Уезжай! У-ез-жа-ай!», и мы вроде притормозили, и я собралась выскочить, посмотреть, что там с этим парнем, а потом Ромка вспомнил, что он пьяный, или накуренный, или под кокосом, и газанул, и мы уехали. Никто даже номера не заметил, мы бросили машину где-то на задворках, вернулись пешком до метро, мужика уже скорая увезла, нам таксисты рассказали, что, мол, открытая черепно-мозговая, какая-то сволочь сбила – и скрылась, мы им даже посочувствовали, ну хоть не труп, и то счастье.
На следующий день я пришла на работу, а у нас клиент с Ленинградки, тот самый пацанчик, которого мы сбили, все сходится, ДТП, водитель скрылся, открытая черепно-мозговая, но ничего, выжил, пьяные – они, сука, живучие, падлы.
16
Я не влюблялась в Женечку, свою первую любовь, с первого взгляда. Чтобы влюбиться в него, мне понадобилась одна анархическая пьянка, на которой он все подливал и подливал мне – хрен ли толку, я все равно потом уехала домой, там, в той квартире, где мы собрались, было с кем переспать, но меня тошнило от подобных мыслей, и потом – со мной рядом в мои шестнадцать была здравомыслящая, всегда трезвая и строгая Катька. Которая не оставалась ночевать в незнакомых компаниях ни за какие посулы, ни за какие сладкие коврижки на свете. Она тащила меня домой, повторяя, что счастье – оно понятие избирательное. С Женечкой, моей первой любовью, мы в тот раз расстались на «Третьяковской».
Он потом позвонил, да. Утром. Так, что этот звонок напугал меня, и мне пришлось бежать к беснующемуся телефону через всю квартиру. В одних трусах. И испуганно шептать «Алё». И врать, что не разбудил.
Какой-то центр по обработке информации пожертвовал нам один свободный компьютер. Мы сидели, прижавшись плечами друг к другу, и по очереди печатали статьи для крохотной анархической газетки. Нигде не зарегистрированной, изданной позже тиражом в пятьдесят экземпляров на зеленой туалетной бумаге.
Первый номер московские анархисты вырывали у нас с руками.
Женечка всегда был такой дружелюбный, такой веселый. Мы никогда с ним не ругались. Мы иногда заходили к нему домой, в его пахнущий пирожными и дорогими костюмами дом, пили кофе, и хотя курить в той квартире было официально нельзя, он притаскивал мне вкусную сигаретку «Житан». Он смотрел на меня, щурясь, и называл меня «Вундербэби». Да, для своих шестнадцати я была умная. По крайней мере, так ему казалось.
Я не влюблялась в него даже после недели совместного сидения за тем большим гудящим компьютером. Я подумала, что это надо бы сделать. Потому что на свете не было более похожих друг на друга людей, чем мы с ним. Потому что у него были такого же цвета глаза. И такого же цвета волосы. И такая же группа крови. И то же имя. И он так же на ходу обрывал листья с деревьев. И любил Эдит Пиаф. И кофе. И виски.
А потом у него вдруг нашлись дела, и мы не встретились, чтобы рисовать наши листовки и верстать нашу газету. Мы не встретились всего на один вечер.
На следующее утро я поняла, что я без него не могу.
И не могла.
Я понимала это долгих тринадцать месяцев… до тех пор, пока не увидела у него дома эту мерзость… Эту гадость…
Дальше было все как в тумане. Панки, концерты, Олеська, Шершень, Кристмас, Ник, и моя первая любовь, Женечка, опять приезжает вместе с Евой, а как же еще, и я убегаю прочь, потому что не могу этого видеть, мне больно, митинги, пикеты, и я играю на всех раздолбанных фоно, которые попадаются мне под руку, и жду, когда же он наконец уедет, ведь по моим подсчетам должен был, вот-вот уже, но он все мелькал то тут, то там, и говорили, что его выгоняют из аспирантуры МГИМО, что он ведет какой-то мутный бизнес, говорили, что даже звонил пару раз, но я велела бабушке сказать ему, что меня нет дома, никогда нет дома, я исчезла, испарилась, умерла, и он все равно приезжал ко мне вместе с Олеськой, ждал у подъезда, но было поздно, поздно…
Обыкновенный панк
2005
Версия Ежика
- И тут мне на работу звонит Вася и говорит, а ну быстро приезжай к нам, у нас тут на стадионе фотосессия. Хорошо, что было лето, работы мало, никто меня не задерживал, я приехала, там Андрюха, фотограф, Вася еще, а Ромки нет. Но это неудивительно, этот у нас любил влипать в происшествия, он вообще талантливый. Фотались только Андрюха и Вася, развернули флаг России, а Вася до кучи напялил свой костюм и голую задницу сунул в камеру. Он считал, что это и есть истинный панк. А, еще к нам мальчик один, типа поклонник группы, в Москву приехал, я его с собой взяла, с мэтрами панк-музыки познакомить. Он был откуда-то с Урала, хороший, в общем, мальчик, первый раз в Москву приехал – ну и тут же все ее ужасы на себе и испытал. В общем, после фотосессии фотограф отправился к себе домой, а мы сели на лавочке перед палаткой, Вася стрельнул у меня денег и купил бутылку водки. И они стали бухать. А я ж не пью с панками, мой напиток – «Пепси-кола», я сижу за этими двумя наблюдаю, слежу, как бы чего не вышло, контролирую ситуацию. Они как-то очень быстро убрались, мальчик наш уральский решил сначала песни петь, потом ему приспичило пописать. Зашел за гаражи, и тут же откуда ни возьмись менты. Ага, говорят, пройдемте, утащили его в машину, паспорт проверили, опа! Уральская прописка. Уже, смотрю, ручки радостно потирают, а товарищ вообще лыка не вяжет, сидит, смотрит на них глазами оловянными. Я как-то втиснулась к ним в машину, вот, говорю, то да се, отпустите нашего друга. Они говорят, девушка, ну что вы так волнуетесь, конкретно к вам у нас претензий нет, вы трезвая, с московской пропиской, в общественных местах малую нужду не справляете…
Я говорю, да-да, только у меня проблема – у меня все друзья без прописки, и потому их все время менты забирают.
О, говорят менты, эту проблему можно решить только одним способом. Вам, говорят, надо найти бойфренда-мента. И смотрят на меня так хитренько.
А что, говорю, вас трое, я одна, место вакантно, тендер устроим?
Ржут, суки, скалятся.
Короче, говорю. Надоело мне тут время терять. Денег, говорю, сколько?
Давай, говорят, пятихатку.
У вас, говорю, рожи не треснут – пятихатку?
А сама пихаю чувачка в бок, чтоб деньги доставал. А он не то чтобы лыка не вяжет, вообще не соображает. Ну иди, говорю, и сиди в обезьяннике, если платить не хочешь. Кое-как откупились, менты еще говорят, что ты купюрами размахиваешь, в задний карман сиденья положи.
Вышли мы, а они нас как-то далеко завезли. Пришлось машину ловить, ехать обратно. Приехали к метро, на лавочке сидит пьяный Вася. И девочка еще к нам приехала, подружка Васина, Юля, тоже уже убратая в стельку. За голову хватается и стонет, зачем же я так нажралась, как же, мол, меня теперь ****ь-то будут? А тут откуда ни возьмись и фотограф объявляется, пошли, говорит, ко мне, продолжим сессию. Мы поднялись, я нашему уральскому товарищу говорю, ты больше не пей, а то до дома не доедешь. Ему нужно было пилить хрен знает куда, на другой край Москвы, он в общаге у друга остановился. А он взял и еще накатил коньячины. И его опять понесло. Фотограф мне шепчет – мне, мол, этот персонаж в моем доме не нужен. Я говорю, я понимаю, только как бы его отсюда сплавить? Вывели мы его на улицу, поймали машину, даже денег дали, а он в позу встал, поезжай со мной, Женька, я один не поеду.
Не, говорю, мы так не договаривались. Не хочешь как хочешь, ты вроде уже взрослый. Все, короче, баста, карапузики, закончилась благотворительность. И бросили его посреди города. И ушли.
А дома у нас пьяный Вася и пьяная Юля. Тоже невменько. Фотограф говорит, ты ее раздень, заведи в ванну, мы сейчас ее ледяной водой окатим. При невметозе – первое средство. Я тут давеча так от плохого кокаина лечился.
Раздели. Окатили. Выдали полотенце. Через две минуты она вышла из ванны, одетая, совершенно трезвая, сказала нам спасибо и отбыла в ночь. Осталось теперь только разобраться с Васей, который тоже к тому моменту отрубился, причем не где-то, а на спальном месте фотографа.
Давай, говорит фотограф, его перетащим.
Давай.
И мы его понесли.
Мы с ним – те еще носильщики. Я – со своим птичьим весом. Фотограф – и того меньше. А мы несли эту стодвадцатикилограммовую тушу через бесконечные коридоры его сталинской квартиры. Пару раз уронили. Головой. Об пол. Об паркет. Он не проснулся. Когда дотащили до другого спального места, просто сбросили на пол. Он даже не шевельнулся. А через пять минут зашли – он уже на кровати спал, одеялом укрывшись. Хитрец, одно слово, хоть и пьяный.
А уральский поклонник так и блуждал по Москве до шести утра. Потом где-то вырубился, и у него вытащили мобильный телефон, и деньги, и обратный билет на поезд, и фотоаппарат… Я думала, что он меня всеми словами проклянет за то, что я его тогда бросила. Нет, он потом пришел в себя, написал СМС, дурак, мол, сам, больше так пить не буду. Я говорю, а я думала, что ты меня в этом обвинишь.
Я так, говорит, в шесть утра и делал, когда по Москве ограбленный слонялся. Плакал и кричал, зачем ты меня бросила…
Все, уехал потом, не знаю, как, больше я его в этой жизни не видела.
Ну и я до дома отбыла в итоге.
Долго потом думала, на хрена мне все это надо.
Вся эта музыка, которая сводится только к наркоте и пьянкам.
Все эти бесконечные разборки с ментами.
Но Вася говорил, что это у меня карма такая.
Что только из-за меня одной мы во все эти передряги попадаем.
А Алена не уставала повторять, что просто пить надо меньше.
Этот мерзавец
Я влюбилась в него сразу, как только увидела.
Моя лучшая подруга говорила мне, что на самом деле это очень легко – увидеть, что за человек перед тобой. «Не нужно пытаться узнать человека поближе, - говорила она, – чтобы понять, что он из себя представляет. Мы можем понять это за пять минут. Всего-то и надо, что отбросить все свои умозаключения, отключить разум и просто почувствовать, что перед тобой за человек. Не пытаться представить, а познать, какой он. Вдохнуть его».
Я его вдохнула.
Он был передо мной таким, какой он есть, даже лежа без сознания.
Я поняла, какой он.
Он был очень, очень сильный.
Настолько сильного человека я видела в первый раз в жизни.
Я знала, что он выживет. Он будет жить еще долго-долго, оставит после себя много детей и еще больше внуков. Обеспеченных по самое некуда. До самой старости. До смерти. Детей и внуков, которым не придется драить полы в шестнадцатилетнем возрасте, а потом работать анестезиологами в городских больницах.
Какое-то время, надеялась я, он поживет и со мной.
Очень сильный мужчина лежал, раскинув в стороны руки, на операционном столе, и спал, не чувствуя боли, без всякого наркоза. Он был очень, очень пьяный. Хирурги удивлялись, как после такого ДТП он вообще умудрился выжить.
А еще врачи, думала я.
Он же сильный.
И потому ему ваши ДТП… до одного места.
До какого? – спрашивали хирурги.
До такого, какого у меня и нету.
Они смеялись. Говорили, что бывает же чудо. Опять удивлялись.
Я хмыкала и дергала плечами.
Вы посмотрите на него. На его лицо. На его плечи. Он настолько сильный, что можно ставить клизму и заряжать от нее батарейки. Прижиматься лбом к его пояснице и лечить головные боли. Подставлять переломанные руки под его дыхание и заживлять им расщепленные кости. Его хватит на половину мира.
Так что он выживет. Будет жить долго-долго.
Чему тут удивляться?
Ежики в холодном лесу
Его снова долго нигде не было. Я сидела ночами в ординаторской, на диванчике, поджав под себя ноги, закрывала глаза и представляла себе карту Москвы. Мысленно отыскивала его – и понимала, что с ним все хорошо. Я никогда ему не звонила.
Обычно он сам объявлялся. Звонил с утра, предупреждал, что заедет. Заезжал. Иногда подруливал к Склифу и забирал меня после смены.
Как-то раз, посреди нудной, холодной зимней ночи меня разбудил звонок этого мерзавца. «Запрещенные барабанщики». Песенка «Миллион долларов США». Мелодия была забита только на его имя. Персона ВИП. После очередного звонка я снова внесла его в записную книжку.
Он никогда до этого не звонил мне посреди ночи. Должно быть, произошло что-то из ряда вон выходящее.
Я смотрела на телефон и боялась отвечать. Я думала, что вместо сонного «Алё» я не выдержу и скажу ему «Я тебя люблю». Вот так просто.
- Алё…
- Женечка.
- Внимательно тебя слушаю, - сказала я.
- Слушай, - заплетающимся языком сказал этот мерзавец. – Я мертвецки нетрезв. Ты можешь сделать что-нибудь, чтобы я не откинулся тут от интоксикации?
- Охренеть, - сказала я. – Чтобы задать этот вопрос, ты звонишь мне среди ночи?
- А кому? Ты у меня такая единственная.
- Ну допустим, - сказала я. – Что у тебя? Птичья болезнь? Перепил?
- Я всегда знал, что ты умная. Приезжай, бери такси и приезжай. Спаси меня. А то я сейчас сдохну.
- Хорошо, - сказала я.
Я иногда чистила дома своих панков, алкоголиков и наркоманов. Без гарантий, но пока все получалось. По крайней мере, они уходили от меня на своих ногах, кристально трезвые, ошалело глядя стеклянными глазами на реальный и живой мир.
Так что я поехала к этому мерзавцу. Поймав в морозной ночи частника, джихад-такси, но я неприхотлива, город притих, словно отмороженный, устав от гари, дыма, пробок. Хотелось кофе и спать, но я курила в окошко и была счастлива. Жизнь иногда делает подарки безумной щедрости. Я сорвалась бы к нему, даже если бы он позвонил мне с Южного полюса.
До этого мерзавца мы добрались минут за двадцать. Он сказал, что меня встретят у офиса. Офис находился в сияющем стеклом и бетоном здании в самом центре. На здании огромные неоновые буквы высвечивали название нефтяной компании «Эльба».
- Вы – Евгения Дмитриевна? – спросил меня охранник.
- Я – она, - сказала я.
Бесшумный скоростной лифт, сплошь дорогие кабинеты. Ну вот, кажется, оно.
Я сделала вдох.
Этот мерзавец сидел за столом, положив голову на руки.
- Какая встреча, - сказала я.
- На Эльбе, - сказал этот мерзавец.
- Как вы поживаете? – сказала я.
- Одной ногой уже там, - сказал он.
- Что вы пили сегодня? Лекарства по расписанию?
- Четвертые сутки, - сказал он, - пылают станицы. Уже догорают.
- Ты сможешь сам пересесть на диван?
- Нет.
Мы с охранником довели его до дивана. Я выгнала охранника, скормила этому мерзавцу пару таблеток и поставила капельницу. До утра он должен был прийти в себя. А пока что он забылся сном младенца.
Я сидела рядом, курила, ела конфеты и смотрела в плазменный телевизор.
По ночам почему-то всегда показывали самое классное кино.
По телеканалу «Культура» шел фильм «Свяжи меня» великого испанского режиссера Педро Альмодовара.
Душевнобольной с порнозвездой. Я смеялась в голос. Идеальная парочка. Сладкая до идиотизма. Примерно до такого же, как и припанкованный анестезиолог из Склифа вкупе с пьяным олигархом.
Он проснулся в восемь утра.
- Ну как? – спросила я.
- Очень пить и писать хочется.
- Пить у тебя, кроме виски, нечего. А пописаешь, если только встанешь.
- А утку? – обиженно спросил он.
- Проститутку, - ответила я. – До сортира сам дойдешь. Могу прогуляться вместе с тобой в качестве группы поддержки.
- А ты не испугаешься? – спросил он.
- Я врач. Чего я там не видела?
- Как же я забыл. Точно.
До туалета этот мерзавец мужественно дошел сам. Вернулся уже с довольной улыбкой. Но все равно пошатываясь.
- А знаешь что? – сказал он. – Я не выспался.
- Могу предложить тебе продолжение банкета в небезызвестной квартире на окраине города, - сказала я.
- Базар тебе нужен, - сказал он. Потом задумался и добавил, - А хотя ну его. Поехали лучше ко мне. А то как-то несправедливо, я у тебя столько раз дома был, а ты у меня – нет. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Кто сказал?
- Винни-Пух. Ты в своем уме? В такое время – и в гости? Не рано ли? А что семья скажет?
- Семья ничего не скажет, потому что семьи там нет. Зато есть все остальное. Пошли быстрей отсюда, пока работнички не набежали. Некомильфо, если подчиненные увидят меня в таком виде.
Мы покидали вещи в мою сумку.
- Ты пока побудь со мной, а? – сказал этот мерзавец. – Я пока что за себя не отвечаю.
- Базар тебе нужен, - сказала я.
Лифт ехал вниз бесконечно долго. Мы с этим мерзавцем смотрели друг на друга, блаженно улыбались и молчали. Не нужно было ничего говорить.
На первом этаже двери разъехались в стороны. Он медленно, осторожно, стараясь не пошатываться, шагал по застеленному коврами полу до выхода. У стойки охраны он остановился. Охранник вопросительно посмотрел на нас.
- Братишка, - сказал этот мерзавец охраннику. – Умеешь хранить государственные тайны, а? Вот и храни, лады? Вот тебе за это премия.
И нежно засунул ему сотку зелени в нагрудный карман формы.
Мы вышли на улицу. Солнце резануло по глазам. Морозный воздух моментально сковал носоглотку.
- Бля, - сказал этот мерзавец. – Я уже не помню, когда в последний раз я был таким трезвым.
- Нравится? – сказала я.
Он улыбнулся.
- Ну… Очень непривычно.
В черном «БМВ» было тепло и уютно. Мы мягко проехали по Кутузовскому и свернули в сторону Рублевки.
- Это вот там ты живешь?
- Иногда. Есть еще квартира в Москве, но там приятней.
- Ничего, не теряешься в этом музее уродов?
- Человек - не животное, ко всему привыкает. Опять же, положение обязывает.
Я тоскливо смотрела на проплывающие мимо магазины. Порше, Мазератти.
- Кто эти люди? Откуда у них столько денег?
- Мошенники и воры, как и я.
- Научи меня.
- Зачем? Будешь такой же, как я, несчастной.
- Хочешь сказать, что от больших денег нервы ни в ***у?
Он рассмеялся.
- Ни в ***у, ни в Красную армию. Но это так, вариант лайт. Бывало и хуже, просто ты не видела.
- Чего я не видела? Алкашей на операционном столе? Напугал ежа голым ежом, - сказала я.
- Голым тоже могу, - сказал он.
Дом прятался за высоким сплошным забором. Он открыл калитку и снова рассмеялся. Участок был завален снегом до высоты забора. До крыльца нужно было пройти каких-то двадцать метров. Пройти мешала девственно-белая, нетронутая снежная целина.
- Надо же, сколько за две недели снегу навалило, - растерянно сказал он. – Пойду возьму у соседей лопату.
- Возьми две, - сказала я. – Так получится в два раза быстрее.
Спать уже совершенно не хотелось. Нам было весело. Мы разгребали снег и попутно кидались друг в друга снежками. Шутили. Валили друг друга в сугробы. На улице было порядка пятнадцати мороза, но я этого не чувствовала. Щеки горели, а растаявший снег щекотными струйками стекал за шкирку.
- Женька! – Этот мерзавец вдруг замер. Остановился и посмотрел на меня. Мне показалось, что практически с восхищением. – Какая ж ты, сука, красивая.
- Спасибо, - сказала я. – Я знаю.
- Кроме шуток, - криво улыбаясь, сказал он. – Ты ангел, честное слово. Ты свет в моей жизни.
- Ты чего это трезвый и вдруг такой смелый? – сказала я.
- А чего мне тебя бояться? – сказал он.
- Меня не надо бояться, - сказала я. – Меня надо любить.
Он опять рассмеялся.
- Вот сейчас расчистим дорожку и будем тебя любить.
Дорожку мы расчистили только к обеду. Хотелось есть, пить и спать одновременно.
Дом явно был нежилой. Пустой и роскошный. Минимализм и сплошной хай-тек. С огромным камином. Подогревающимися полами, непонятно с какого зверя содранной шкурой и огромной ванной. Я осторожно обошла дом. Он показался мне совершенно лишенным души. Пустым. Скучным. Мертвым. Несмотря на то, что под завязку был забит дорогостоящей техникой.
- Будь как дома, - сказал этот мерзавец.
- Это не дом, это гостиница, - сказала я.
- Хотя бы ты это понимаешь, - сказал этот мерзавец. – Мы, Женька, с тобой одной крови.
- Нет, - сказала я. – Если бы мы были одной крови, то, чем мы занимаемся, называлось бы инцестом.
Он засунул в микроволновку какую-то разноперую пиццу и протянул мне стакан с виски. Тридцатилетний «Гленфиддик». Цветочный и сладкий. Тоже неплохо для начала.
- Кстати, - сказал он, - ты, кажется, опять спасла мне жизнь. Я твой должник. Сколько я тебе должен?
- Гусары денег не берут, - ответила я.
Он улыбнулся.
- Возьмешь натурой?
Я засмеялась. Еще раз осмотрелась.
- Так где семья?
Он замер. Черт, подумала я. Я, наверное, так зря. Он напрягся.
- Откуда знаешь про семью?
- Странный ты, - сказала я. – На лбу написано.
Он подошел к окну. С минуту смотрел на заснеженный дворик.
- Семья в Лондоне.
Примерно это я и предполагала.
- А почему там?
- Да как-то… Сначала вывез их, когда тяжелые времена были. Опасно им было тут оставаться. А потом как-то прижились…
- Дети?
- Дети. Мальчик и мальчик. Хорошие. Только вижу их раз в полгода.
- А жену?
- И жену.
- Понятно.
Сердце ухнуло вниз и противно заныло.
Я достала сигарету. Не его Treasurer, а свой крепкий и терпкий «Житан».
- Когда ты собираешься в город? У меня завтра смена.
Он молчал. Потом повернулся и сказал:
- Куда ты торопишься? У тебя же нет никаких дел. Оставайся.
- Ладно, - сказала я.
- Ну и чудесно, - сказал он. – А завтра утром я тебя отвезу.
Мы сидели на диване, если руками пиццу и смотрели какие-то дурацкие фильмы. Его коллекции ДВД хватило бы на просмотр до следующего года. После пиццы мы ели шоколадные конфеты и опять тянули виски. Рассказывали друг другу анекдоты. Этот мерзавец смущенно смеялся. Словно стеснялся своего смеха. Словно стеснялся самого себя в те моменты, когда был веселым. Когда показывал, что ему нравятся эти глупые шутки. Когда был настоящим.
Дом был отапливаемым, но после виски все равно стало холодно.
Я зажала ладони между коленей.
- А знаешь что? – сказал он. - А давай на пару залезем в джакузи?
- Джакузи – это кто?
- Это такой итальянец. Ну да. Залезем – а там Джакузи сидит.
- Секс втроем? – сказала я. – С итальянцем?
- Не надо грубости, - сказал он. – Зачем секс? У нас будет все возвышенным. У нас будет легкий петтинг.
Я улыбалась. Он помнил мои собственные шутки.
Мы лежали друг напротив друга. Упрятавшись по шею в бурлящей воде и пене. Расставив по бортикам ванной пепельницы и стаканы с виски.
- Я не знала, что ты в «Эльбе».
Он усмехнулся.
- Лет десять назад я этого тоже не знал.
- Что ты там делаешь?
- Продаю нефть и ворую деньги.
- Получается?
- Как видишь. Впрочем, раз на раз не приходится. Нервная работа.
- Ты из-за этого алкоголик?
- Нет. Я просто так алкоголик.
- Да? А я думала, люди начинают бухать только с большого горя.
Он затянулся.
- Не без этого. Я же тебе не говорил, что эти пидорасы убили брата моей первой жены?
Я не знала, что ответить. Что в таких случаях отвечают? Когда люди слишком пафосно начинают рассуждать о своих страданиях и смерти, мне становится смешно. Анестезиолог, одно слово. Издержки профессии.
- Зачем ты мне это говоришь, думаешь, я тебя пожалею?
В глазах этого мерзавца промелькнуло некое подобие удивления.
- Нет, не думаю.
- Так что?
Он выдохнул дым.
- А ничего. Рассказываю, потому что западла от тебя не чувствую. Ты настоящая.
- Понятно.
Я опять не знала, что ответить.
Растерянно водила глазами по стенам.
Размазывала пальцем пену по кафельной плитке.
- Ты ее любил?
- Кого?
- Первую жену.
Он задумался.
- Вот ты спросила.
- Нормальный вопрос.
- Не знаю. Женился по дурости, по залету. Она была дочка директора школы. Директор был партийцем. Баллотировался в депутаты. Прошел. Поставил своих людей на места, закрутил нефтяной бизнес. Сначала пару вышек, потом больше, больше… Потом на него покушались. По ошибке застрелили его сына. На место сына он поставил меня. Так что бизнес мы не отдали. Жили как на войне, каждый день как последний. Потом жена оставила мне сына и уехала в Америку. Теперь счастлива там замужем за каким-то пиндосом. Я по ней скучал. Когда нас бросают, мы звереем. Тоскуем. Но это потом. А прожили недолго. Родили сына. У меня только сыновья получаются. А я всегда хотел дочку.
- Странное желание для мужчины. Все мужчины хотят сыновей.
- А я вот дочку. А мне никто не хочет родить дочку. Вот ты бы родила мне дочку?
- Я?! – Я засмеялась. – Ну ты посмотри на себя. Куришь, пьешь до невметоза. Как от тебя от такого рожать-то?
Он комедийно плюхнул рукой об воду.
- Вот! Я же говорил, что я никому не нужен!
- Ага, - сказала я. – Повторяй себе это почаще.
Я, одинокая женщина за тридцать, никогда не была беременна. Никогда не делала абортов. И никогда не хотела детей. И не очень-то их люблю. Но я родила бы этому мерзавцу хоть десятерых. Не думая. Вряд ли он захотел бы от меня это услышать.
Я молчала дальше.
Он опять посерьезнел.
- Чем занималась твоя первая жена? – спросила я.
- Переводами. Синхронистка. Моталась по заграницам, видел ее раз в месяц.
- А ты?
- А я… Ну посмотри на меня, ты же сама все понимаешь. Я родился в спальном районе. И первую судимость получил, когда ты еще из первого класса двойки таскала.
- Пятерки, - обиженно сказала я.
Он засмеялся.
- Ты же говорила, что была двоечница?
- Надо же, - сказала я. – А ты прям все помнишь. Даром что алкоголик.
- Я все помню, - сказал он. – Даже то, чего не хочу помнить.
- Есть хороший способ забыться, - сказала я и подлила себе виски.
- Алкоголизм? – спросил он. – Это мы уже проходили.
- Еще круче, - сказала я. – Лоботомия.
Он опять засмеялся.
- Ну и шуточки у вас, товарищ анестезиолог.
Я пожала плечами.
- Профессия обязывает.
Он как-то невпопад продолжил.
- В общем, тогда, в девяносто шестом, еще не было такой компании «Эльба». Была компания «Манифест», строила нефтяные вышки, приватизировала нефтеперерабатывающие заводы. Нормальные мужики, все – приятели по институту. Заняли денег, купили оборудование, четко работали. Тесть их собрал. И была фирма «Эстакада», которая зарилась на госпакет «Манифеста». Первые наши бензоколонки принадлежали им, просто это нигде не афишировалось. Они каким-то образом пролезли в правительство. Взялись вести работы по городу, облагораживать. Попробовали заработать репутацию, выкупили несколько жилых зданий в исторических районах Москвы, обещали их отреставрировать, перестроить под музеи, а дальше началась всякая грязь. Им очень нужен был «Манифест». Собственно, почему и убили брата жены – пытались убрать верхушку. Его, видимо, перепутали с тестем. Тесть был главой, сын – коммерческим директором. Так, мелкая сошка. Просто имена и фамилии у них были одинаковые. Два Александра Никитина. Отец и сын. По ошибке завалили сына. Что им это дало? Ничего. Зря только у молодого парня жизнь отняли. Официально убийство до сих пор не раскрыто. Но это не важно.
- Почему?
- Есть у нас другие методы.
- Какие?
- Да такие… Убрали руководство «Эстакады».
- Перестреляли всех?
- Нет, мы так топорно не работаем. Это уже ювелирная работа. Шантаж, подставы, липовые дела. Половина их начальства свалила за границу. Остальные отдыхают на нарах.
- А потом?
- А потом мы сами выкупили контрольный пакет акций. Объединились с «Эстакадой». Новую компанию назвали «Эльба». В честь встречи на Эльбе.
- В каком году было слияние?
- В девяносто… - Он задумался. – В девяносто шестом.
- И те здания, которые успела купить «Эстакада», тоже отошли к вам?
- Да. Эти здания были проходной карточкой в правительство Москвы. Компания ремонтировала все эти памятники архитектуры на благотворительных началах. Ну вот и все. Конец истории. Потом тесть ушел на покой. Я занял его место. Везунчик, да? - насмешливо сказал он. - Не завидуй, Жень. В рот я **** весь этот бизнес. Тяжело и муторно. Тебе повезло, если ты не успела запачкаться во всем этом в девяностых. Я так от этого устал. – Этот мерзавец посмотрел на меня. – Что тебя удивляет? Что «Эльба» приобрела их криминальным способом?
- Моя лучшая подруга говорит, что бизнес в России не обязательно должен делаться криминальными средствами.
- Я с ней согласен. – Он помолчал, потом продолжил. – Только я не знаю ни одного бизнесмена, который не был бы завязан на криминале.
- И сейчас?
- Сейчас по-другому. В девяностые делались быстрые деньги. Мерзость это все, Женька. Вспоминать противно.
- Не вспоминай.
- Не могу. Мне теперь с этим до конца дней жить.
- Ты не мог поступить по-другому?
Он криво, грустно улыбнулся.
- А ты бы смогла? Если тебе, отщепенцу, какому-то левому барыге, в руки вдруг пошли миллионы, ты бы смогла отказаться?
- Ты сам себя предал.
- А так бы я тестя предал. Представь, каково ему тогда было. Сына убили, дочь сбежала в Штаты, бизнес трещит по швам, верить нельзя ни партнерам, ни друзьям. Только я у него и оставался. Трудное было время. Время шальных денег. Порой приходилось делать то, что ты не хочешь делать. Но я не мог отказаться. Мне дали шанс. Такие шансы не упускают.
- Моя лучшая подруга говорит, что в России и сейчас деньги перед глазами плавают. Из воздуха можно делать, совершенно легально. Чисто.
- Познакомь меня с подругой. Очень она у тебя умная.
- Она тебе не понравится.
- Она уродина?
- Еще хуже, - сказала я. – Она лицо кавказской национальности. Зуб даю, что ты таких терпеть не можешь.
Этот мерзавец уставился в стену.
- Понятно.
- Вот-вот. Куда уж понятней.
Он вылез из ванной, бросил на пол толстое пушистое полотенце.
- Надоест компания джакузи, приходи. У нас еще виски не кончилось.
- Ага, - засмеялась я. – Скажи нет наркотикам.
Я съехала спиной в воду. С головой. Пустила пузыри. Потом вынырнула.
Он стоял, смотрел на меня и снова грустно, криво улыбался.
Потом вышел из ванной. Мягко прикрыв за собой дверь.
Я вылезла. Завернулась в пушистое полотенце. Вошла в гостиную.
Этот мерзавец сидел перед телевизором.
- Иди сюда, ежик. Ежик в холодном лесу.
От виски вдруг резко шибануло по мозгам.
- А? Что?
- Такая притча, - сказал этот мерзавец. – Про людей, которые не могут сблизиться. Как ежики в холодном лесу. Порознь холодно. Хочется прижаться друг к другу. Но колючки мешают.
- Чукча-философ, - сказала я. – И кто из нас после этого ежик?
- Мы все, - сказал он. – Мы все тут – ежики.
Я подошла. Села рядом. Он погладил меня по голове.
Я зажмурила глаза. Тепло вперемешку с восторгом торкнуло в лоб и мягко разлилось по груди, по кончикам пальцев. Ежики… Не такие уж мы с ним и разные.
Он смотрел в телевизор. Четкий, дерзкий профиль против света экрана.
Я смотрела на него и думала, что люблю его до одуренья. Жаль, что этого нельзя было произнести вслух. Он бы не понял. Он не мыслил подобными категориями. Я просто привалилась лбом к его плечу. Он обнял меня огромной ручищей.
- Знаешь, за что я тебя люблю, доктор?
- Не знаю, - сказала я. – И надо ли мне это знать? Пусть это останется тайной.
- ***. – Сказал он. – Я тебе уже говорил, что ты настоящая?
- Тысячу раз, - сказала я.
- Выслушаешь в тысячу первый?
- Внимательно, - сказала я.
- Так вот, - сказал этот мерзавец. – Ты настоящая.
Я сказала, что он снова пьяный. Что хватит пить. Иначе опять придется ставить капельницу.
Он согласился.
Мы легли спать.
Во сне он стонал и скрежетал зубами.
Я лежала, подперев руками подбородок, смотрела на этого мерзавца и цинично думала, что у него серьезные проблемы с нервной системой.
Утром он отвез меня в Склиф.
По дороге мы почти не разговаривали. Пара дежурных шуток.
Я не спрашивала, когда он позвонит.
Он не спрашивал, когда я буду свободна.
Я снова не знала, когда он вернется. Вернется ли.
Вечер в джакузи в загородном доме и ночь с капельницей и Альмодоваром – именно таким я хотела запомнить этого мерзавца.
Это было самое восхитительное, что вообще когда-либо было между нами.
Мама-анархия
Через неделю после той ночи с капельницей и Альмодоваром, чудом выжив после столкновения на МКАДе, к нам в отделение попал окровавленный, бородатый, без сознания, но все еще живой Кристмас.
Кристмас.
Я его узнала. Даже без сознания.
- Это свои, - сказала я хирургам. – Вы уж с ним поласковей.
- Это свои, - сказала я его жене. – И уберите уже свои деньги. Мы и так все сделаем.
Отослав Алену, я сидела в реанимации. И думала, интересно, когда он очухается, узнает ли он меня. Он узнал.
Разлепив глаза, он еле-еле смог сфокусироваться на мне – и тут же сказал:
- Ежик.
- Она самая. Надо же, что судьба делает со старыми анархистами.
- Да ****ец. Попить дай.
- Пока не время. Что, тошно?
- Ага.
- А вот не хер по трассе рассекать на превышенной скорости. Не ссы, вина все равно не твоя. А я никому не скажу.
- Ну дай попить-то?
- Уймись, не время.
- А ты не изменилась. Вечно у тебя ничего не допросишься.
- А чего ты у меня просил?
- Так ты все равно не дала!
- Смотри-ка, какие у нас шустрые больные! – расхохоталась я. - Отдыхай, дорогой товарищ. С таким чувством юмора и с такой памятью - жить будешь.
У Кристмаса была перебинтована голова, сломана ключица, таз и несколько ребер. Не говоря уже о том, что лицо стало одним сплошным синяком, а глаза заплыли так, что вместо них видны были только две узкие щелки. Но честное слово, лежа там, в реанимации, глядя на меня, пережив эту жуткую аварию и шестичасовую операцию, мучаясь от тошноты, боли, отходя от наркоза, он улыбался. Даю зуб, что он улыбался.
Обыкновенный панк
2006
Версия Ежика
- А потом так получилось, что между своими бесчисленными трио со звездами Вася вдруг решил поприкалываться и просто повыступать вместе с Ромкой дуэтом. Такое, знаешь, шоу «Телевизор без телевизора». В общем, пятница вечер, смена в самом разгаре, напиваться мне нельзя, веселиться – тоже, у меня полная лавочка пьяного народу, операции одна за одной, пятница вечер – вообще очень травматичное время, пьяный офисный люд с вечеринок разъезжается. Эти двое сидят и развлекают народ в клубе «Морисвиль». Был такой клуб. Бывший клуб «Край», это на Бауманской. В общем, в час ночи я доезжаю до них, естественно, в клубе никого уже нету, эти полторы калеки уже пьяные и сидят в подсобке. Завтра выходной, и мы решаем ехать к Васе. Вася говорит: «У меня в квартире две комнаты. Одна – и вторая». А жил он в Балашихе. Вышли мы на улицу, поймали машину – и поехали. По дороге ящиком пива затарились. Но я не пью, я за этими двумя смотрю. С нами еще девочка была, Васина подружка, Юля. Едем, и буквально за сто метров до Васиного дома дорогу нам перекрывает ментовской УАЗ. Здравствуйте типа, всем выйти на улицу, руки на машину, предъявить документы. Паспорт с московской пропиской только у меня. Вася достает газету со своим интервью – был у него такой хитрый способ отмазы – и говорит, что он звезда шоу-бизнеса. Его отпускают. До кучи и Юлю. И только Ромка, обдав их в ночи презрительным взглядом, заявляет, вы, мол, не имеете права. В ответ на это Ромку оперативно упихивают в УАЗ и увозят в неизвестность, в холодную зимнюю ночь. Вася начинает орать, что надо доехать до его дома, у него в подъезде живет знакомый мент, что с его помощью мы Ромку вытащим. Ну пьяный был, что ты хочешь. Я говорю водителю – едем за ними. И эти менты на УАЗе, прикинь, уебывают от нас через двойную сплошную на красные светофоры. В общем, доехали мы до отделения. Холод, блин. Ночь. Зима. Огромная железная дверь – и домофон. Звоним.
Рома наш, говорим мы, у вас?
У нас, говорят.
А когда же, говорим, его отпустят?
И тут они начинают что-то такое страшное нам говорить, что выпустят Ромку только завтра, и то не на свободу, а перевезут в Капотню, в спецприемник. Вась, говорю. Иди-ка ты домой. А то ты пьяный, сейчас еще и тебя сцапают. Я как-нибудь сама.
Полчаса! Полчаса я ломлюсь в эту железную дверь, ежеминутно посылаемая на *** этими ментами. В итоге говорю – ну мужики, ну пустите меня. Договоримся. Наконец пускают. У меня в кармане триста убитых енотов денег. Не моих. И я тихо понимаю, что я отдам за Ромку все эти деньги. Созрела во мне такая внутренняя готовность. Заводят меня в комнату, в комнате сидит мент. Сует мне какую-то задрипанную книжку, вот, говорит, читайте, за что привлекли вашего друга. Сопротивление властям.
Я говорю, слушай, мужик. Сколько?
Он мне – чего сколько?
Денег, говорю, ты хочешь сколько?
Он говорит – девушка, вы мне на рабочем месте взятку предлагаете.
Да, говорю. Предлагаю. Так сколько?
Блин.
Он говорит, девушка, вы мне при исполнении взятку предлагаете.
Так и есть. Предлагаю, говорю. Предлагаю. Сколько?
Он говорит, девушка, у меня двое детей.
Отлично, говорю, вот и купите им что-нибудь.
Он вздыхает и говорит, девушка, у нас, у ментов, такая грязная работа.
У нас, говорю я ему, у врачей, не чище.
А у нас, говорит мент, убийства, грабежи, изнасилования.
А у нас, говорю, разбитые переломанные люди.
Но у нас, говорит мент, хуже. Вот позвонили, опять грабеж с нападением.
Ну и вот, говорю. Что вы тут сидите? Чем вы занимаетесь? Ваша работа – ловить преступников. Очистите город от преступности. У вас, понимаете, убийства, грабежи, изнасилования. Вот и занимайтесь своим делом. Хрен ли вам наш Ромка-то сдался?
На этом пафосном моменте я, кажется, на крик перешла.
Ромка от этих криков аж в обезьяннике проснулся.
В общем, говорю, товарищ мент. Сколько?
Не, говорит мент. Так не пойдет. Вот пишите протокол, все как было.
Ну я написала. Честно написала. Все как было. Типа ехали мы ехали, никого не трогали, тут откуда ни возьмись нарисовались менты и почему-то забрали нашего Рому.
Тут он звонит кому-то, и приводят Рому.
Грязного такого, оборванного.
Что это, говорит мент, у вас молодой человек выглядит как какой-то полубомж?
Я говорю – во-первых, это не мой молодой человек. У него есть жена и сын. А во-вторых, он не полубомж, а будущая звезда русского панк-рока. А если вы телевизор не смотрите, то это ваши проблемы.
У них в тот день просто съемки были.
Для какой-то очередной развлекательно-дебильной программы.
Я даже помню, как она называлась.
"Идиот-шоу".
Тема выпуска: «Как согреться в холодную погоду». А как? Пристать к хулиганам. И сюжет такой, что идет Рома, видит хулиганов, показывает им фак, и они валят его на землю и начинают мутузить. А режиссер орет, чтобы били натурально, потому что если не натурально, то в кадре это будет видно.
В общем, Ромка в очередной раз пострадал за искусство. Сидит в ментовке, весь в синяках, грязный, ну ты себе представляешь… на этом замечательном моменте меня просят удалиться из комнаты, мент решает с Ромкой какие-то вопросы, под конец темницы рухнули. Свобода.
Вася давно съебался домой, и потому никто нас не встречает радостно у входа.
Зима, блин. Три часа ночи. Холод, как после атомной войны.
И еще эта сраная Балашиха.
Ну что, говорю, герой. Сколько с тебя денег сняли?
Нисколько, говорит. Только заставили протокол написать.
И что ты написал?
А он так гордо отвечает. Я, говорит, написал, что защищал свои права.
Куда едем-то, говорю. К Васе или по домам?
К Васе, говорит Ромка. К нему ближе.
У тебя, говорю, рубли есть? А то у меня только убитые еноты.
Да, говорит Ромка. Достает бумажник. Открывает. Меняется в лице.
**! Эти суки с*или у меня пятихатку! Постой, говорит, здесь, сейчас я схожу заберу у них свои деньги и вернусь.
Ром, говорю. Ты охуел? Какие деньги? Ты второй раз хочешь в обезьянник? Я второй раз туда за тобой не пойду. Так что иди. Иди, милый друг. Я домой поеду.
В общем, с горем пополам добрались мы до Васи.
Посидели, попили пива.
Отметили в очередной раз счастливое спасение от ментов.
Вася всегда считал, что в эти неприятности с ментами мы попадаем из-за меня.
Что когда мы втроем встречаемся, звезды как-то не так становятся.
А Алена, наслушавшись этих историй, в ответ на это всегда говорила, что пить надо меньше.
Катька
Катька снова идет на кухню. В десятый раз ставит чайник.
Ночь долгая, мы еще не успели наговориться. Мы осторожно, аккуратно, шутя, то и дело затрагиваем тему отношений. Катька отворачивается, смотрит в пол. Я вижу, что ей все еще больно вспоминать. Мне тоже. Иначе бы мы с ней не были одинокими. Как и миллионы женщин в этой стране. Миллионы женщин с детьми.
- Ты не удивляйся, Кать, что ты мать-одиночка. Это не исключение, это правило. У нас в России женщин на десять миллионов больше, чем мужчин. На всех не хватает. Да и мало ли женатых живут на две семьи? Патриархат какой-то, не назовешь иначе. Причем жены, как правило, о наличии второй семьи знают и молча терпят. Так что не парься. Все нормально.
- Да, кстати. Я не виделась с отцом своего ребенка, но я виделась в итоге с его женой.
- Ух ты. Она ж тебе как родственница. По этому самому месту. И о чем вы с ней говорили?
- Ну так… Как-то случайно столкнулись. Она сказала, что я сама хотела ребенка. За что боролась, на то и напоролась. Еще она сказала, что любит его и мне не отдаст.
- А ты?
- А я сказала, что и не претендую. Даже если он уйдет из семьи, к моему берегу точно не пристанет, пусть не беспокоится. Пусть лучше на счет алиментов побеспокоится.
- А она?
- А она сказала, что они с мужем считают, что просто сдали в банк сперму. Поработали на пару спермодонором.
- А ты?
- А я сказала, что очень не хотела бы встречаться с ними в государственных инстанциях. Но если прижмет, пойду. Что ж делать.
- И ведь пойдешь?
- Ну пока что нет такой необходимости. А потом его жена сказала, что рада, что со мной поговорила. Сказала, что теперь, по крайней мере, при встрече мы будем здороваться.
- Приятная женщина.
- Угу. А я ей сказала, что по мне так поменьше бы было в моей жизни таких встреч.
Катька вздыхает.
- Видишь, Жень, что получается? Помогать растить ребенка должен, по идее, в первую очередь отец. А если отца нет, то государство. А помогают родственники и подружки. И где он, тот отец?
- Какое у тебя пособие как у матери-одиночки?
- Только не смейся. Тысяча триста рублей.
Я смеюсь.
- Ну с отцом, допустим, все понятно. А где оно, то государство?
Кристмас
Весь тот месяц, пока Кристмас валялся в Склифе, я не вылезала с работы. Я брала дополнительные смены и тихо ненавидела свой дом. Мне не хватало моих анархов. Я даже не подозревала, как сильно. Тринадцать лет молчания – плевый срок. Как будто все было вчера. Как будто время – понятие нелинейное. Как будто меня на тринадцать лет запихнули в другое измерение, в чужую реальность, а теперь вдруг неведомой волной меня выбросило обратно, к своим. Мы с Кристмасом ходили курить и не могли наговориться. Кристмас мало изменился. Остался таким же неподкупным журналистом, таким же бескомпромиссным борцом за свободу. Он так же, как и тогда, легко называл меня Ежиком. А у меня снова язык не поворачивался назвать его Вадимом.
- Ну расскажи мне, как там наши?
- Да кто как… Дружим понемножку.
- А Женя? Вы видитесь с Женей?
- Ох ты ***ь. Нет, не видимся. Боюсь, увидимся теперь уже нескоро.
- Он все-таки уехал в Китай?
- Какой Китай, с чего ты взяла? Он уехал в Германию.
- Ой, - я прикусываю губу. Про Илону и про его поездку в Китай не знал никто. Ни Ник, ни Шершень, ни Кристмас.
- Нет, о чем ты говоришь... Ты уехала, и как-то все поутихло. Женька появлялся то тут, то там, мутил какие-то дела, писал параллельно статьи в левые газеты, а потом – по слухам - вдруг завязался с каким-то непонятным криминальным бизнесом. Заявил нам, что все наши акции – полумеры, что это не революция, что ему надоели все эти компромиссы с демократами, что пора заниматься крупными, громкими акциями. Женька сказал, что реальную революционную силу мы создадим только тогда, когда объединимся с национал-большевиками. Половина народу ушла из анархов в наци, и в этом, конечно, по большей части его заслуга. Наци набралось много, они собой гордились, считали себя единственными значимыми патриотами. Да и братвы сразу много к ним подтянулось, ведь одно дело – кормить бомжей всяких и бездомных гастарбайтеров, как делали хиппи, пацифисты и прочие антимилитаристски настроенные анархи, а другое – чистить город от приезжих, ну там армян, таджиков.
- Я не удивлюсь, если это был госзаказ – очистить город от армян и таджиков.
- Никто не знает. Но дело было так, что они запланировали массовую акцию, показательную, чтобы напугать кавказцев, собрались толпой в тысячу человек и разнесли на тряпки Черкизовский рынок. Нагрянули туда вооруженные до зубов. Переворачивали торговые столы, поджигали палатки. Двоих азербайджанцев порезали насмерть, двадцать восемь убыло с ранениями, а сколько там реально народу пропало, никто не знает. На самой акции Женьки не было. Он собрал народ – и слился. Был суд, Женька проходил как один из организаторов, но – опять же, по слухам - он как-то хитро использовал этих глупых малолетних фашиков для того, чтобы запугать своих напарников по бизнесу. Никто ничего точно не знает. Женька вышел практически сухим из воды – он получил минимальный условный срок. Ну и родители подсуетились, взятку кому надо сунули, видимо. Вот так. И он продал квартиру и слился в Германию. Опасно ему было тут оставаться.
- Значит, он так и не уехал в Китай, - тихо говорю я. – Скажи, а Женя разве больше не сошелся с Евой?
- Нет. Ева вообще куда-то пропала. Не выдержала этого безумия. То, что случилось, уже не было похоже ни на какую революцию.
- А Илона? Помнишь, была еще Илона. Появлялась пару раз на наших сборищах.
- После того, как ты уехала, Илону быстренько услали в Израиль, потому что пошли про ее родителей мутные толки, якобы проворовались в советское время, в общем, до судов дела не дошло, но, как видишь, все разбежались. Женькины родители сейчас, кстати, тоже в Германии. Возвращаться не собираются. Боятся.
- Понятно. Скажи мне, а Ник? Ты знаешь что-нибудь про Ника? Как там Никитос поживает?
- Поживает… А уже никак. – Кристмас выдыхает дым в сторону и хмурится.
- О чем ты?
- Да я сам не понял, как так случилось. Это было в девяносто седьмом, в мае. Мы тогда приходим к нему, ну помнишь, он еще в той своей квартире на севере Москвы один жил и всех к себе приглашал, дом старый, власти вроде как думали – под снос, но оказался памятником архитектуры, и сносить не стали. Решили отремонтировать, а жильцов по окраинам расселить. Кто-то обрадовался, типа молодых семей, им бы пошире да попросторнее, но в основном народ уперся, не хотим расселяться, вот и все. Делайте с нами что хотите. Там вообще старый район, приятный, исторический, недвижимость тогда продавалась, как пирожки на базаре, и под это дело впряглась одна нефтяная компания, она и так у всех на слуху, ну ты наверняка знаешь. В общем, сначала бабушки-дедушки пропадать в больницах стали. Молодые семьи расселились без базара. Старички стучали копытами – они ведь привыкли к месту, не хотели на старости лет уезжать в ***я на окраины – и странным образом помирали. Кто от инфаркта, кто он инсульта. А кто переписывал свою квартиру на пришлых благотворителей - и тут же отправлялся в дом престарелых. Ты понимаешь, все одно к одному. Не может такого быть, чтобы за полгода собственной смертью умерло сразу восемнадцать престарелых жильцов. И тут очередной наш четверг, и мы приезжаем к Нику, а Ника нет. Ты же понимаешь, такого никогда не было, потому что такого быть не могло. Он никого не динамил, если что-то случается, всегда предупреждал. У нас была договоренность, если что-то меняется, звонить. Если нет, встречаемся без созвонов. Ну и вот, мы приезжаем, я, Шершень, Олеська, человек пятнадцать, а его нет. А к нам тогда еще анархи из Парижа приехали, мы хотели их у Ника поселить, да и он был не против. В общем, эти придурки в дредах с рюкзаками, грязные, вонючие, потому что поездом добирались. Стоят, не поймут, в чем дело. А его нет.
Мобильников же тогда не было. Позвонить узнать некуда.
Мы потоптались часа два и ушли. Расселили этих придурков по своим домам. Они нам все потом своей травищей провоняли. Прошел день, два, Ник так и не объявился, и это было очень странно. Только Олеська почему-то решила пойти в мусарню, мы же туда, ты знаешь, ни ногой, у нас на ментов идиосинкразия. Олеська накатала заявление, еле приняли. Мы же ему никто, а родители у Ника жили далеко.
Нашли его через три недели, в овраге за городом. Хоронили в закрытом гробу. Там от лица и всего остального мало что осталось, ну да ты же медик, тебя такими подробностями не удивишь. Менты сказали, что пьяная драка, но никто не поверил. Он же не пил никогда, не дрался, какая пьяная драка?... Короче, завели в итоге дело. Протоптались какое-то время, нехотя написали какие-то бумажки. Все равно не раскрыли. И никто раскрывать не собирался.
Ну вот, а потом последних старичков отправили в мир иной, дом расселили, отремонтировали, и, как говорят официальные документы, теперь этот памятник архитектуры принадлежит небезызвестной нефтяной компании «Эльба»… Тебе не кажется эта ситуация несколько подозрительной?
Я молчу.
- Это риторический вопрос, - говорит Кристмас. – Да, только пустых сожалений сейчас не надо, Ежик. Все равно уже ничего не поделаешь.
Плакать я не собиралась.
- А у него, - осторожно говорю я, - осталась семья, дети?
Кристмас снова хмурится.
- Нет.
Я верчу в руках сигарету.
- Ты мне только скажи, - запинаясь, говорю я, - он же по мне не скучал, когда я уехала?
- Знаешь, - неожиданно жестко отвечает Кристмас, - не ищи у меня поддержки. И оправдания тоже не ищи. Что ты теперь о нем спрашиваешь? Тебя его судьба тринадцать лет не интересовала. И потом - это ведь не он тебя бросил. Это ты его бросила.
С тех пор тема Ника стала у нас с Кристмасом запретной. Кристмас морщился при любом упоминании о Нике, словно до сих пор отказывался поверить, что Ник мертв. Кристмасу было больно даже вспоминать о нем. Написать о Нике более-менее пристойной статьи Кристмас тоже не смог. Это было странно - и страшно.
Мы больше никогда не говорили о Нике.
Мы говорил о чем угодно, только не о Нике.
Выздоравливающий Кристмас пил из моей мензурки дешевый коньяк, улыбался, рассказывал про то, что случилось после того, как я уехала, про «Хранителей радуги», про движение "Еда вместо бомб", про свою редакцию, жену и ребенка. Я слушала его, вспоминала Ника и ничего не чувствовала.
Вообще ничего.
Как будто речь шла об очередном больном, который на беду своих родственников не нашел в себе сил выкарабкаться.
После того, как я уехала, он прожил всего три года.
С момента его смерти прошло десять лет.
Я пропускала истории Кристмаса мимо ушей, думая, ну что ж, бывает. Со всеми бывает. Не всем же быть такими живучими, как этому мерзавцу.
Последний раз мы виделись с Ником тринадцать лет назад.
В этом году ему исполнилось бы сорок.
Я с удивлением прислушивалась к тишине в своей душе и пожимала плечами.
Мало ли что за тринадцать лет может случиться.
Этот мерзавец
Я тихо сходила с ума. Если бы не реинкарнация Кристмаса, я сошла бы с ума окончательно. Этот мерзавец меня словно чувствовал. Объявляясь ровно в тот самый момент, когда я успокаивалась и начинала о нем забывать. Первую неделю я ждала звонков. Звонков не было. Я множила бычки в огромной пепельнице и смотрела все сериалы подряд.
С той стороны экрана плакала и множила бычки Кэрри Брэдшоу.
Мужчина ее мечты зазывал Кэрри на Гавайи. Ночевал у нее. Звонил. И даже иногда приносил подарки.
Я мысленно поливала матом сценариста. Розовые сопли. ****ская фальшивка. Тупое разводилово на эмоции. Чушь. В жизни так не бывает.
Кому нужны в этой жизни одинокие женщины? Кому нужна в этой жизни эта кривоногая, лживая и ебливая Кэрри Брэдшоу и ее подруги? Чертова дешевка.
Через две недели я переставала его ждать. Вытаскивала из квартиры артиллерию из пустых бутылок из-под пива, виски… вытряхивала пепельницы. Шла сдавать кровь на плазму. Среди врачей бытовал миф, что сдача крови на плазму действует как детокс, было очень кстати. Я шла играть с хирургами в футбол. Шла со своими панками в кино. В зоопарк. На концерты. «Запрещенные барабанщики». «Грассмейстер».The Beat! А потом еще кто-то привез в Москву Патти Смит. И джазовые концерты днем, в консерватории, по воскресеньям.
Жизнь входила в обычное русло.
Я снова чувствовала себя нормально в бейсболке, «Мартенсах» и штанах с девятью карманами. Мне снова давали шестнадцать лет.
Я начинала подумывать о том, что пора в очередной раз согнать всех на репетицию и забацать живой концертик.
Расписывала свои хилые финансы и строила планы.
И тут он снова объявлялся.
В очередной раз переиграв меня.
Он снова приезжал со своим дорогим виски, шоколадом «Линдт» и вкусными сигаретами. Я обнимала его, вдыхала этот запах и думала, что умру от счастья. Что на моей могиле напишут эпитафию «Умерла от счастья».
Он успевал уехать от меня еще раньше, чем наступало утро.
Рассвет тоскливо вползал в комнату.
Я допивала виски.
Докуривала вкусные сигареты.
Тычась лбами в плечо, ко мне ластились коты.
Я привычно роняла пепел на их полосатые шкурки.
Я понимала, что смертельно устала от ожидания.
Что дальше так продолжаться не может.
Мне не нужно было, чтобы он приезжал раз в месяц.
Лучше бы он вообще больше никогда не приезжал.
Лучше бы его вообще не было.
Я не плакала. Тупо констатировала факты.
Слез не было.
Ничего не было.
Анестезия.
Я не умела ему сопротивляться. Я точно знала, что когда он позвонит в следующий раз, я снова замру в оцепенении, не в силах даже выговорить «Привет». За эти несколько часов в месяц, проведенные с ним рядом, я готова была отдать всю свою жизнь вместе с анархистами, вместе со сладкой, волшебной субтропической страной, музыкантами, панками и Женечкой, моей первой любовью.
Я точно знала, что каждый раз, тоскливо выбираясь на улицу, я буду искать его роскошный «БМВ» с английскими номерами, и каждый раз, приходя на работу, я буду вглядываться в лица больных, надеясь увидеть эти серые глаза, этот дерзкий профиль.
Я думала, что так не бывает.
Дура ты, Евгения Дмитриевна, со своей любовью, - говорила я себе.
Эта любовь тебя доконает. С таким же успехом можно было бы любить камень. Или дерево. Или кусок льдины.
Мне хотелось куда-нибудь сбежать.
Я ненавидела этот город за то, что в нем жил этот мерзавец.
Обыкновенный панк
2006
Версия Ежика
А потом Вася нашел спонсоров на наш веселый музыкальный проект, и толстые продюсеры дали нам денег, и мы стали серьезно заниматься записью пластинки. Это уже были не игрушки, это была настоящая кропотливая работа, только вот Вася забухал с радости, а сроки поджимали, да и Ромка все время динамил, у него то менты, но наркотики, то еще что-то. Да и за тот наезд его в итоге поймали, когда мы мужика сбили. Забавная была история. Он ведь так и не сознался. Менты его даже на понт пытались взять, сказать, что чувак умер от травм, но он у нас в Склифе лежал, оклемался, родимый, о чем я Ромке не замедлила сообщить. Впрочем, угрызения совести его все равно терзали. Я даже думать не хочу, каково с этим жить. Каково ему теперь с этим жить.
Так вот, приезжаем мы на студию, а зима еще была, холодно, тут же водки накатили, а Вася уже тепленький был, говорил, что ему так поется лучше. Записали песню, прописали скрипки, валторну, и тут в студию входит мужик, а с ним страшенная такая бабища, и говорит что-то такое про смерть. Я таких боюсь, я сразу как вижу, ноги делаю. Пора, говорю, ребята, валить отсюда. Выходим, ловим мотор, договариваемся встретиться на съемках клипа, уже все проплачено. А на следующий день – всемирный женский праздник, я на смене, остальная братия бухает по домам, и я решила Васю не трогать, пусть попьет напоследок, он уже сам чуял, что до добра не доведет его это, божился, обещал зашиться.
Он вообще осторожный был, только спьяну вел себя как ребенок, всем верил, со всеми дружил, никогда не скандалил, не дрался, только собутыльников себе находил очень сомнительных.
И вот девятого числа я ему звоню, а у него автоответчик пьяным матом ругается. Мы думали, может, он домой в свою деревню съебался, но он бы тогда сказал, он все время мне звонил, по десять раз на дню, а тут молчок, и все.
И так неделю.
Мы созвонились между собой, потом как-то собрались толпой и приехали, середина марта, как раз выборы были. Заходим в подъезд, а там стоит такой тягучий, плотный трупный запах. Я этот запах хорошо знаю. Мы приходим в мусарню, а менты говорят, извините, мол, но у нас сегодня выборы, мы, конечно, придем посмотрим, что там у вас, но если труп, то дверь ломать будем только завтра. Мы говорим – а если мы вам денег насыплем? Они говорят, смотря сколько. Наскребли триста грина. Они говорят, не, все равно не поедем.
Утром в понедельник опять мы все стоим там, в Балашихе, приезжает МЧС, автогеном вспарывает дверь, потом заваливают менты, выходят, да, говорят, там жмур. Кто из вас крепкий? Ромка говорит, только не я, у меня на запахи плохая реакция. И платком заранее нос зажимает. Они подзывают Даню, заводят в квартиру.
А я до последнего момента не верила. Говорила, пока опознания не будет, не поверю. Пока я его труп своими глазами не увижу. Но меня не позвали, сказали, зачем ей страсти такие показывать, она же девочка. А я медик, мне как раз по .
В общем, через минуту выходит бледный Даня, говорит, да, это он.
Только он весь черный. Раздуло за неделю.
Тут же труповозка подъехала, вынесли труп в черном мешке полиэтиленовом, чтобы общественность не пугать. И брат Васин в тот момент подъехал. Я ментам говорю, - это брат его родной, не пускайте его в квартиру. Там два мента было, один из ГУВД районного, другой из прокуратуры. Вот который из ГУВД нормальный чел оказался, с понятиями. Молодой еще был. Мы его тут же Фандориным окрестили. Подошел так вежливо, брательника под ручку и в сторонку увел. А когда труп унесли, уже и нас всех впустили. Ромку чуть не стошнило. А мне нормально, я привыкшая.
В доме бардак, какая-то жрачка по столу раскидана, явно чужие люди шустрили, у Васи же бардака никогда не было, он такой был, аккуратист. А тут просто ец, все вверх тормашками, и половины техники нету, ни компа, ни телека, ни музыкального центра. Гитара только стоит акустическая, восемьсот долларов стоила, но если человек не в теме, то он бы стоимости не чухнул, гитара и гитара.
Мент из прокуратуры получил кодовую кличку Тупой. Зашел в квартиру, увидел Васину гитару, которую мы только-только на спонсорские деньги купили, взял ее, начал тренькать. Ну что, говорит, скажете, господа музыканты? Даня ему презрительно так – я тебе только одно скажу: ты не музыкант.
А мы, сука, замерзли еще, середина марта, солнышко, но все равно холодина, набились в машину, ребята пива накупили, успели нажраться, проспаться и снова нажраться. Писать ходили на стены мусарни. Я-то как цивильная в мусорской сортир пошла. А там такой сортир, что я подумала, что лучше бы я тоже на стены мусарни, как мальчик. Я ведь умею писать как мальчик. У меня строение половых органов такое.
Потом нам одни и те же вопросы по двадцать раз задавали, я думала, они тупые, а они специально, вдруг что-то выплывет.
А на следующий день Тупой говорит, что, мол, Вася ни *** не убит был, а сам спьяну коньки откинул, типа выпил много, сердце, то да се. Я говорю – ну кому ты, сука, мозг ебешь, я медик, не могло быть с ним такого. Никак не могло.
Не, говорит Тупой, закрываем дело, не было никакого убийства.
Отправьте, говорю, тело на судмедэкспертизу. Весна покажет, кто где насрал.
Пошла потом пожаловалась Фандорину. А тот был молодой, рьяный, да еще с понятиями. Через пару дней звонит, говорит, отловил я всех этих деятелей. Раскололись как миленькие.
Короче, там пьянка была. Соседи балашихинские собрались, мудила с верхнего этажа со своей подружкой, а Вася на старых дрожжах был, поэтому быстро нажрался и спать пошел. Оставил сладкую парочку в комп поиграть. А перед этим успел всем рас***еть про спонсорские деньги, которых в руках не держал никогда, деньги все через спонсоров проходили, и то дозированно, музыканты их даже не видели. А соседи подумали, что деньги у него дома хранятся, все двести тысяч, и задушили его шнуром от мышки. Вот так просто.
Потом обшарили всю квартиру, что смогли вынести – вынесли и продали, а напоследок гулянку устроили. Позвали народ, показали труп, попросили помочь в люк канализационный затолкать, но только не получилось, менты как раз район пасли перед выборами.
Фандорин их от*ил в камере бейсбольной битой, и тут же все поплыли и раскололись, а я жалела, что меня там не было. Я бы тоже с удовольствием пару раз навернула.
Дело закончилось тем, что их всех пересажали, только дуру ту отмазали, прошла как свидетельница. Она беременна оказалась. А тому, который душил, дали лет четырнадцать, кажется. Живет еще, наверное. Свет коптит, гнида.
А у Фандорина это первое его убийство было, он потом круто вверх пошел.
Я не люблю ментов, но этот мент был реальный чел, нормальный, с понятиями. Мы до сих пор иногда созваниваемся.
Такой вот у нас шоу-бизнес.
Катька
- Вот уж точно мерзавец, - говорит Катька. – Впрочем, ты же не дура, сама все понимала. Зачем тебе нужны были такие непонятные отношения?
Я вздыхаю.
- А зачем тебе нужны были отношения с женатиком, Катька? Ты же сама понимала, что примерно таким итогом все и закончится.
- Ну… Лучше синицу в руках, чем журавля в облаках.
- Вот я никогда этого не понимала. Синица идет на ***. Журавль рулит. Хоть на мгновение, но в облаках. Ты же меня понимаешь.
- А не страшно потом оставаться одной?
- Мне страшно оставаться не одной. Мне страшно с чужими. А с собой не страшно.
- А друзья?
- Это совсем другое – друзья. Они со мной. Я не боюсь их потерять. Это как рука, как нога. Ты не думаешь о том, что это у тебя есть. Они – часть тебя. Потому что они есть – и все.
- Никогда бы не хотела думать так о мужчине. Ну ты же видишь, я не фотомодель, не красавица. Я беру их другим.
- Постелью что ли?
- Ну да.
- Ты, наверное, что-нибудь хитренькое в постели умеешь делать?
- Умею, ага.
- Что же?
Краснеет.
- Не скажу. Но ни один мужик от меня после этого не уходил.
- А они тебе нужны были, эти мужики?
- Тогда – да. Теперь уже нет. Теперь у меня есть сын. Женщина, у которой есть ребенок, никогда не будет одинока.
Обыкновенный панк
2006
Версия Ромки
- И тут мне звонит какой-то мудак, типа поклонник, и умоляет с ним встретиться. Приезжай, говорит, на «Авиамоторную», посидим в кабаке, попьем горячительного, по***им о чем-нибудь. Я собрался, приехал, стою, жду. Нету. Звоню. Он говорит – я тебя не вижу. Сука, говорю, я стою под вывеской «Лефортово», ее и на другом конце Москвы будет видно. Ну ты знаешь, эту вывеску невозможно не заметить. Не, говорит, не вижу. И знаешь, что я сделал? Я вышел на шоссе Энтузиастов, встал на разделительную полосу, раскинул руки в стороны. И говорю – ну теперь ты меня видишь?! И он говорит – нет. И тут мне на плечо опускается чья-то рука. Я думал – он. Оборачиваюсь. Оказалось – менты. Оттащили к обочине, окунули мордой в снег. Нацепили наручники, затолкали в машину, едем. Куда едем, непонятно. И вместо того, чтобы нормально с ними поговорить и отвязаться, я начинаю на них наезжать. Суки вы, говорю, менты. Как вам ментами быть не стыдно? И знаешь что? Они ведь могли вытащить меня на улицу и за***ить ногами до коматоза. Я в наручниках, их трое. Могли прямо в машине съездить по еблищу и отправить на трое суток в обезьянник. Они этого не сделали. Знаешь, что они сделали? Не поверишь. Они начали передо мной оправдываться. Извиняться. Дескать, жизнь тяжелая, в деревне хорошо не проживешь… Что там еще… Жену кормить надо. Они вообще решили меня отпустить. Только ключ от наручников потеряли. И мы объездили еще пяток отделений, пока они меня расковали. Потом отпустили. Руки затекли, сука. Видишь, синяки остались. Я теперь понимаю декабристов, ага. У них, наверное, тоже такие синяки от кандалов были. Кстати, на дворе декабрь. Скоро Васин день рожденья. Надо будет Васю помянуть, встретиться.
Кристмас
- Ты видишь, что происходит, Ежик? – говорил Кристмас. – Централизация.
- Глобализация? – переспрашивала я.
- Можешь называть это и так. Глобализация – она в общемировом масштабе. А у нас и в Европе – централизация, будь она неладна. Факт тот, что власть сосредоточена в этой стране только в одном месте. И тиски понемножку сжимаются. Трудно контролировать такое количество народу, собранное в отдельно взятом месте. Я про наш с тобой любимый город. Москва и Россия – это не муж и жена, а две большие разницы. Выезжай в любую глубинку – и ты охуеешь. Никакой власти. Полная свобода. Тотальная анархия. А самое смешное – или грустное, как угодно, - это то, что люди не знают, что им делать с этой свободой. Они ждут доброго дяденьку с жесткой рукой, нового Сталина, который придет и всех построит.
- Почему меня это не удивляет?
- Вот потому. Все, за что мы с тобой боролись, Ежик, не сработает в этой стране. Она не готова к свободе. Ей нужна даже не демократия. Ей нужна монархия. Неконституционная.
- Вот ты как запел, однако.
- А как мне еще петь? В прошлом году я летел из Китая, летел надо всей Россией, видел свою страну – и знаешь, что это? Это абсолютно пустое пространство. Это леса, леса и леса. Понимаешь, к чему я?
- Пока нет.
- Блин. Приезжай, осваивай, живи. Живи где хочешь, места всем хватит. Я тупо не понимаю, почему из России гонят азербайджанцев и китайцев. Их надо приглашать сюда и ассимилировать. Пусть живут и работают! Это же так просто – самоуправление на местах, полграмма сознательности – и ты свободный человек. Анархия – это не о беззаконии. Анархия – это об отсутствии контроля сверху. А происходит то, что вся власть и все деньги, все блага сосредоточены в Москве. Ну и еще в паре городов. И весь приток нелегалов приходится именно на них. Люди уезжают из своих стран не от хорошей жизни.
- Согласна. Что делать?
- Ну, хотя бы что-то делать. Писать статьи. Говорить. Имеющий уши – да услышит.
- Чем вы занимаетесь теперь, господа неформалы? Пишете статьи? Говорите? Ищете имеющих уши?
- Мы занимаемся экологическими акциями, зелеными. В основном.
- Как и в старые добрые. С политикой теперь все?
- Не все, нет. Просто все изменилось. Само левое движение изменилось. Никто уже не проводит грань между анархо-синдикалистами, анархо-коммунистами, анархо-маргиналами и прочими анархо. Нет даже собственно леваков. Зато появилось новое явление. Есть фа и антифа.
- Мне кажется, это те же яйца, вид сбоку.
- Да ни ***. Фашистов и скинов гораздо больше. Вот ответь, почему в стране, которая победила фашизм, в две тысячи хуй знает каком году наци стали такими многочисленными?
- Национальное самосознание проснулось.
- Хрена лысого! Самосознание, как же. Фа – это несчастные ублюдки, чьими руками наше с тобой государство пытается втихую расправиться с нелегалами. Это в основном.
- А в запасном?
- Ну еще и с леваками. Но нас мало, нас реально осталось мало.
- А помнишь девяностый год? Нас было много. Было ж весело.
- А теперь уже нет.
- И что будет?
- Что? – усмехается Кристмас. - Эти несчастные дети порежут друг друга на ленточки, вот и все. Как тебе такая жизнь при развивающемся капитализме, Ежик?
- Уродливая, как и всегда, - говорю я. – В этой стране все становится уродливым. Не знаю, почему. Мало что красивого.
- Но бунт – это красиво, согласись.
- Только бунт, - смеюсь я, - на нашу долю и остался.
- Красота спасет мир, - хохочет Кристмас. – Кто сказал?
- Достоевский, - отвечаю я. – И если он слышит, в каком контексте ты сейчас употребляешь эту фразу, он вертится в своем гробу, как хренов пропеллер.
Обыкновенный панк
2006
Версия Ромки
- А с машиной-то что случилось?
- С машиной было шоу. Шоу идиотов. Короче, я ее загнал на частный сервис, так, чтобы не запалили, ее вроде отремонтировали, но я все равно осторожно себя вел, катался только по райончику, в магазин и обратно. Ибо мало ли что. И вот представь себе картину маслом – канун Нового года, я выхожу из магаза, полные сумки жратвы, подарков, собрался в кои-то веки семью порадовать, а на меня строем идут мужики в формах с автоматами. Руки на капот, рылом в капот, жрачка, подарки, апельсины – все это катится по грязному снегу, рассыпается, машину арестовывают, меня запихивают в ментовскую машину – и в отделение.
Вот, говорят, у нас есть данные, что на этой машине сбили человека.
Я смотрю на них как лох. Я заранее историю придумал на всякий случай. В общем, сижу, моргаю глазами, говорю, что знать ничего не знаю, давал другу на машине покататься по доверенности на три месяца, друг из Китая, машину вернул, уехал, больше ничего не знаю.
Они меня кололи месяца три. И так, и сяк, но – как видишь – не раскололи. Дело закрыли, меня отпустили, а машина – по их легенде – стояла на ментовской стоянке. А на самом деле на ней главный мент отделения ездил, он ее уже своей считал. Я пришел было про машину заикнуться, он меня на *** послал. В общем, обратился я к брательнику, ты же знаешь, он у меня из авторитетных. А брательник мне посоветовал позвонить по известному номеру телефона – ну ты помнишь, у нас еще была кампания борьбы с оборотнями в погонах? – и слить их. И вот я являюсь в мусарню второй раз. Спрашиваю, где машина. Главный мент говорит: иди на хуй. Я говорю – спасибо большое, извините, пожалуйста, до новых встреч в эфире, разворачиваюсь и выхожу. И в этот момент дверь забегает бригада ментов. Как было приятно смотреть на это – менты ****ят ментов. Открыли дело, и этот самый главный мент потом у меня помощи просил. Говорил – ты, мол, не сливай меня, ты же мне брат. Хуй я ему, а не брат.
Но машина так у него и осталась. Купил он ее у меня за пятерку зелени. Я ее все равно продавать собирался.
Этот мерзавец
Мне казалось, что он мог позволить себе все что угодно. Его денег и связей хватило бы на киностудию, на которой бы люди – талантливые, редкие режиссеры – снимали бы свои умопомрачительные фильмы. Или на продюсерский центр, в котором записывали бы свою музыку блестящие, великие и никому не нужные в этом уродливом мире ширпотребной поп-музыки музыканты. Иногда я встречала таких на концертах. Заросших щетиной, спившихся, с мертвыми глазами – и по-прежнему играющих космическую, бесподобную музыку. Но от мира этому мерзавцу ничего не было нужно.
Он ничего не создавал.
У него не сияли глаза от сиюминутного вдохновения, он не радовался ни музыке, ни свету, ничему.
Он смотрел на мир грустными всезнающими глазами – и ничего не видел.
Он был потребитель в самом что ни на есть банальном и классическом понимании этого слова.
И потому, думала я, с ним нельзя было падать спиной в фонтаны.
Лепить снежную бабу.
Рисовать на стене красками.
Или, сидя на вокзале в ожидании поезда, перебрасываться только что придуманными четверостишиями-зарисовками.
Расписывать дурацкими картинками асфальт.
Гонять на роликах.
Прыгать по улице, распевая во всю глотку переделанные попсовые песни, и прихлебывать из откупоренной бутылки шампанского.
Он так не мог.
Считал, что это за рамками приличий.
Считал, что проявление глупости, детскости или спонтанности – неоправданная роскошь. Я искала за его шаблонными фразами живого человека – и не могла его найти. Его, наверное, и не было. Я, наверное, сама себе все придумала. Мне, наверное, тогда все примерещилось.
Я искала за всеми его дежурными шуточками, за этой маской безразличия душу.
Души не было видно.
Он был непробиваем.
Я, наверное, потому в него и влюбилась.
Искала слабые точки – и не могла найти.
У него не было слабых мест.
Он всегда оставался спокойно-безучастным.
Приезжал, раздевался, ложился в постель.
Занимался со мной любовью.
Так, что я опять готова была заплакать.
От счастья, что он снова рядом.
И от отчаяния, что он это не навсегда.
Он поворачивался ко мне спиной и засыпал.
Я лежала, уткнувшись лбом в его спину, и беззвучно кричала в небеса, эй, кто-нибудь там, слышите, мне нужен только этот человек, это – тот самый мужчина, он для меня один, отдайте мне его, пожалуйста, отдайте…
Небеса равнодушно созерцали мои душевные корчи.
Я обнимала этого мерзавца руками и ногами, и в тот момент мне казалось, что нет на свете более одинокого, чем я, человека.
Кристмас
- Но скажи мне, есть же места, в которых анархия и самоуправление на местах возможно? Вот, к примеру, Европа…
- А что Европа? Там Евросоюз, что, по идее, та же централизация. Тиски в итоге будут так же сжиматься, и мы получим мощный государственный блок, который контролирует несколько стран. Ты об этом?
- Блин. Но Евросоюз – это шанс. Шанс объединиться. Повернуться лицом друг к другу.
- Единственный шанс – это децентрализация. Как ты не понимаешь? Единственный шанс – это разбиться на маленькие самостоятельные группы, поддерживать малый, частный бизнес, уйти подальше от корпораций и контактировать друг с другом, не допуская государственную систему в качестве посредника.
- Тогда на хрена вы до сих пор бунтуете? Устраиваете демонстрации против большой восьмерки?
- Да так… По инерции. Надо же что-то делать. Это лучше, чем ничего не делать.
- Какие, кстати, планы?
- О-о-о… Наполеоновские. Слышала про нефтепровод через Байкал?
- Неа. Я вообще не смотрю новостей. И так нервы ни в ****у.
- Наше любимое правительство тянет через Байкал нефтепровод. В случае аварии это грозит экологической катастрофой в международных масштабах. В России в данный момент самые большие запасы нефти, она начинает игру в реваншизм.
- Это как?
- Это так, что они будут качать эту нефть, продавать всем кому ни попадя и диктовать на нее мировые цены.
- Да быть такого не может.
- Да может. Я не знаю, что за люди сидят в этих структурах, но они идиоты. Они не понимают, что продлить существование человечества можно только если работать сообща, а не тянуть на себя одеяло. Иначе из-за этих манипуляций с нефтью и попытки выкрутить руки покупателям в итоге нам всем настанет окончательная ****а. Ну хорошо, пусть не нам, нашим внукам. Как раз в Евросоюзе, будь он неладен, это очень хорошо понимают. Хотя бы говно свое убирают за собой сами. Но здесь происходит полный ****ец. Да, нефтепровод. Штаб-квартира находится в Иркутске, там же происходит главная движуха. Есть независимый комитет по спасению Байкала, есть волонтеры, которые собирают подписи с народонаселения. В общем, недовольных очень много. Но от нас тоже многое зависит. Иркутск сделал ставку на Москву, поскольку отсюда исходят все директивы. Надо поднять бучу. Мы координируем несколько городов в Европейской части – Самару, Нижний, Владимир, будем делать манифестации протеста, писать статьи, собирать журналистов, в общем, как всегда, устраивать глобальную шумиху. Дату всероссийского пикета мы уже назначили. Предварительно. Нефтепровод будет проходить в опасной близости к Байкалу. Над территорией водосборного бассейна. И если вдруг рванет, то Байкал погибнет. Он же непроточный. Все уйдет в озеро. Мы вряд ли сможем отменить само строительство. Тут другая проблема – есть масса незанятых людей, и они ждут начала этого строительства как пришествия мессии. Но нужно настаивать на том, чтобы нефтепровод перенесли. Вероятность аварии довольно велика. К тому же там сейсмоопасная зона. Я понимаю, что все эти планы кажутся тебе невыполнимыми, но это надо сделать. В общем, помнишь… Кто, если не я, когда, если не сейчас…
- Посмотрим, что из этого получится. У нас иногда получалось. К примеру, с Родионовым и Кузнецовым. – Кристмас затушил бычок в банке и посмотрел на меня. Запнулся. - Ты с нами?
По спине почему-то пробежали мурашки.
Я вытащила из кристмасовой пачки сигарету. Руки тряслись.
- Что, страшно? – ехидно спросил Кристмас.
- Просто похмелье, - сказала я.
Зажмурилась.
Передо мной, словно наяву, стоял этот мерзавец.
«Пошел на ***, мудила», - подумала я.
– Я с вами. Да, я с вами.
31
А потом я вдруг начала плакать.
Так, что не остановишь.
Так, что на улице приходилось надевать темные очки, чтобы прохожие не видели моих красных опухших глаз.
Ник улыбался, глядя на меня своими невозможными ореховыми глазами. Его глаза сияли, как звезды. Он улыбался мне через плечо, оглядываясь на прощание, и уходил.
Теперь мне снился только Ник. Каждую ночь снился Ник. Его светлая квартира, его пианино, проигрыватель для грампластинок, узкая, крошечная кухня, чайник со свистком. Снилось так, как будто все было в реальности. Я искала его дом среди новостроек-многоэтажек, искала этаж, квартиру, заходила внутрь, но Ника там не было. Ник уходил. Я тоскливо смотрела ему в спину. Ник улыбался, отворачивался и уходил от меня туда, откуда не возвращаются.
Когда-то давно мы с моей лучшей подругой говорили о возвращении. Тогда, когда мы еще жили в той далекой чудесной и теплой стране, тогда, когда я совсем не собиралась возвращаться в Москву.
- Может быть, - говорила моя лучшая подруга, - ты еще встретишься и с Ником, и со своей первой любовью.
Я отвечала, что это невозможно.
- Дурища, - говорила моя лучшая подруга. – Пока люди живы, все возможно. Невозможно только когда их уже нет. Тогда ты уже ничего не сделаешь.
Теперь в случае с Ником уже невозможно было даже теоретически заложиться на чудо.
Ник улыбался и уходил. Я видела его спину. По утрам я просыпалась и понимала, что это не сон, это правда. Я выходила на улицу и чувствовала кожей, что Ника здесь нет.
Ни в этом городе, ни в этой стране. На земле. В мире.
Я царапала стены и скрипела зубами от бессилия. От того, что ничего нельзя было исправить.
Мертвого человека можно вернуть к жизни. Я столько раз видела это чудо своими глазами.
Мертвые люди оживали, рассказывали про свои грехи, про туннель со светом, про то, как видели с высоты собственное тело. Как вспоминали за несколько минут все то, что успели сделать в этой жизни, и им было тошно от гадостей, которые они успели натворить, и больно оттого, что время их вышло. Как они прощались с мужьями и женами, заглядывая им в глаза и прося прощения, но те их уже не видели. И снова возвращались в родное, болезное, израненное тело. Потом они вставали, ходили по коридору, улыбались, звонили родственникам, их сердца бились, кровь пульсировала по жилам, а руки были теплыми… Кости потихоньку срастались, швы затягивались, утки убирались в сторону, а потом, через много-много долгих, одинаковых, полных боли дней их забирали домой, в эти похожие друг на друга малогабаритные квартиры с расписными коврами на стенах, раскладными диванами и телевизором в углу, устраивали праздничный ужин, с друзьями, с запеченной курицей, картошкой с укропом, салатом «Оливье» и неизменным «Советским шампанским». Мужики, кряхтя, опрокидывали стопки водки и выходили курить на лестничную площадку. Женщины суетились на кухне, моя посуду, разливая чай, нарезая покупной готовый тортик… Выздоровевший больной сидел на почетном месте во главе стола и рассказывал про больницу. Бодрился, хорохорился, старался, чтобы было смешно. И все смеялись над его глупыми несмешными шутками и были счастливы. Я столько раз это видела. Несоизмеримо больше, чем смертей.
Мы, медики, самые циничные люди на свете.
А вы еще спрашиваете, почему мы столько пьем.
Почему мы такие наглые, бездушные, злые и отстраненные.
Вся эта кровь, боль, вывороченные кишки, разодранные сухожилия, раздробленные кости, лопнувшие внутренние органы – это всего лишь работа. Это не наша война. Если бы мы, врачи, воспринимали бы каждую трагедию, которую видим, как свою собственную, если бы мы позволили себе сочувствовать, сопереживать, сострадать всем этим поломанным, порезанным, избитым, - мы бы все сошли с ума в одно мгновение. Весь медперсонал, включая уборщиц и санитаров. Мы бы все умерли. Мы бы не выдержали. Если бы мы сочувствовали каждому горю, которое случалось на наших глазах, у нас разорвалось бы сердце.
Теперь, через десять лет, Ника никак нельзя было вернуть к жизни. Кому как не мне это знать.
Я помнила Ника. Ник всегда улыбался. И его глаза сияли как звезды. Не знаю, почему он решил, что больше ему незачем задерживаться на этом свете.
Какая ж ты дура, Ежик, - говорила я себе.
Почему ты ему не позвонила? Никто не знает, что бы произошло, наберись ты смелости и позвони ему тогда, в девяносто седьмом. Ты ведь обещала позвонить, если вдруг вернешься. Какая ж ты трусливая дура.
Потом я вспоминала все наши больничные трагедии. Что тут может быть нового и удивительного? Я каждый день вижу эти растерянные, перепуганные лица родных и близких. Обычный страх смерти.
Люди мнят себя всесильными и вечными. До тех пор, пока кто-то родной не отправится вдруг на тот свет. После этого остается чувство вины и растерянность. Каждый ругает себя за то, что ничего не смог изменить. Каждый боится, что теперь это произойдет с ним самим. Лекарства от этого страха не существует. Кому как не мне это знать.
Этот страх, это отчаяние и бессилие сжигало меня изнутри.
Так, что не помогала никакая анестезия.
Мама-анархия
Повзрослевший, широкий бородатый Кристмас деловито и немногословно организовывал наше предположительно неубедительное выступление. В девяностых он был панком и начинающим журналистом. Теперь он был редактором серьезного московского журнала.
Купил квартиру. Купил «Жигули»-десятку.
Дома сладко сопел пятимесячный сынишка и сцеживалась жена.
У него все было хорошо.
Не знаю, что именно перевесило в его системе ценностей.
Почему наше неубедительное выступление оказалось для него важнее.
Я не рисковала семьей и работой.
Я просто вспоминала Ника – и мне было стыдно.
Я хотела куда-то убежать от этого стыда.
Мне стыдно было оставаться дальше конформистом.
Кристмас всегда был нон-конформистом.
Даже будучи редактором журнала, он продолжал крушить ветряные мельницы, прикладывать политиков, хамить – и не гнуться.
Почему он решил рискнуть всем этим, я не понимала.
На московских улицах лежал грязный черный снег. Под ногами расплывалось серое месиво, от ветра не спасала ни одна куртка.
- Одевайся теплее, стоять придется долго, - сказал Кристмас. – Не забудь перчатки.
Мы рисовали плакаты, ползая по полу в его квартире.
За стенкой сопел младенец.
- Думаешь, оно поможет? – сказала я.
- Не думаю. Вот только как, если по-другому? Я не умею по-другому.
- Не знаю. Дать взятку правительству.
- Ты издеваешься, Ежик? Чтобы анархист вступал в финансовые отношения с государством?
- Слишком много шаблонов. Если есть цель – предотвратить строительство, которое грозит экологической катастрофой, все средства хороши.
- Так и я тебе о чем?
- Я к тому, что я совершенно не против диалога с государством. А вдруг?
- Не будь идиоткой. Они все заодно. И бизнес, и менты, и государство.
- Господи… - я откинула в сторону фломастер. – Когда этот гнилой арбуз, этот земной шарик взорвется на хер, никого не останется в живых, ни тебя, ни меня, никакого бизнеса…
Кристмас горько усмехался.
- Успокойся, Ежичек. Где в этой стране ты видела сознательных людей?
- В операционной, - мрачно отвечала я. - Ты обзвонил журналистов?
- Пока нет. Займись этим.
Я брала длинный список и садилась за телефон.
Так мы проводили дни и ночи.
Все было как в старые добрые времена. Те же грязные московские улицы, тот же холод и непроглядная темень. Мы ползали по полу и рисовали плакаты. За одни лишь исключением: с нами не было Ника. И именно поэтому я согласилась на эту бесперспективную авантюру. Веселые восемнадцатилетние мальчики и девочки – молодая левацкая поросль - были готовы жить и бороться за свободу дальше. Вместо Ника. Я мысленно посвятила нашу акцию его памяти.
Потом настал день икс. Промозглый мартовский день. Обычный рабочий день. Мы ждали друг друга в метро, пряча в рюкзаках плакаты и флаги. Мимо спешили сумрачные люди. Им было явно не до нашего Байкала.
Нас собралось немного, человек двадцать. Восемнадцатилетние мальчики и девочки старательно заматывали лица в палестинские платки. Малолетние панки неуклюже толпились сзади, но улыбки у них были озорные. Задорные. Им было весело, как и мне в мои шестнадцать.
- Если увидите ментов, сразу делайте ноги, - предупреждал их Кристмас.
Они кивали в ответ и смущенно хихикали.
- Я серьезно. За это могут выгнать из института. Только ментовского привода вам не хватало.
Они снова хихикали. Я погрозила им кулаком. Мне было страшно за них. Почему, тоскливо думала я, если тебе не наплевать на то, что творится в этой стране, если тебе не наплевать на жизни других людей, то свою жизнь ты обязательно начинаешь с приводов в мусарню?
Патриоты, усмехалась я.
С этой готовностью отдать за мифический Байкал собственную свободу, пойти против ментов, системы, государства - мои тощие ободранные панки и были настоящими патриотами.
Единственными настоящими.
То, что сегодня, надцатого марта две тысячи шестого года, нас всех заберут как миленьких, было ясно с самого начала. Время свободы прошло. Тиски медленно, но верно сжимались. Теперь нам не простили бы то, что легко сходило с рук в начале девяностых. Откуда-то я это знала.
Шершень похлопывал молодую поросль по спинам и поздравлял с боевым крещением, поправляя на их лицах палестинские платки и маски.
- А ты почему нет? – спросила я Кристмаса.
- А мне не от кого скрываться. Меня и так все знают. Да, ты бы лучше замоталась. А то наци пронюхают, мало ли чего.
Я хотела. Просто было лень.
Безо всякой команды мы выстроились в цепь и развернули плакаты. На нас равнодушно взирало отремонтированное, сияющее и опрятное здание министерства экологии и природных ресурсов. Кристмас покашлял в мегафон.
- Мы требуем прекращения строительства байкальского нефтепровода. Мы требуем, чтобы представитель министерства вышел к нам и принял официальное письмо от представителей экологических организаций и правозащитников. Оставьте в покое Байкал.
Вокруг защелкали фотоаппараты. Журналисты все же пришли, их было немного. За углом, как в старые привычные времена, притаился автобус с ОМОНом. Потихоньку вокруг собиралась толпа зевак. Шершень раздавал отксеренные листовки. Было уже не страшно. Даже немножко весело. Интересно, думала я, узнает ли меня в толпе леваков этот мерзавец.
А потом случилось то, чего никогда не случалось ранее и больше, думаю, не случится никогда в истории левого движения России. Из дверей здания министерства вдруг вышел опрятный дядька в дорогом сером костюме и бодрой походкой зашагал к нам.
- Ребят, вы хотели поговорить?
- Мы уже говорим, - сказал Кристмас.
- Давайте ваши требования и пойдемте говорить в здание. Что тут стоять? Только всех не берите. Давайте от вас пойдут… ну хотя бы трое.
Мы переглянулись с Кристмасом и Шершнем. Я пожала плечами.
- Пойдем?
Шершень растерянно топтался, сжимая плакат красными замерзшими руками.
- Ну пошли.
Мы отдали плакаты остальным ребятам и пошли в здание вслед за дядькой.
Смелый, сука, подумала я. Не испугался. С чего бы вдруг? Интересно, какая у него должность? Большие шишки к нам обычно никогда не выходили, дело заканчивалось пререканиями с ментами и охраной.
- Только надо будет оформить пропуск. Паспорта у всех с собой?
Мы остановились.
- Мне это не нравится, - сказала я. – Мы засветимся с паспортами, и нас потом накроют.
Кристмас захихикал.
- Не переживай, все уже давно засвечены.
Мы выложили паспорта на входе. За столом сидел насупленный охранник. Мы растерянно переглядывались. Кристмас, Шершень и я покорно шли за серым безликим дядькой. Мы гурьбой ввалились в маленькую переговорную.
- Садитесь. Чай, кофе?
- Потанцуем, - сказал Шершень. И все захихикали.
- Ну так что? – сказал серый дядька, усевшись во главе стола. – Рассказывайте.
Кристмас мгновенно повзрослел и посерьезнел.
- Вы прекрасно знаете, что возведение нефтепровода грозит глобальной экологической катастрофой. Надо что-то делать.
- Я вас понял. Заявление мы у вас взяли. Что-то еще?
- А что еще? Вы же сами все понимаете.
Дядька усмехнулся.
- Да и вы, надеюсь, тоже.
- Не забудьте, - сказал Кристмас, - представиться. И назвать свою должность.
- Ах, да. Служба безопасности. Не валяйте дурака, ребят. Деньги вложены, отозвать их невозможно.
Мы молчали. Кристмас медленно поднял глаза и сказал:
- Все возможно.
А потом подошел к двери и запер ее изнутри на торчавший из замочной скважины ключ.
- А теперь мы будем сидеть здесь вместе с вами до тех пор, пока об этом не напишут все газеты. Чем больше мы привлечем к проблеме внимания, тем лучше. Не пытайтесь сопротивляться. Не пытайтесь звонить. Мы захватывали кабинеты директоров заводов, у нас большой опыт драк с чиновниками.
Дядька потянулся за мобильником, и Шершень, как скользкая ласка, в мгновение ока метнулся к нему через стол. Кинул отнятый мобильник мне.
- Я же сказал, не надо звонить. Мы сами позвоним.
Кристмас подтащил к запертой двери пару стульев. Поставил на них плазменный телевизор. Забаррикадировал.
- Ну что же вы, служба безопасности, не раскидаете нас, как Джеки Чан, в разные стороны? – сказал Шершень. – Наверняка ведь у вас и черный пояс какой-нибудь имеется.
- А зачем? – Нервно пожал плечами дядька. – Долго вы тут не просидите.
- Нам долго и не надо, - сказал Кристмас. – Мы и за пару часов уложимся. Догадайтесь, что сейчас сделаем?
- Даже боюсь представить, - ощерился дядька. Но ему было страшно. Я это видела.
Кристмас кивнул в мою сторону.
- У тебя есть с собой список? Звони нашим, а те пусть звонят журналистам. И скажи им вот что…
В тот же вечер, буквально со скоростью звука, по газетам и Интернету разошлась информация, что группа экстремально настроенных экологов уже несколько часов удерживает в заложниках представителя министерства. Журналисты, конечно, как всегда, передернули, потому что сидели мы там недолго. Часа два. Потом двери сломал ОМОН. Но позвонить и раструбить про это мы успели.
Мы лежали впятером с заломанными за спины руками, уперевшись носами в вонючий и пыльный офисный ковролин. Менты шустрили вокруг, обыскивая наши карманы, доставая паспорта, деньги, мобильники. Потом нас цепочкой вывели из другого выхода из здания. Затолкали в теплый ментовской автобус.
- Куда нас везут? – спросила я.
- Знамо дело, в отделение, - усмехнулся Кристмас.
- А потом?
- А что потом? Потом, скорее всего, у нас у всех будет по судимости. За такие вещи административным штрафом не отделаешься.
- Вот ведь блин. У меня даже административных штрафов не было, - сказала я.
- Ну что ж, - ответил Шершень. – Велком ту де клаб.
Обыкновенный панк
2006
Версия Ромки
- А я не рассказывал тебе, как мы ездили в Питер? Помнишь, мы вышли тогда после репы, и ты куда-то сразу сбежала – ну да, ты же у нас чистенькая, ты с нами не пьешь – а мы остались, попили пива, и тут кто-то, возможно я, кидает клич – а давайте рванем в Питер! И мы еще попили пива и поехали на вокзал. Приехали в Питер. Выходим к Казанскому. Андрюха тут же съебал, а нам с Даней куда? Понятное дело, к другу к моему питерскому, к Сереге. Раньше Серега жил в центре, но к тому моменту переехал, я визуально-то куда идти помнил, а вот этаж и номер квартиры… в общем, заходим мы в этот колодец – и все. Куда дальше идти – не знаем. Стоим как два лоха, что делать, не знаем. Потом переглянулись с Даней – и как заорем на весь колодец «Луч солнца золотого…» Это наши тайные позывные. Эхо, все слышно. С балкона высовывается Серегина жена: «О, ребята, привет, давайте быстрей заходите!» Заходим – и квасим три дня, пока деньги не кончились. Дальше уже там жить неудобно было, и так хлебом-солью приняли, мы попрощались – и пошли. Идем. И понимаем, что денег нет, сигарет нет, как до Москвы добираться – непонятно. Попытались заработать пением на улице, как Толик Крупнов, только *** нам что за наше пение дал.
И мы решили кинуть кабак. Присмотрели такой полубандитский кабачок на углу, зашли, заказали ***ву тучу жранины, пива. Разыграли по ролям, как, дескать, будем уходить. Я валю в сортир, а Даня делает вид, что ему кто-то звонит по телефону, выходит на улицу и тихой сапой сваливает. И – представляешь? – жадность фраера сгубила. Нет, Даня вышел, прошел мимо окон, все хорошо, а я к пиву заказал еще стакан водки. Дернул его, пошел в сортир, а когда вышел, забыл, что надо делать. Стою, как мудак, еблом щелкаю, и тут меня валит охрана. Я говорю – ребята, давайте по-доброму разберемся, они говорят – хуй тебе, сука, мы вызываем ментов. Приезжают менты. Начинают меня ****ить. Один как навалился сзади, да так, что я чуть не задохнулся. Лежу и дышать не могу. И вот они меня душат, и я думаю – ну все, ****ец мне настал, успел мысленно со всеми вами попрощаться.
Но тут Даня подоспел. В беде друга не бросил. Я достал телефон, говорю – вот заберите, продадите его, покроете счет, он пятихатку стоит. Думаешь, нас отпустили? Ха-ха. Нас повезли в вытрезвитель. Тетенька из вытрезвителя как нас увидела, так и руками замахала – московские? Ну и валите отсюда на ***. И вот мы выходим. Телефон проебали. Денег по-прежнему нет. Сигарет нет. Как ехать домой – непонятно. А дома жены с ума сходят, мы ж даже не позвонили. И вечер еще, спать хочется. Мы нашли кинутый каблук. Загаженный бомжами, картонками заваленный, там вонь, сука, а я запахи, сама знаешь, плохо переношу… но тут пришлось. Легли мы с Даней спиной к спине, уснуть не можем. Пошли искать парадное. Отсиделись там, утром пришли на вокзал, и Даня толкнул свой телефон, как раз за восемьсот рублей. Впритык нам на два билета до Москвы в плацкарте хватило. Сели, поехали, денег по-прежнему нет, сигарет нет… прибыли в столицу, я приезжаю домой, ожидаю, что там будет ****ец, захожу… А жена такая тихая по дому ходит, спокойная. Глаза в пол. Говорит, привет, Ром, иди на кухню, садись. Наливает мне стакан водки, говорит – пей. Я выпил, я не отказываюсь. Смотрю на нее. А что, говорю, такое?
Ничего. Твой брательник умер. Инсульт – и все. Так вот он умер как раз в тот момент, когда меня менты душили. Все, нету его больше.
Мама-анархия
В отделении воняло мочой и перегаром. Нас затолкали в загаженный, заплеванный обезьянник, предварительно отобрав ремни, шнурки, мобильники, деньги и документы. Обезьянник был неотапливаемым, тесным и холодным. В углу вместо туалета стояло ведро. Мы кутались в свои синтепоновые куртки, но от холода все равно трясло, стучали зубы. Курить было нечего. Какой-то хмурый молодой мент по очереди дергал нас на допросы. Первым пошел Кристмас. Я сказала молодому менту, что Кристмас недавно перенес сложнейшую операцию. Выжил в ужасной аварии. У него было множество переломов. Я попросила мента, чтобы Кристмаса не били. Мент невнятно хмыкнул. Из обезьянника было слышно, как били Кристмаса.
- Интересно, меня тоже будут бить? - спросила я у Шершня.
- Тебя, может, пожалеют. Ты красивая. Бить не будут, просто выебут всем отделением.
- Спасибо, - сказала я, - за честный прогноз.
- Фигли ты думала, - почему-то засмеялся он. – Зачем мне врать, я не Гидрометцентр. – А потом добавил, - ты, Ежик, не бойся. В тюрьме не страшно. Я три года отсидел, видишь, живой же.
- Я и не боюсь, - сказала я. – Я просто не люблю насилия.
- Поведут допрашивать – ничего не подписывай, все отрицай, - сказал Шершень. – Я думаю, что до того момента, как они нас расколят, подтянутся всякие журналисты и правозащитники. Они – наша единственная надежда. Хочешь анекдот?
- Давай, - сказала я.
- Приходит панк к Путину…
Мы тихо затряслись от смеха. Шершень продолжал рассказывать, и слышно было, как смеются в соседних камерах. Нам грозила тюрьма, над нами висело несколько статей – от захвата заложника до экстремистской организованной деятельности, и каждого из нас должны были рано или поздно избить на допросе, а мы смеялись, как дети, над глупыми панковскими анекдотами, какими-то реальными историями, которые вспоминали, одну за другой, из наших общих хроник времен девяностых, понимая, что надо бы подумать, как вести себя на допросе, что говорить, кому звонить, - но никто об этом не думал. Мы сидели, замерзшие, голодные и злые, в этом загаженном обезьяннике, и смеялись как сумасшедшие.
Потом привели Кристмаса. С разбитым, окровавленным лицом.
- Следующая – ты, - мент ткнул пальцем в меня.
- Почему не я? – спросил Шершень.
- Потому что. Пошли, красавица.
И я пошла. Шаги гулко отдавались в пустом коридоре. Было совсем не страшно. Даже весело.
В обшарпанном кабинете грузный, пожилой и усталый мент с мешками под глазами вяло перекладывал бумажки.
- Садитесь, Евгения Дмитриевна.
- Спасибо. – Я села.
- Дата, место рождения, где и кем работаете.
- Двенадцатое июня семьдесят пятого. Родилась в Берлине. Работаю анестезиологом в институте Склифосовского.
Мент посмотрел на меня с интересом.
- Каким же ветром вас занесло в экстремисты?
- Да так, - пожала я плечами. – Байкал было жалко.
- Вы бывали на Байкале? – удивился мент.
- Нет. Никогда. Но мне все равно жалко.
Он прищурился.
- Я вас, врачей, уважаю. У меня брат лежал в Склифе пару лет назад. С ножевым ранением. Может, попал как раз в вашу смену.
- Все может быть, - хмыкнула я. – Всех не упомнишь.
- Ну конечно, - улыбнулся он. – Мир тесен. – Потом снова посерьезнел. – Евгения Дмитриевна, вы подтверждаете свою причастность к экстремистской деятельности?
- Нет, - сказала я. – И вообще. Сделайте мне одолжение. Дайте мне телефон. Мне нужно сделать только один звонок. Есть человек, который ответит вам за меня на все эти вопросы. А я устала и хочу домой.
- Голубушка, об этом надо было думать раньше, - сказал мент.
- Пожалуйста, - сказала я. И заплакала. Сама не знаю почему. Жалко себя стало до невозможности.
Бить меня не стали. Молодой мент притащил мутный стакан с водой. Я набралась наглости и стрельнула у него сигарету. Он ухмыльнулся и угостил меня «Явой». Пожилой мент молча смотрел, как я трясущимися руками пыталась прикурить. Потом протянул мне мой собственный телефон.
- Звоните. Один звонок. Договорились?
- Да, - сказала я.
Этот мерзавец всегда говорил мне – если что надо, звони. Я ему никогда не звонила. Ни разу за все тринадцать месяцев. Я почему-то решила, что это именно тот случай. Я слушала долгие гудки в трубке, и от страха у меня подпрыгивало сердце, глухо ухая от лобковой кости до гортани. Раз, два, три…
- Какие люди, - сказал этот мерзавец. Голос был веселый. Наверное, он был пьяный. – Времени – четыре утра. Ты чего звонишь, мой милый доктор? Случилось что?
- Случилось, - сказала я. – Помоги мне, пожалуйста.
- Так что случилось? – спросил он.
- А случилось то, что вчера мы с группой экстремистски настроенных граждан захватили в заложники человека из министерства экологии. А теперь я сижу в мусарне, и мне грозит суд и тюрьма. – Я сказала номер отделения.
Этот мерзавец расхохотался.
- Женька, ты не перестаешь меня удивлять. Какого черта тебе понадобилось в министерстве экологии?
- А какого черта они решили засрать Байкал? – насуплено ответила я.
- Короче. Я все понял, - деловито сказал он. – Показаний никаких не давай. Вообще ничего не говори. Ото всего отпирайся. Я что-нибудь придумаю. Договорились? Ну все, пока.
Я вернула свой телефон пожилому менту.
- Спасибо. Вы можете ни о чем меня не спрашивать. Я не буду давать показаний.
- Тогда сидите и ждите, пока я составлю протокол. Подпишете – пойдете обратно в камеру.
- Вы не поняли, - сказала я. – Я не буду ничего подписывать.
- Дорогуша, - вздохнул он. – Против вас троих уже возбуждено уголовное дело. Вам вряд ли сойдет это с рук. Вы даже вряд ли отделаетесь условным наказанием. Чем быстрее вы дадите показания, тем лучше будет для вас. Вы же не хотите в расцвете лет загреметь в застенки?
На этих словах засмеялась я. Застенки. Слишком литературное для мента слово.
- Да вы поэт? Не знал я ране, - сказала я.
- Ну так что? – строго спросил он.
- Ничего, - сказала я. – Знаете, я не хочу вас ни пугать, ни шантажировать, но за меня есть кому заступиться. Я только что звонила своему другу, он – довольно большая шишка. Он владеет нефтяной компанией «Эльба». Потерпите несколько дней, не рискуйте должностью. Он меня отсюда вытащит. А вы, если заставите меня что-нибудь подписать, потом неприятностей не оберетесь.
Я говорила это все спокойно и почти дружелюбно. Это был полный блеф. Я не была уверена ни в том, понял ли меня этот мерзавец, ни в том, что он приедет и вытащит меня из этой загаженной мусарни.
Но на мента мои слова подействовали. С минуту он глубокомысленно ковырялся в ухе карандашом.
- Так, хорошо. – Он не торопился. – А что делать с остальными?
Вопрос застал меня врасплох. Я не знала, что делать с остальными. Разговаривая с этим мерзавцем, я не упомянула ни про Кристмаса, ни про Шершня. Надо ли было? Наверное, надо. Я просто про них забыла.
Я молчала.
Мент тоже. Он изучал меня, устало выдыхая сизый дым в спертый воздух комнаты. От этого дыма меня тошнило. Я смотрела на него и мысленно умоляла, чтобы он решил все за меня.
- Понятно. Идите, - махнул он рукой. – Мы вас вызовем.
Кристмаса и Шершня потом еще два дня беспрестанно таскали на допросы. Меня не трогали. Одежда провоняла потом, сигареты кончились, нечем было почистить зубы. Волосы моментально засалились. Я робко просилась умыться. Меня отводили в грязный туалет. Я остервенело натирала лицо и подмышки куском хозяйственного мыла и смывала его холодной ржавой водой.
Ходили слухи, что нас вот-вот переведут в спецприемник. Но нас никуда не переводили. Теперь мы почти не разговаривали. Просто тихо сидели и ждали. Часы проходили нудно и медленно. Чтобы не свихнуться, я стала вспоминать гаммы. Перебирала замерзшими пальцами по грязному скользкому линолеуму.
А потом в отделении вдруг началась суета. Мы слышали какие-то крики, какую-то ругань, хлопанье дверьми. Молоденький мент, задыхаясь, влетел к нам в камеру и почти крикнул:
- Евгения Дмитриевна, с вещами на выход!
Я суетливо схватила рюкзак и куртку. Мент подталкивал меня в спину. Я виновато озиралась на Шершня и Кристмаса. Они тоскливо смотрели мне вслед. Я даже ничего не могла сказать. Просто знала, что прощаюсь. Я семенила по этому холодному коридору с зелеными казенными стенами и все оборачивалась, оборачивалась…
31
За нами закрыли тяжелые железные двери. В нос – больно, щекотно, до чиха – ударил холодный, родной, бодрящий весенний воздух. Я помнила его по девяносто первому году. Это был тот самый воздух. Воздух свободы.
Этот мерзавец достал сигареты. Протянул мне. Щелкнул зажигалкой. Закурил.
- Кофейку? – сказал он.
Сказал как ни в чем ни бывало.
Мы доехали до ближайшей кофейни. Засранной азербайджанской кофейни, с поцарапанными пластиковыми столиками и шатающимися стульями, но кофе там варили хороший. Он втихую подлил нам в кофе виски.
- За свободу.
- Угу, - сказала я. – Свободу разума от дури.
Мы чокнулись чашками.
Выкурили по сигарете.
Он молчал. Курил и смотрел в сторону.
Надо ли было говорить спасибо?
Я не хотела уходить из кофейни. Он торопился. Были дела.
- Тебя подвезти?
- Не надо, я доеду. Все нормально.
Черный «БМВ» мягко мигнул фарами, заурчал и медленно двинулся по Садовому кольцу. Я смотрела ему вслед. Виски сработал как анестезия. Если бы мы не выпили, было бы больнее.
Я прошла пешком пол-Москвы. От Лесной улицы до площади Ильича. Разглядывая дома, машины, людей. Удивляясь. Все было такое разноцветное. Такое свежее. Такое праздничное. Потом я села на метро и доехала до дома.
Коты обиженно смотрели на меня голодными глазами. Мебель покрылась недельной пылью. Чай в заварочном чайнике заплесневел. От этого мерзавца в холодильнике осталось две недопитые бутылки виски. За ночь я их уговорила.
Утром позвонила на работу. Задним числом мне оформили больничный.
Назавтра меня, как всегда, ждала новая смена.
Больные нескончаемым потоком будут нести цветы, шоколадки, конфеты. Иногда деньги.
Мы будем пить коньяк с хирургами. Вино с медсестрами. Пиво с практикантами.
Когда мне надоест пить с медперсоналом, я буду потихоньку злоупотреблять с выздоравливающими больными. Мальчик-парашютист, двадцать лет, сложный перелом бедра – нет, парашюты всегда открываются, ты не думай, просто не надо выебываться на приземлении - не сумел как следует зайти на посадку и разнес себе кость в клочья, друзья перевезли его в Склиф, тут надежней, – напоит меня чистейшей и мягчайшей водкой «Смирнофф». От нее не будет болеть голова. От нее не тошнит. И наутро я смогу спокойно курить натощак. И не падать в обморок на полпути к работе.
Этот мерзавец больше не приедет. Не позвонит. Пройдет полгода. Я не осмелюсь выключать телефон. Этого мерзавца нигде не будет.
Нигде.
Хоть ты тресни.
Если бы он объявился еще раз, я бы, наверное, уже набралась бы смелости сказать, я люблю только тебя одного, до головокружения, до почечных колик, до дрожи, до потери пульса, до коматоза. И если я вдруг умру, я все равно буду любить тебя, я стану воздухом, которым ты дышишь, и тогда я буду все время рядом, так даже лучше, ведь больше мне не придется с тобой расставаться.
Он бы, наверное, спокойно выслушал меня, докурил бы сигарету и все равно уехал. На прощание мягко мигнув фарами.
Ну и что.
Я буду любить тебя вечно.
Катька
На дворе две тысячи шестой год.
Я сижу с чашкой чая на диване у Катьки. Я рассказываю эту историю мудрой, спокойной и рассудительной Катьке. Моей лучшей подруге я не решилась бы рассказать ничего из этого.
Моя лучшая подруга всегда считала меня другой. Она думала, что панки, музыканты, анархия, - это временно, это дурь, блажь. Это детство и пройдет.
Оно не проходило.
Я не могла ей рассказать про Ника, тюрьму и этого мерзавца. Она бы не выдержала. Мои горести она всегда переживала как свои собственные. У нее разорвалось бы сердце.
Я не могла ей рассказать это все. Да и какой смысл сбивчиво, торопливо выкладывать всю эту странную историю, то и дело глядя на часы в страхе, что на самом интересном месте на карточке кончатся деньги? А я не знала, когда снова увижу ее. Увижу ли. Последние десять лет мы видимся только урывками, когда она на два, три, четыре дня прилетает сюда на конференции… Почему так? – тоскливо думаю я. Идиотский вопрос, на который я давно знаю ответ. Потому что моя лучшая подруга, моя красивая кавказская девочка, которая не прижилась в Москве, которую обзывали понаехавшей и черножопой, которой швыряли в лицо ее паспорт, которую запирали в обезьянниках и выпускали только за взятку, несмотря на ее красный диплом мехмата МГУ и незаконченную аспирантуру, несмотря на ее идеальный русский, моя лучшая подруга, ближе которой у меня не было человека ни раньше, ни потом, ни в той стране, ни в этой, ни вообще где-либо в мире, с которой мы делили комнату, работу, одежду, деньги, с которой мы чистили зубы одной зубной щеткой и курили сигареты напополам, с которой мы объехали половину Европы, осталась жить там, в той далекой, теплой, ласковой, восхитительной стране, где людям плевать на твое происхождение, фамилию и национальность. Осталась там навсегда.
- В общем, Кать, мне было страшно. Я не хотела садиться в тюрьму. Я ему позвонила. Рассказала всю эту историю, сказала, Женя, вытащи меня отсюда.
- Женя?
- А разве я никогда не говорила тебе, что его зовут Женя?
- Нет, ты этого никогда не говорила.
- Да, его зовут Женя. Евгений Дмитриевич. Мы с ним дважды тезки. Он, кажется, даже не удивился. Сказал, что перезвонит. Не перезвонил. Зато приехала машина. С генералами. С ментами. Картина маслом – менты ****ят ментов. Меня отпустили под подписку о невыезде.
- А дело?
- А дело потом закрыли. Меня оправдали на предварительном заседании. Потом я проходила по делу только как свидетель. Хотя, если честно, я была не только участником, но и организатором.
- А остальные?
- А остальные сели. Шершень на три года, Кристмас на два. А я-то надеялась, что они отделаются условно.
- Он не помог им?
- Он сказал, что сделал все, что было в его силах. Думаю, просто не захотел вдаряться в лишние хлопоты. К тому же я за них не просила. Думала, он сам догадается. Неудобно было просить его о чем-то еще. Я у него никогда ничего не просила. Он не догадался. Или действительно не смог. Я думала, он всесильный. Волшебник. Оказалось, что не так.
- И ты ему ничего не сказала? Жень, каково тебе, а?
- Мне стыдно, Кать. Но что делать? Мне с этим жить.
- А этот мерзавец? Что теперь?
- А что теперь? Ничего. Я больше с ним не сплю. Я ему не звоню. Он мне тоже. Как будто бы ничего не было.
- Он вытащил тебя из тюрьмы – и после этого ты с ним не спишь? Почему?
- Потому что это было бы так, как если бы я с ним за это расплачивалась. Кто я ему? Так, приблудная панкерша. Не друг, не жена.
- А так ты еще потеряла любовника.
- Какого любовника? Который приезжал ко мне раз в месяц? Ты издеваешься, Кать? Невозможно потерять то, чего у тебя и так никогда не было.
- Логично.
- Ну вот наконец-то я тоже начала нормально мыслить.
Я снова выдыхаю сигаретный дым в августовский воздух. Смотрю с балкона на звезды, подернутые городским смогом. Тушу сигарету и иду допивать вино и чай.
Катька мечтательно смотрит в окно на кухне. Я даже знаю, как она себя сейчас чувствует – как после грустного захватывающего кино. Или книги. Ей даже немножко жалко, что все кончилось. Но это все, конец истории. Дальше – обычная жизнь, как у миллионов других людей, и это и есть самое обидное. Я никогда не хотела жить обычной жизнью.
Впрочем, насчет конца истории я немного лукавлю. Я ведь не сказала Катьке самого главного. И, видимо, не скажу этого ни ей, никому больше, как не сказала тогда никому про свою первую любовь, про Женю.
Этот мерзавец и Ник родились на свет в один и тот же год.
В один и тот же день.
Козероги.
Я люблю Козерогов.
Этот мерзавец тоже меня обманул. Наверное, был с похмелья, не смог сходу сопоставить даты. Брат его бывшей жены, Александр Никитин, погиб в девяносто пятом. Слияние компаний произошло годом позже. А Ника убили в девяносто седьмом, когда обе компании, «Манифест» и «Эстакада», уже объединились в «Эльбу». И если рассудить логически, то получается, что Ника, единственного на свете человека, который действительно любил меня, ничего не требуя взамен, нашего всегда веселого Ника с сияющими ореховыми глазами убил этот мерзавец. Или, по крайней мере, все было сделано с его согласия.
Нет, думала я. Так просто невозможно. Ведь не могло же случиться так, чтобы один человек, которого я любила до почечных колик, убил бы другого человека, который любил - меня?
Проснись, Женька, говорила я сама себе. Взгляни на этот мир трезвыми глазами. Добро пожаловать в реальность. Вряд ли этот мерзавец был непричастен ко всем этим махинациям с недвижимостью. Если, опять же, рассудить логически.
Но на *** логику.
Я не хочу в это верить.
Этот мерзавец
Здравствуйте, меня зовут Евгений, и я алкоголик. Нет, я не хожу на собрания к анонимным алкоголикам, так я здороваюсь каждое утро с собственным отражением в зеркале.
В общем, я сам не помню, как угораздило. Алкоголизм – это болезнь, а не грех, не недостаток, который легко исправить применением силы воли. Это такая штука, которая навсегда. Рано или поздно тебя все перестает радовать без бутылки, без стакана виски с утра, а потом нарастает, как снежный ком, и это похмелье, от которого хочется выпрыгнуть головой вниз, с балкона на асфальт, и оно длится не один день, оно длится три, четыре дня, неделю, а потом ты вроде бы трезвеешь, но мир становится серым, точнее, черно-белым, плоским, как экран старого телевизора, а у тебя ни чувств, ни эмоций, только стыд непонятно за что, потому что ты сам не помнишь, что ты снова натворил вчера вечером, зачем в очередной раз прогадил пару тысяч в казино и сел за руль, если мог себе позволить вызвать такси… И вообще, разве мне в первый раз так просыпаться, разлепляя глаза, и вспоминать, кто я, где я?…
Проснулся в реанимации, в Склифе. Естественно, ничего не помню, хотя ничего удивительного, и то, что голова болит – списал на похмелье. Впрочем, в первые секунды вообще не понял, на каком я свете, едва глаза разлепил – вижу, на меня несется нечто, все в белом… в натуре подумал, что ангел. Она и была ангел.
Девочка как девочка, я принял ее за медсестру, худенькая, стриженая, на вид лет от силы восемнадцать, ходила, молча улыбалась так смущенно, как будто сама где напортачила. Она была очень своя. Очень близкая. Как будто сестра. Как будто часть меня.
Когда попадаешь в большой бизнес, первое, чему приходится учиться, - это лицемерию. Куда-то разбегаются друзья, с которыми можно было посидеть, поговорить о жизни, на их место встают незнакомые, серьезные, взрослые дяди, и тут главное – не обосраться, держать лицо, держать базар, держать себя в руках. Жесткие нормы поведения, узкие рамки. И не дай бог сглупить где-нибудь, смальчишничать – это будет расценено как проявление слабости. Неписаные законы большого бизнеса будут похлеще тюремных. Но они и подлее. Только бутылка меня от этого напряжения и спасала.
Ну и девочка… Хотя какая девочка, заслуженный анестезиолог, уже, как выяснилось, за тридцатник, на первый взгляд не скажешь, но выдают морщинки вокруг глаз и выражение лица, конечно, я потом присмотрелся. У восемнадцатилетних, по большому счету, на лицах написан такой тупой сексуальный голод, наглый, мерзкий… Когда припирало, я приезжал к ней. Ей можно было ничего не рассказывать, она и сама все понимала. Просто посидеть, попить виски – уже немного легчало. С ней было тепло и спокойно. И ей ничего от меня не было нужно.
А потом черт ее дернул загреметь в мусарню.
Нет, ничего не изменилось. С моей стороны к ней ничего и не могло измениться. Она – свет. Она – ангел. А я мудак. Я связан по рукам и ногам. А она была свободной. Я ей даже по-своему втихую завидовал. Такие не впрягаются в добровольную кабалу, не идут в пожизненное рабство, в этом все дело. А со мной не получилось бы по-другому. Она бы со мной не смогла. Да и я не готов был ничего менять.
Обернись все иначе, я бы вывез ее как-нибудь с собой на край света. Туда, где никто тебя не знает и никто не достанет. Отрубить все телефоны, и дело с концом. Сидеть на берегу, ничего не делать, бросать в воду камни. Хотя бы на пару недель. Западло в том, что у меня не было этой пары недель.
Не думаю, что она будет сильно скучать по мне. Слава богу, я хоть чем-то смог ей помочь. А вообще - кто я для нее такой? Очередной мудацкий пациент, только и всего.
31
Мы больше так и не увиделись ни с Шершнем, ни с Кристмасом. После предварительного заседания суда, на котором я отрицала – по совету этого мерзавца - не только свою причастность к акции, но и сам факт знакомства с ними, я больше не хотела ни с кем встречаться. Я не знала, о чем с ними говорить. Не знала, как смотреть им в глаза. Впрочем, ничего другого они от меня не ожидали. Никто не ожидал. Этот мерзавец каким-то чудом все уладил. Договорился со службой безопасности. Договорился с ментами. Так что меня просто не фигурировало в деле. Даже несмотря на пленку с внутренних камер видеонаблюдения. Я там была. Власти поверили в то, что меня там не было.
Но после этого анархисты ушли из моей жизни. Навсегда. Мне не шестнадцать, в которые подобные выходки были бы простительны. Тогда, в начале девяностых, я могла бы заплакать перед своими панками, в очередной раз убежав в подворотню с пикета, когда всех остальных свинтил ОМОН, и сказать им: «Простите меня. Простите…» Я была маленькая. Маленьких не пускали в революцию. Девочек жалели, потому что революция – удел мальчиков. Я была девочка. Несмотря на весь внешний феминизм и антисексизм, мальчики всегда нас прикрывали. Оттирали спинами к переулкам, защищая от ментовских дубинок. В мои шестнадцать это было нормально. Любой мой побег в подворотню не вызвал бы лишних вопросов. Они бы простили.
Но мне не шестнадцать. Мне тридцать один. И меня не пьянит при выходе из подъезда воздух свободы, потому что на дворе давно не девяносто первый, а две тысячи шестой год. Свободы больше не будет. Будет уродливый, недоразвитый капитализм вперемешку с наглой, бесстыдной, практически восточной коррупцией. Будут безмолвные, смиренные пикеты и гробовое молчание журналистов. В девяносто первом еще можно было что-то изменить. В девяносто первом нас слышали. Теперь же нас просто нет.
Москву завалило пожухлыми листьями и укутало сизым облаком. Вместо пьяного, пряного, холодного и резкого воздуха свободы я вдыхаю пыльный и приторный усыпительный газ. Сладковатый, как трупный запах, плотный, скучный и пыльный. Провинциальный и всепобеждающий. От которого некуда деться.
Кристмас и Шершень говорили мне про суды, про режим. Про наци, про глобализацию, про нашистов.
Про революцию. Про спасение Байкала. Про свободное общество сознательных людей.
Этот мерзавец все-таки меня купил.
И я не могла сказать им «Простите».
Они бы уже не простили.
Эпилог
Кристмаса и Шершня всенародно записали в мученики и политзаключенные. Глупо было бы считать, что левые так просто забудут их подвиги. За них вступились радикалы и еще куча одиноких общественных защитников. Прошла волна статей в прессе, в Москву приехала толпа леваков с Запада. «Левые своих в обиду не дают», - говорили у нас.
Дело докатилось до Страсбургского суда: он признал, что условия, в которых содержатся эти двое, являются нечеловеческими, и обязал государство выплатить каждому компенсацию. Не такую большую, порядка шести зеленых косарей на рыло, но все же.
Строительство нефтепровода заморозили, а потом и окончательно прикрыли. Так что на этот раз анархисты выиграли. Сначала строительство признали незаконным, откуда-то всплыло, что разрешения были получены криминальным путем, а потом его сочли и вовсе не соответствующим экологическим и санитарным нормам. Разгорелся международный скандал. Журналисты на этот раз поддержали левых, раздули это дело до неприличия. К зеленым подтянулся даже «Гринпис», что очень странно. Партия зеленых и «Гринпис» всегда воевали. Не знаю уж, чего они там не поделили.
Нефтяникам ничего не оставалось делать, кроме как прекращать опасное строительство, иначе полетели бы международные контракты.
Леваки, я слышала, отметили это дело с размахом. Разгромили в центре пару дорогих магазинов, подожгли пару дорогих машин. С десяток юных деятелей посреди бела дня на брудершафт обоссали памятник Ленину на Октябрьской площади. Повседневный, обыкновенный панк. Чему тут удивляться?
А потом полгода нефтяная компания «Эльба» и попала под горячую руку государства. Откуда-то просочилась информация о взятках и утаенных налогах. Пару раз в их огромном офисе налоговики устраивали маски-шоу. Половина народа тут же поувольнялась от греха подальше. А после этого государственники и вовсе выкупили контрольный пакет акций «Эльбы». По слухам, заплатив за него смешной процент от стоимости номинала. Видимо, каким-то образом чиновники сумели выломать-таки руки топ-менеджменту и акционерам. Затем всплыла и информация о незаконно приобретенной недвижимости. Главе безопасности предъявили обвинение в организации ряда заказных убийств. Не знаю, фигурировало ли в деле убийство Ника. Ну да какая разница, его все равно не вернешь. Владельцы компании разбежались по странам Запада, кто не успел, тот греет нары, не удивлюсь, если рядом с Шершнем и Кристмасом.
Этот мерзавец успел. Я видела его фото в одном понтовом глянцевом журнале, он распродал недвижимость в России и окончательно перебрался в Лондон. Судя по его виду, он там вполне неплохо себя чувствует. Русские богачи по каким-то причинам любят Лондон. Впрочем, мне бы он тоже понравился.
В газетах писали, что в Великобритании скрывается больше сотни опасных преступников из России. Не знаю, относится ли к ним этот мерзавец. Хотя меня бы уже ничего не удивило.
Моя одноклассница Катька все же решилась подать в суд на отца своего ребенка. Она встретила его в поликлинике. Он сидел напротив, ожидая своей очереди, и смотрел в пол. Даже побоялся заговорить с ней. Катька смотрела на него и смеялась. У нее на руках сидел их общий сын. Отец так на него ни разу и не взглянул.
- Какой же он все-таки жалкий, - сказала Катька. – В суд что ли на него подать?
Поначалу она боялась, но все оказалось достаточно легко. Его обязали выплачивать алименты до самого восемнадцатилетия их сына.
- Я бы не решилась, - признавалась Катька, - если бы меня вдруг не уволили. Причем так по-подлому, пока я была в отпуске. Деваться было некуда.
Я сказала, что она все сделала правильно и вовремя.
Она хмыкнула.
Сказала, что не испытала никакой радости от встречи со своим бывшим.
Я же говорила, все как в «Старухе Изергиль».
Ну их на фиг, бывших возлюбленных и вообще все это несчастное прошлое.
Вот уж вправду – как с покойниками.
Катькин мальчик растет и с каждым днем становится все забавнее. Иногда я гуляю вместе с Катькой и ее сыном в парке. Я смотрю на него и хохочу до колик в животе. Он падает в грязь и лопочет, коверкая слова. Дети – смешные. Живут настоящим моментом. С ними понимаешь цену жизни.
Моя лучшая подруга стала доктором математических наук. Она так и живет в той далекой, волшебной и теплой стране, из которой много лет назад я сбежала, как сбежала до этого и из Москвы. Каждый раз она спрашивает меня, как я могу жить в этой России? Как-как, отвечаю я. Мне проще. Рылом вышла. Я ведь не лицо кавказской национальности. Так что вот… живу.
Выздоровевшие больные несут нам цветы, конфеты, выпивку и деньги.
Мы пьем коньяк с хирургами, вино с медсестрами, пиво с практикантами.
Когда мне надоедает пить в коллегами, я, в нарушение неписаной врачебной этики, тайком ухожу пить с больными. Больные попадаются разные. От обнищавших рэперов – до авторитетов. От звезд шоу-бизнеса – до беженцев и цыганок. В операционной они все одинаково беззащитны. А мы, врачи, одинаково циничны. Но есть в этом своя романтика.
С Аленой, Даней, Ромкой и Андрюхой, но теперь уже без Васи, мы гоняем летом на роликах. Ходим на концерты. Взрываем хлопушки, сыплем друг на друга конфетти, пьем шампанское из горла на ходу и падаем спиной в фонтаны. Зимой мы лепим снежных баб и дедов с огромной грудью и членами. Играем в снежки. Валим друг друга в сугробы. Катаемся на коньках и сноуборде.
Незнакомые бабушки в метро снова дают мне шестнадцать.
2007 - 2010
