Серия «Планы на Будущее»
Марка серии — рисунок Д. Бурлюка. 1914
Макет Н. Гутовой
Общая редакция С. Кудрявцева
Перевод сделан по изданию: Comité invisible. À nos amis. Paris: La Fabrique éditions, 2014
Издательство и переводчик благодарят Степана Михайленко за помощь в подготовке книги
На обложке — фото, сделанное в 2012 г. в Мельбурне, Австралия
Корректор: Наталья Солнцева
Вёрстка: Марина Гришина
Невидимый комитет
Нашим друзьям
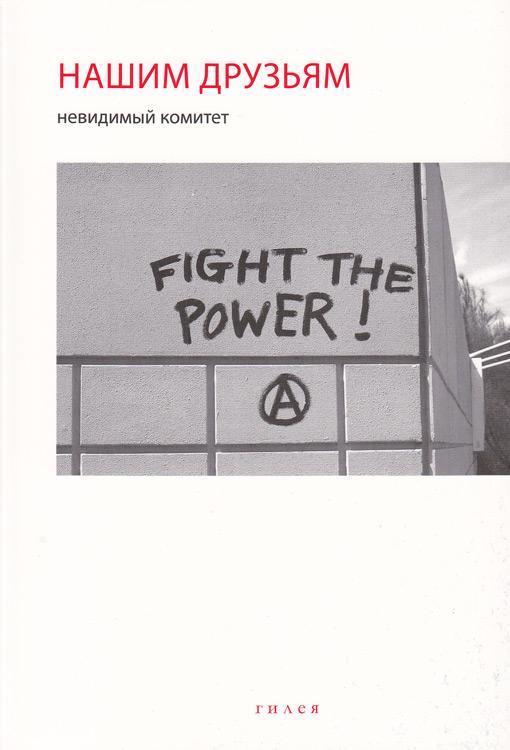
Merry crisis and happy new fear
1. Кризис — это способ управления
2. Настоящая катастрофа — это катастрофа экзистенциальная и метафизическая
Они хотят заставить нас управлять, но мы на эту провокацию не поддадимся
1. Характер современных восстаний
2. Демократических восстаний не бывает
3. Демократия — управление в чистом виде
Власть — это логистика. Заблокируем всё!
1. Теперь власть закреплена в инфраструктуре
2. О различии между организацией и самоорганизацией
1. Не существует «Facebook-революций», есть лишь новая наука управления, кибернетика
2. Пацифисты и радикалы — адское сочетание
3. Управление как противоповстанческая мера
4. Онтологическая асимметрия и счастье
Единственная наша родина: детство
1. Не существует «общества», которое нужно защитить или уничтожить
2. Отбор нужно заменить на отделение
3. Не существует «боёв местного значения», есть только войны миров
Today Libya, tomorrow Wall Street
2. Избавиться от тяги к местному.
Билли, Гуччо, Алексису и Джереми Хэммонду,
стало быть,
* * * * *
«Нет другого мира. Есть просто
другой уклад жизни».
Жак Месрин
* * * * *
Наконец пришло время восстаний. Начиная с 2008 года они вспыхивают с такой частотой и в стольких странах, что кажется, будто вся структура этого мира распадается на части. Десять лет назад прогнозы восстания вызывали насмешки у людей, которые твёрдо стояли на ногах; теперь же за дураков держат тех, кто прочит восстановление порядка. Нет ничего устойчивее, ничего долговечнее, твердили нам, чем Тунис под управлением Бен Али, деловитая эрдогановская Турция, социал-демократическая Швеция, баасистская Сирия, накачанный транквилизаторами Квебек или Бразилия со своими пляжами, пособиями Bolsa Familia[1] и миротворческими полицейскими отрядами. Все мы знаем, что произошло потом. От стабильности не осталось и следа. Да и политики теперь дважды подумают, прежде чем присудить какой-либо стране тройное A{1}.
Восстание может разразиться в любое мгновение, по любому поводу, в любой стране; оно может привести к чему угодно. Государственные деятели ходят по краю пропасти. Похоже, они боятся даже собственной тени. ¡Que se vayan todos![2] — так звучал лозунг, ставший теперь народной мудростью, генерал-басом этой эпохи, ропотом, что прокатился по толпе, а затем вдруг, в самый неожиданный момент, взвился, как топор, над головами. Самые ушлые политики даже выдвинули этот лозунг в качестве предвыборного обещания. Другого варианта у них нет. Безнадёжное отвращение, откровенный негативизм, абсолютное отрицание — вот единственные распознаваемые силы в сегодняшней политике.
Пришло время восстаний, но не время революций. Редко доводилось видеть нечто подобное событиям, произошедшим в последние годы, когда повсюду, от Греции до Исландии, повстанцы в такой короткий срок брали штурмом такое количество правительственных зданий. Захватить площадь в самом центре города, разбить палаточный лагерь, соорудить баррикады, походные кухни или бытовки и проводить там собрания — вскоре эти действия станут таким же естественным политическим рефлексом, каким вчера были забастовки. Кажется, сама эпоха теперь вырабатывает собственные шаблоны: взять хотя бы All Cops Are Bastards (ACAB)[3] — фразу, которую при каждом всплеске возмущения некий причудливый интернационал пишет на стенах во всех городах от Каира до Стамбула, от Рима до Парижа или Рио-де-Жанейро.
Но как бы ни нарастало напряжение под нашим небом, революция повсюду будто задыхается на стадии протеста. В лучшем случае происходит смена режима, которая ненадолго утоляет желание изменить мир, а затем снова вызывает неудовлетворение. В худшем — революция служит трамплином для тех, кто, шагая под её же знаменем, только и думает о том, как бы её подавить. Кое—где, например во Франции, отсутствие уверенных в себе революционных сил открывает путь тем, кто профессионально симулирует как раз—таки уверенность в себе и выставляет её напоказ: фашистам. Беспомощность приводит к озлобленности.
Придётся признать, что мы, революционеры, потерпели поражение. Не потому, что с 2008 года революция как конечная цель так и осталась для нас недостижимой, а потому, что нас постоянно лишали самого процесса революции. Проиграв, можно возненавидеть целый мир и найти разнообразные объяснения и даже научные обоснования для тысячи несправедливостей, а можно задуматься о наших внутренних рычагах, которыми пользуется враг и которые определяют неслучайный, закономерный характер наших неудач. Быть может, нам стоит взглянуть, например, на пережитки левизны в революционной среде, обрекающие её не только на поражение, но и на почти всеобщую неприязнь. Известные притязания на нравственное превосходство, которое оказалось революционерам не по зубам, — вот одна из причуд, унаследованных от левых. Равно как и неоправданное стремление навязать окружающим правила жизни по-настоящему прогрессивные, просвещённые, современные, верные, разложенные по полочкам, безупречные. Стремление это вызывает мысль об убийстве у всякого, кого без предупреждения отбрасывают в лагерь реакционеров-консерваторов-мракобесов-узколобых-неотёсанных-отсталых. Неистовое соперничество революционеров с левыми не отталкивает их друг от друга, а наоборот, удерживает на одной территории. Пора отдать швартовы!
После «Грядущего восстания»{2} нас повлекло туда, где полыхала эпоха. Мы читали, мы боролись, мы говорили с товарищами из разных стран и из групп разных направлений, и вместе с ними мы натолкнулись на невидимые препятствия этих времён. Некоторые из нас погибли, другие оказались в тюрьме. Мы не сдались. Мы не перестали строить новые миры и обрушивать удары на старый миропорядок. Из путешествий мы возвращались с уверенностью в том, что наши протесты — отнюдь не беспорядочные, единичные, бессвязные события, каковые ещё только предстоит соединить. Так выглядит лишь спектакль, который разыгрывают в реальном времени СМИ, намеренно управляя общественным сознанием. Так выглядят противоповстанческие меры, действующие даже на этой низшей стадии. Мы стали очевидцами не каких-то разрозненных акций протеста, а единой мировой волны восстаний, неуловимо сообщающихся друг с другом. Всемирного желания объединиться, единственным объяснением которого может быть всемирная обособленность. Всеобщей ненависти к полиции, свидетельствующей о разумном отказе от всеобщей раздробленности, за поддержанием которой эта полиция следит. Повсюду считывается неизменная тревога, глубинная паника, сопровождаемая приливами чувства собственного достоинства, а вовсе не возмущения. То, что происходит в мире с 2008 года, отнюдь не беспорядочная россыпь абсурдных вспышек, возникающих в герметичных национальных пространствах. Это — целостная историческая последовательность, везде, от Греции до Чили, выстроенная по законам единства времени и места. И лишь чёткий глобальный взгляд способен охватить истинное значение происходящего. Нельзя позволить, чтобы у одних лишь капиталистических think tanks[4] был доступ к прикладным аспектам этой закономерности.
Любое, даже самое незначительное местное восстание распространяется вовне, изначально заключая в себе нечто глобальное. Оно поднимает нас всех до уровня эпохи. Но эпоха — это ещё и то, что можно почувствовать у себя внутри, стоит лишь погрузиться вглубь сознания, прислушиваясь к переживаниям, улавливая зрительные образы, эмоции и ощущения. Там вырабатывается метод познания и принцип действия; там же кроется объяснение невидимой связи между чистой политической силой уличных боёв и подлинным самосознанием одиночки. Эпоху следует искать внутри каждой ситуации и каждого человека. Именно там «мы» встречаемся, находим настоящих друзей, разбросанных по свету, но идущих вместе.
Конспирологи — это контрреволюционеры хотя бы потому, что они признают право на конспирацию только за власть имущими. И если по всей очевидности сильные мира сего устраивают заговор, пытаясь сохранить свои позиции, то не менее очевидно, что заговоры замышляются повсюду: в коридорах зданий, у кофейных автоматов, за палатками шаурмы, на захваченных территориях, в мастерских, во дворах, на вечеринках, в любовных историях. И все эти связи, все эти разговоры, все эти дружеские встречи сплетаются, точно капилляры, расходясь по миру, образуя действующую историческую партию — «нашу партию», как говорил Маркс. Несомненно, объективной конспирации мироустройства противостоит рассеянная конспирация, в которую мы напрямую вовлечены. Но самая большая неразбериха царит среди нас. На каждом шагу наша партия сталкивается с собственным идеологическим наследием; она запутывается в сплошной сети опроверженных и поверженных революционных традиций, которые всё ещё требуют уважения. Однако стратегическое мышление зарождается в сердце, а не в голове, и ошибка идеологии состоит как раз в том, что она отделяет мысль от сердца. Иными словами, нам нужно выломать дверь там, где мы уже оказались. Единственная партия, которую необходимо создать, — это уже существующая партия. Мы должны избавиться от всего мыслительного хлама, мешающего нам отчётливо осознать нашу общую ситуацию, нашу «общую наземность», цитируя Грамши. Наследство нам досталось без завещания.
Действенность броской формулы «Нас 99%»{3} — как и любого другого рекламного лозунга — заключается не в том, что́ она сообщает, а в том, чего она не сообщает. Не сообщает она ничего о личности 1% власть имущих. Этот 1% отличает не богатство — в Америке богатых людей больше 1%, и не известность — они, скорее, держатся в тени, да и кто в наши дни не имеет права на свои пятнадцать минут славы? Отличает их прежде всего то, что они организованы. Они организовывают свои действия, чтобы организовать жизнь окружающих. Реальность этого лозунга довольно сурова, и число здесь ни при чём: можно быть одним из 99% и жить в полном подчинении. И наоборот, массовые погромы в Тоттенхэме весьма наглядно доказывают, что из нищеты можно выбраться, организовав свою жизнь. Между толпой нищих и толпой нищих, готовых действовать сообща, есть большая разница.
«Организоваться» никогда не значило вступить в единую организацию. Организоваться — это действовать сообразно с общим восприятием на всех уровнях. И недостающий элемент здесь вовсе не «народный гнев» или лишения, не решимость активистов, не расширение критического сознания и даже не увеличение числа анархистских выступлений. Единственное, чего нам не хватает, — это общего восприятия ситуации. Без такого цементирующего вещества все выступления бесследно растворяются в небытии, жизнь становится похожей на сон, а восстания превращаются в материал для школьных учебников.
Каждодневный новостной поток — тревожный для одних, крайне возмутительный для других — формирует наше представление об этом, в общем-то, непонятном мире. Его хаотичный ритм и есть тот туман войны, в котором он становится неуязвимым. Но именно благодаря его неуправляемости им на самом деле можно управлять. В этом-то и вся хитрость. Превратив кризисные меры в способ управления, капитализм не просто вытеснил культ прогресса и заменил его угрозой катастрофы, а присвоил себе всю сегодняшнюю стратегическую информацию, общую оценку текущих операций. И с этим следует бороться. В вопросах стратегии для нас важно на два шага опережать мировые власти. Нет никакого «кризиса», из которого нужно искать выход. Есть война, в которой нужно одержать победу.
Всеобщее понимание ситуации складывается не из одного текста, а из международных дискуссий. Для того чтобы дискуссия состоялась, необходимы высказывания. И это одно из них. Мы подчинили традицию и революционные позиции стандартам исторической конъюнктуры и попытались обрезать тысячи воображаемых нитей, удерживающих революционного Гулливера на земле. Мы наощупь искали ходы, манёвры, мысли, которые бы позволили нам выбраться из сегодняшнего тупика. Не существует революционного движения без языка, способного описать наше нынешнее положение и в то же время обозначить его потенциальный разлом. И вот наш вклад в создание такого языка. С этой целью наш текст публикуется одновременно на восьми языках и на четырёх континентах. Если мы — везде, если имя нам легион, то отныне нам нужно организоваться, сплотиться всем Миром.
Merry crisis and happy new fear[5]
1. Кризис — это способ управления
Из нас, революционеров, современная история сделала полных дураков. И так или иначе, мы до сих пор сами же потакаем этому одурачиванию. Сей факт вызывает болезненные ощущения, и потому его принято отрицать. Мы слепо верили в кризис — так слепо и так давно, что не заметили, как неолиберальный режим превратил эту веру в своё основное оружие. Подводя итоги 1848 года‚ Маркс писал: «Новая революция возможна лишь вслед за новым кризисом. Но наступление её так же неизбежно, как и наступление этого последнего»{4}. Собственно, остаток жизни он провёл в ожидании масштабного, бесповоротного кризиса капитала, предвещая его при каждой судороге всемирной экономики, но так его и не дождавшись. И сейчас есть ещё марксисты, выдающие нынешний кризис за “The Big One”[6] в попытке заставить нас считать дни до наступления их занятной версии Судного дня.
«Если хочешь добиться перемен, — советовал Милтон Фридман своим Чикаго-бойз, — спровоцируй кризис». Капитализм не только не опасается кризисов, но теперь даже взялся за их опытное производство. Точно так же вызывают лавины, чтобы контролировать их силу и время возникновения. Точно так же сжигают поля, чтобы, устранив горючий материал, остановить надвигающийся пожар. «Где и когда» вопрос возможности или тактической необходимости. Общеизвестно, что с момента вступления в должность в 2010 году директор Греческой статистической службы постоянно подтасовывал экономические показатели, преувеличивая государственные долги, чтобы оправдать вмешательство «тройки»{5}. Очевидно, «кризис государственного долга» был самоличной заслугой одного человека, который в ту пору ещё получал официальную зарплату от МВФ — организации, призванной «помогать» странам в кризисной ситуации. Так в европейской стране был в натуральную величину проведён неолиберальный эксперимент по полной реорганизации общества для оценки действенности правильной политики «структурного регулирования».
Кризис — с присущим этому слову медицинским оттенком — воспринимался на всём современном этапе как некое внезапное или цикличное естественное явление, которое требует срочного решения, способного упразднить общую нестабильность критической ситуации. Результат мог быть удачным или нет, в зависимости от эффективности лечения. Критический момент был также моментом критики — коротким временны́м промежутком, допускающим спор о симптомах и о методах лечения. Теперь же всё совсем не так. Лечение больше не выводит нас из кризиса. Наоборот, кризис вызывается ради лечения. Отныне «кризисом» называют всё, что намереваются реорганизовать, точно так же, как «террористами» зовут всех, кого собираются убить. В 2005 году «кризис пригородов»{6} во Франции послужил поводом для самой значительной градостроительной кампании из всех, что были проведены под непосредственным управлением министерства внутренних дел за последние тридцать лет.
В устах неолибералов кризис превратился в двойной стандарт. Впрочем, сами они предпочитают термин «двойственная истина». С одной стороны, кризис — это живительное мгновение «созидательного разрушения», открывающее возможности, порождающее новаторство, предоставляющее шансы предпринимателям, среди которых выживут лишь лучшие, самые целеустремлённые, самые конкурентоспособные. «Возможно, в этом-то и проявляется суть капитализма: “созидательное разрушение”, отказ от устаревших технологий и вчерашних производственных процессов в пользу новых — вот единственный способ повысить уровень жизни <…>. Капитализм провоцирует конфликт в каждом из нас. Мы по очереди играем роль напористого предпринимателя и роль лежебоки, втайне мечтающего о менее соревновательной и менее жёсткой экономике, при которой у всех были бы одинаковые доходы», — пишет Алан Гринспен, занимавший с 1987 по 2006 год должность председателя Федеральной резервной системы США{7}. С другой стороны, кризисный дискурс используется в качестве политической методики управления населением. Непрерывная реорганизация всего, от схем управления до программ социальной помощи, от предприятий до городских районов — это единственный способ обеспечить постоянное уничтожение среды существования и, следовательно, перекрыть кислород оппозиции. Риторика изменений позволяет ломать все привычки, разрушать все связи, сводить к нулю всякую уверенность, подрывать солидарность, поддерживать хроническую экзистенциальную нестабильность. Она соответствует стратегии, которую можно сформулировать следующим образом: «Создавая условия для непрекращающегося кризиса, предотвратить любой действительный кризис». В повседневной жизни эта тактика выражается в пресловутом противоповстанческом принципе «дестабилизации с целью стабилизации», который заключается в том, что власти умышленно провоцируют хаос, чтобы порядок стал более востребованным, чем революция. Как в микроменеджменте, так и в управлении целыми странами устойчивое шоковое состояние населения гарантирует упадок сил, разобщённость, и в итоге с каждым человеком по отдельности и со всеми вместе можно делать почти всё что угодно. Массовая депрессия, в данный момент охватившая Грецию, — это запланированный результат политических решений «тройки», а вовсе не их побочный эффект.
Некоторые так и не поняли, что «кризис» был не экономическим явлением, а политической мерой правительства, и они превратились в посмешище, второпях объявив на гребне кредитного жульничества о «смерти неолиберализма». Мы переживаем не кризис капитализма, а триумф кризисного капитализма. «Кризис» означает, что меры правления ужесточаются. Кризис стал ultima ratio[7] властей. Наша эпоха соизмеряла всё с отсталостью прошлого, от которого она нас якобы спасла; теперь же мерилом всему служит приближающаяся катастрофа. Зарплаты греческих служащих урезали в два раза, приведя аргумент, что им вообще могли ничего не платить. Каждый раз, когда во Франции увеличиваются сроки выхода на пенсию, то в оправдание звучит довод о «спасении пенсионной системы». Сегодняшний постоянный и всесторонний кризис слишком далёк от кризиса в классическом понимании, от решающего момента. Теперь кризис это конец без конца, затянувшийся апокалипсис, извечная, по-новому эффективная отсрочка действительной катастрофы и, соответственно, постоянное чрезвычайное положение. В нынешнем кризисе нет места обещаниям, наоборот, он снимает с властей все ограничения на используемые методы.
2. Настоящая катастрофа — это катастрофа экзистенциальная и метафизическая
Все эпохи тщеславны. Каждая хочет казаться неповторимой. Наше время намерено войти в историю как столкновение между экологическим кризисом планетарного масштаба, всеобщим политическим кризисом демократических систем и неотвратимым энергетическим кризисом, увенчан всё это вялотекущим, но зато «беспрецедентным для последнего столетия» экономическим спадом. Такие перспективы льстят, усиливают чувство удовлетворения от жизни в столь уникальную эпоху. Достаточно лишь пролистать газеты 1970-х годов, прочитать отчёт Римского клуба от 1972 года о «Пределах роста», статью кибернетика Грегори Бейтсона о «Корнях экологического кризиса», написанную в марте 1970 года, или доклад Трёхсторонней комиссии О «Кризисе демократии», опубликованный в 1975 году, чтобы убедиться в том, что мы живём под мрачным светилом тотального кризиса по меньшей мере с начала семидесятых годов. Довольно здравый анализ ситуации можно найти ещё в тексте Джорджо Чезарано «Апокалипсис и революция», опубликованном в 1972 году. Если когда-то седьмую печать и сняли, то произошло это явно не вчера.
В конце 2012 года совершенно официальная организация Центр по контролю и профилактике заболеваний США для разнообразия выпустила комикс под названием “Preparedness 101: Zombie apocalypse”[8]. Посыл прост: население должно подготовиться к любым обстоятельствам — к ядерной или природной катастрофе, ко всеобщему сбою системы или к восстанию. Материал заканчивался таким выводом: «Если вы готовы к апокалипсису зомби, то вы готовы к любому чрезвычайному происшествию». Образ зомби заимствован из гаитянской традиции вуду. В американском кино тьмы восставших зомби — это излюбленная аллегория всеобщего восстания чернокожего пролетариата. Вот, значит, к чему нужно быть готовым. Теперь, когда больше нет советской угрозы, обеспечивающей психопатическую сплочённость граждан, сгодится что угодно, лишь бы население всегда было готово защищаться, а точнее — защищать систему. Необходимо поддерживать состояние бесконечного ужаса, чтобы предотвратить ужасный конец.
В этом официальном комиксе отражены все стороны западного ложного сознания. Очевидно, что настоящие живые мертвецы — это мелкая буржуазия из американских suburbs[9] Очевидно, что банальное стремление к выживанию, экономический страх перед повсеместным дефицитом, осознание абсолютной невыносимости принятого образа жизни возникают не только после катастрофы: всё это уже сейчас сопровождает безнадежную struggle for life[10] каждого человека, живущего при неолиберальном режиме. Разрушенная жизнь — это не угроза, а нечто, что уже происходит изо дня в день. Все это видят, все это знают, все это чувствуют. Walking Dead[11] — это salary men[12]. Наша эпоха бредит апокалипсическими сценариями, составляющими добрую половину кинематографической продукции, не только из-за эстетического наслаждения, уместного в рамках данного развлекательного жанра. В общем-то даже Откровение Иоанна Богослова вполне соответствует канонам голливудской фантасмагории со всеми этими воздушными налётами свирепых ангелов, небывалыми наводнениями, зрелищными бедствиями. Только вселенская разруха, гибель целого мира может хотя бы отчасти вернуть к жизни офисного работника, самого неживого существа из всех. «Скорей бы уже конец!» и «Пусть это длится вечно!» — вот два вздоха, которые по очереди доносятся от одной и той же изнемогающей цивилизации. Сюда примешивается ещё и старый кальвинистский привкус умерщвлённой плоти: жизнь — отсрочка приговора, в ней не может быть полноты. Разговоры о «европейском нигилизме» возникли неспроста. В самом деле, этот товар так хорошо экспортировался, что в мире наступило перенасыщение. Что же до «неолиберальной глобализации», то получили мы в основном глобализацию нигилизма.
В 2007 году мы писали, что «проблема, стоящая перед нами, — не в кризисе общества, а в угасании цивилизации»{8}. В те времена после подобного заявления можно было прослыть визионером. Но «кризис» развился именно в предсказанном направлении. И даже ATTAK{9} признаёт «кризис цивилизации», что уже говорит о многом. Дальше — больше: американский ветеран войны в Ираке, ставший советником по «стратегии», писал осенью 2013 года в New York Times: «Сейчас, когда я задумываюсь о будущем, я представляю, как морские волны обрушиваются на Нижний Манхэттен. Я вижу голодные бунты, ураганы и толпы климатических беженцев. Я вижу солдат 82-го воздушно-десантного полка‚ стреляющих в мародёров. Я вижу повсеместные электрические сбои, порты, превратившиеся в развалины, отходы с Фукусимы и эпидемии. Я вижу Багдад. Я вижу затопленный Рокавейский полуостров. Я вижу чужой и опасный мир. <…> Главная проблема климатических изменений вовсе не в том, как Министерство обороны готовится к войне за ресурсы, и не в том, какие дамбы нужно строить для защиты Алфабет-сити‚ и не в том, когда следует эвакуировать Хобокен{10}. Проблему эту не решить покупкой гибридного автомобиля, подписанием соглашений или выключением кондиционера. К самой серьёзной проблеме нужно подходить с философской стороны: необходимо понять, что наша цивилизация уже погибла». По окончании Первой мировой войны её стали называть «смертной» — каковой она бесспорно и была во всех смыслах этого слова.
На деле клиническая диагностика конца западной цивилизации была проведена ещё сто лет назад, и последующие события лишь подтвердили поставленный диагноз. С тех пор все пересуды об этом лишь жалкие попытки отвлечься. Отвлечься прежде всего от уже наступившей, причём довольно давно, катастрофы, от катастрофы, в которую превратились мы сами, от катастрофы, которой стал Запад. Это в первую очередь экзистенциальная, эмоциональная, метафизическая катастрофа. Она заключается в невероятной отчуждённости западного человека от мира, заставляющей его, к примеру, распоряжаться и повелевать природой — а ведь властвовать мы стремимся лишь над тем, что внушает нам страх. Недаром человек отгородился от мира таким количеством экранов. Обособившись от всего сущего, западный человек превратил жизнь в унылое пространство, в мрачное, враждебное, механическое, абсурдное небытие, которое он непрестанно вынужден переворачивать вверх дном посредством собственного труда, канцерогенного активизма, поверхностной, истерической суеты. Его без конца бросает от эйфории к отупению, от отупения к эйфории, и он пытается компенсировать свою непричастность к миру, собирая всевозможные квалификации, протезы, связи, неиссякаемые технологические побрякушки, в итоге не приносящие ничего, кроме разочарования. Он на глазах становится эдаким переоснащённым экзистенциалистом, без устали что-то сооружающим, переоборудующим‚ не желающим терпеть реальность, с котором он не в силах совладать. «Чтобы понять мир, — прямым текстом заявлял этот придурок Камю, — человек должен свести его к человеческому, наложить на него свою печать»{11}. Западный человек просто-напросто пытается приукрасить свой развод с существованием, с самим собой, с «окружающими» — весь этот ад! — называя его «свободой» или же забываясь на тоскливых вечеринках, в Идиотских развлечениях и в лошадиных дозах наркотиков. Настоящая, эмоциональная жизнь для него не существует, поскольку ему противно жить; на самом деле от жизни его тошнит. Ему удалось закрыться от всего самого неустойчивого, неустранимого, осязаемого, телесного, тяжёлого, жаркого и утомительного, что только есть в реальности, перенеся эти силы в воображаемое, визуальное, удалённое, цифровое пространство Интернета, в котором нет ни трения, ни слёз, ни смерти, ни запаха.
Фальшь западных апокалипсических пророчеств — в том, что они приписывают нам такой траур по миру, на который мы не способны. Не сам мир пропал, а мы его потеряли и теряем до сих пор; не его Ждёт скорый конец, а с нами покончено, нас отрезало, отбросило, именно мы, как в бреду, разрываем все жизненные связи с реальностью. Это не экономический, не экологический и не политический кризис, это прежде всего кризис присутствия. Дошло до того, что потребительский must[13] — традиционный iPhone или «хаммер» — разработан на основе замысловатого технического принципа отсутствия. С одной стороны, iPhone сосредоточивает в одном аппарате все приспособления для контакта с миром и с окружающими людьми: это и фонарь, и фотоаппарат, и ватерпас, и музыкальное звукозаписываёющее устройство, и телевизор, и компас, и путеводитель, и средство связи; с другой стороны — это протез, отрезающий любой доступ к действительности, удерживающий человека в режиме непрерывного, удобного полуприсутствия и произвольно контролирующий часть его реальности. Недавно даже появилось приложение для смартфонов, которое помогает решить проблему «круглосуточной связи с виртуальным миром, изолирующей нас от реального мира». Приложение вышло под милейшим названием «GPS for the Soul»[14]. А «хаммер», в свою очередь, — это возможность перевезти свой аутистский замкнутый мирок, защиту от всего на свете в самые труднодоступные уголки «природы» и вернуться оттуда в сохранности. Тот факт, что своей новой производственной перспективой компания Google назвала «борьбу со смертью», лишь доказывает, как мало мы понимаем в жизни.
На последней стадии слабоумия Человек даже возомнил себя «геологической силой»; он докатился до того, что назвал одну из фаз планетарной эволюции в честь своего рода — «антропоценом». Последний раз он хватается за главную роль, и пусть теперь ему придётся корить себя за испоганенную окружающую среду — море, небо, сушу и недра земли — пусть теперь он пеняет на себя за неслыханное истребление растений и животных. Примечательно, однако, что он по-прежнему продолжает разрушительно воздействовать на мир, хотя именно эти разрушительные действия и привели к разрухе. Он вычисляет скорость таяния ледников. Он измеряет результаты уничтожения нечеловеческих форм жизни. Об изменении климата он судит не по собственным эмпирическим наблюдениям — такая-то птица перестала прилетать в определённый период, такое-то насекомое больше не стрекочет, такое-то растение не зацветает в одно время с другим — нет, он оперирует цифрами, средними показателями, научными данными. Он думает, что есть какой-то смысл в его выводах о повышении температуры на столько-то градусов или о сокращении количества осадков на столько-то миллиметров. Он даже принялся рассуждать о «биологическом разнообразии». Он следит за увяданием земной жизни из космоса. Захлёбываясь от гордыни, он теперь с отеческой снисходительностью «охраняет окружающую Среду», которая его об этом, в общем-то, и не просила. Всё это похоже на последний, безнадёжный бросок.
Объективные бедствия служат прикрытием прежде всего для иной катастрофы, ещё более очевидной и масштабной. Истощение природных ресурсов, возможно, зашло не так далеко, как истощение личностных, жизненных ресурсов, постигшее наших современников. Мы так смакуем подробности уничтожения окружающей среды ещё и для того, чтобы скрыть ошеломляющие развалины, нагромождённые у нас внутри. Каждый нефтеразлив, каждая бесплодная долина, каждый исчезнувший вид — это образ наших душ, превратившихся в лохмотья, отражение нашего отсутствия в этом мире, нашей сущностной неспособности в нём жить. Фукусима иллюстрирует полный провал человека и его господства, порождающего лишь руины и эти, казалось бы, нетронутые японские долины, где ещё десятки лет никто не сможет жить. Вечное разложение, решительно превращающее мир в необитаемое место: в конце концов Запад уподобит свой образ жизни тому, чего он больше всего боится, — радиоактивным отходам.
Когда спрашиваешь у самых ярых левых активистов, в чём смысл революции, они не задумываясь отвечают: «Сделать человека центром Вселенной». Чего эти левые не осознают, так это того, насколько мир устал от человека, насколько мы устали от человечества — этого вида, возомнившего себя венцом творения, считающего себя вправе разгромить всё вокруг, потому что ему, дескать, всё принадлежит. «Сделать человека центром Вселенной» — такова была западная Идея. Все мы знаем, что получилось в итоге. Пришло время бежать с корабля, предав человеческий род. Нет такой большой человеческой семьи, которая смогла бы жить отдельно от всех миров, всех известных вселенных, всех форм жизни, разбросанных по земле. Нет человечества, а есть лишь земляне и их враги все жители Запада, независимо от цвета их кожи. Нам, рёволюционерам, с нашим атавистическим гуманизмом, стоило бы почаще обращать внимание на мятежи коренных жителей Центральной и Южной Америки, вспыхивающие один за другим вот уже двадцать лет. Их девизом могла бы стать фраза: «Сделать землю Центром Вселенной». Это — война, объявленная Человеку. Быть может, объявив ему войну, удастся вернуть его на землю, если только он, по своему обыкновению, не притворится глухим.
3. Апокалипсис разочаровывает
21 декабря 2012 года по меньшей мере 300 журналистов из 18 стран заполонили деревушку Бюгараш во французском департаменте Од. Ни в одном ныне известном календаре майя никакого конца света на тот день не намечалось. Слух о том, что эта деревня имеет какое-то отношение к несуществующему пророчеству, был, разумеется, уткой. И тем не менее телевизионные каналы со всего мира отправили туда армады репортёров. Всем хотелось посмотреть, найдутся ли ещё люди, действительно верящие в конец света, если и в сам свет мы больше не верим, если мы едва ли в силах поверить в собственную любовь. В тот день в Бюгараше не было никого — никого, кроме бесчисленных участников этого спектакля. Журналистам пришлось снимать сюжеты друг о друге, о бесцельном ожидании, о скуке и о том, как ровным счётом ничего не происходило. Попавшись в собственную-ловушку‚ они являли собой зрелище, на самом деле напоминающее конец света: журналисты, ожидание, несостоявшиеся события.
Нельзя недооценивать апокалипсическую горячку, исступлённое предвкушение Армагеддона, пропитавшее нашу эпоху. Её экзистенциально-порнографическая коллекция состоит из пророческих документальных фильмов, демонстрирующих при помощи спецэффектов, как в 2075 году полчища саранчи истребят виноградники Бордо, а южные берега Европы захватят толпы «климатических мигрантов» — тех самых, которых Фронтекс{12} уже сейчас усиленно старается уничтожить. Конец света безнадёжно стар. Ещё со времён ранней античности апокалипсические страсти бурлили в умах бесправного народа. С тех пор ничего не изменилось, разве что в наше время апокалипсис полностью растворился в капитализме, перейдя к нему в подчинение. Перспектива катастрофы — вот рычаг, при помощи которого нами сегодня управляют. Хотя если и есть что-то, чему не суждено сбыться, так это предсказание конца света, будь он экономическим, климатическим, террористическим или атомным. О нём возвещают лишь затем, чтобы призвать к мерам по его предотвращению, то есть зачастую чтобы обосновать необходимость управления. Ни одна политическая или религиозная организация ни разу не признала поражение лишь ввиду того, что факты опровергли её прогнозы. Ведь прогнозы нужны не затем, чтобы оправдываться в будущем, а затем, чтобы влиять на настоящее: здесь и сейчас навязать ожидание, бездействие, подчинение.
Нет никакой надвигающейся катастрофы, есть лишь та, что уже произошла. Притом совершенно ясно, что большинство фактических бедствий предоставляют нам возможность спастись от бедствия повседневности. Множество примеров свидетельствуют об избавлении от экзистенциального апокалипсиса, которое приносит настоящая катастрофа: будь то подземные толчки в Сан-Франциско в 1906 году или ураган «Сэнди», обрушившийся на Нью-Йорк в 2012-м. Мы склонны полагать, что в экстренной ситуации взаимоотношения между людьми обнажают глубинное, неискоренимое человеческое зверство. Мы желаем, чтобы каждый разрушительный подземный толчок, каждый экономический крах и каждый «теракт» подтверждал древнюю химеру естественного состояния и тянущуюся за ней вереницу неконтролируемых бесчинств. Когда рухнут хлипкие запруды цивилизации, мы хотим, чтобы на поверхности оказалась та самая «мерзкая суть человеческая»{13}‚ не дававшая покоя Паскалю, все эти дурные страсти, «человеческая природа» — завистливая, жестокая, слепая и отвратительная, которая чуть ли не со времён Фукидида служит основным доводом власть имущих — но это лишь фантазия, увы, опровергнутая большинством бедствий, известных истории.
Как правило, вымирание цивилизации не выливается в хаотичную войну всех против всех. Во время серьёзной катастрофы подобная воинственная риторика нужна лишь для оправдания первоочередной защиты имущества от мародёрства — силами полиции, армии или, за неимением лучшего, специальных охранных дружин. Она также может служить прикрытием для злоупотребления ситуацией со стороны самих властей, как, например, в истории с итальянской Службой гражданской безопасности после землетрясения в Л’Акуилле{14}. Если принять распад этого мира как данность, то наоборот, открывается путь к новому устройству жизни, в том числе и жизни в «экстренной ситуации». Так, жители Мехико, где в 1985 году произошло сильнейшее землетрясение, возродили на развалинах города революционный карнавал и образ супергероя, спешащего на помощь людям, — легендарного силача Супер Баррио. В эйфорической попытке взять в свои руки городское существование и все его самые что ни на есть бытовые проявления, они провели параллель между крушением, зданий и крахом политической системы, освобождая, по мере возможности, жизнь города от правительственного давления и восстанавливая разрушенные дома. О том же с восторгом говорил и житель Галифакса после урагана 2003 года: «Однажды утром люди проснулись, и всё изменилось. Электричество отключилось, все магазины были закрыты, ни у кого не работали средства связи. И тогда вдруг все собрались на улице, чтобы поговорить и поделиться впечатлениями. Уличным праздником такое не назовёшь, но все одновременно вышли из домов — и было какое-то радостное ощущение от того, что видишь этих людей, хотя ты с ними даже не знаком». Так и жители Нового Орлеана, столкнувшись в первые дни после «Катрины» с бездействием официальных властей и с паранойей спецслужб, стихийно сплотились в небольшие сообщества и каждый день вместе добывали себе пропитание, лекарства и одежду, пусть даже для этого им и пришлось разграбить несколько магазинов.
Пересмотреть революционную идею как нечто, способное нарушить ровный ход бедствия, значит для начала очистить её от накопившегося апокалипсического налёта. Это значит понять, что только в данном вопросе и состоит отличие марксистской эсхатологии от всеохватных имперских притязаний США тех, что и сейчас напечатаны на каждой долларовой купюре: “Annuit coeptis. Novus ordo seclorum”[15]. Социалисты, либералы, сенсимонисты, русские и американцы времён Холодной войны — все они всегда с одинаковой неврастенической одержимостью стремились открыть новую эру, основать царство мира и стерильного благополучия, где больше не будет опасностей, где все противоречия, наконец, разрешатся, а весь негатив исчезнет. Усилиями науки и промышленности будет создано процветающее, полностью автоматизированное и окончательно усмирённое общество. Нечто вроде земного рая, организованного по образцу психиатрической лечебницы или туберкулёзного санатория. Идеал, о котором могут мечтать лишь смертельно больные существа, переставшие даже надеяться на ремиссию. “Heaven is a place where nothing ever happens”[16]‚ — как говорится в песне.
Вся оригинальность и скандальность марксизма сводилась к идее о том, что для вступления в золотой век нам необходимо пережить экономический апокалипсис. Остальные же теоретики считали эту меру излишней. Мы не ждём ни золотого века, ни апокалипсиса. На земле никогда не будет мира. Отказаться от мысли о мире — вот единственный настоящий мир. Перед лицом западной катастрофы левые, как правило, принимаются сетовать и изобличать врагов, расписываясь в собственной беспомощности, которая вызывает презрение даже у тех, кого они предположительно защищают. Чрезвычайное положение, в котором мы живём, не нужно изобличать‚ его нужно направить против самой власти. Тогда мы в свою очередь освободимся от какого бы то ни было почтения к закону — пропорционально степени обретённой безнаказанности и в соответствии с установленными соотношениями сил. Перед нами открывается совершенно свободное пространство для любых решений, любых начинаний, если только они учитывают тонкости ситуации. У нас есть лишь историческое поле битвы и расположенные на нём силы. Простор для действий неограничен. Историческая жизнь протягивает нам руку. Есть множество причин отвернуться от неё, но все они — лишь следствие невроза. Увидев апокалипсис в недавнем фильме о зомби, бывший служащий ООН приходит к такому здравому выводу: «It’s not the end, not even close. If you can fight, fight. Help each other. The war has just begun» — «Это не конец, ничего подобного. Если можете сражаться, сражайтесь. Помогайте друг другу. Это лишь начало войны».
Они хотят заставить нас управлять, но мы на эту провокацию не поддадимся
1. Характер современных восстаний
Умирает человек. Его убивает полиция: напрямую или опосредованно. Это никому не известный человек: безработный, «торгаш»‚ спекулирующий на том и на сём, старшеклассник из Лондона, Сиди—Бузида, Афин или Клиши-су-Буа. Его называют «молоцым человеком», и неважно, сколько ему лет: 16 или 30. Его называют молодым человеком, потому что с точки зрения социума он ничего из себя не представляет и потому что в ту пору, когца быть взрослым означало добиться чего-то в жизни, молоцыми считались как раз те, кто ничего из себя не представлял.
Человек умирает, по стране прокатывается волна возмущения. Первое вовсе не причина второго, а лишь повод для столкновения. Александрос Григоропулос, Марк Дагган, Мохаммед Буазизи, Масиниса Герма — имя погибшего становится в эти дни, в эти недели нарицательным, оно превращается в символ всеобщей безымянности, повсеместного лишения прав{15}. И поначалу восстание — это дело тех, кто ничего из себя не представляет, тех, кто валяет дурака в кафе, на улицах, в жизни, в университете и в Интернете. Оно увлекает за собой любой неустойчивый элемент общества — сперва плебеев, затем мелкую буржуазию — из тех, что в избытке отсеиваются в процессе распада социальной системы. Всё, прослывшее маргинальным, отсталым или бесперспективным, снова оказывается в эпицентре. В Сиди–Бузиде, в Кассерине, в Тале именно «психи», «изгои», «неудачники», «фрики» первыми разнесли весть о смерти их собрата по несчастью. Они взобрались на стулья, на столы, на памятники во всех общественных местах, по всему городу. Их клич взбудоражил всех, кто был готов прислушаться. Вслед за ними в бой вступили старшеклассники — те, кто и не рассчитывает на какую-либо карьеру.
Восстание продолжается несколько дней или несколько месяцев, приводя к краху режима или же к крушению всех надежд на мир в обществе. Само движение оказывается безымянным: нет ни лидеров, ни организации, ни требований, ни программы. Призывы, коли таковые имеются, как будто тонут в отрицании существующего порядка, превращаясь в обрывочные крики: «Прочь!»‚ «Народ требует свержения системы!», «Плевать мы хотели!»‚ “Tayyip, winter is coming”[17]{16}. По телевизору и в радиоэфирах должностные лица штампуют извечные клише: всё это сборище чапульджу{17}, хулиганьё, террористы, повылезавшие неизвестно откуда и наверняка прикормленные иностранными спецслужбами. Среди повстанцев нет подходящего претендента на престол, один только знак вопроса. Восстания поднимают не бедняки, не рабочие, не представители мелкой буржуазии, не массы. Они слишком разнородны, чтобы выдвинуть своего представителя. Нет какой—либо новой революционной единицы, появление которой до сих пор осталось бы незамеченным. Если же речь идёт о «народе», вышедшем на улицу, то это не тот народ, который существовал изначально, — наоборот, это тот народ, которого изначально не было. Не народ провоцирует восстание, а восстание провоцирует появление народа, порождая общий опыт и общее сознание, человеческую материю и язык настоящей жизни, которые ранее были утеряны. Прошедшие революции сулили новую жизнь, современные восстания дают к ней ключи. Объединения каирских экстремистов не были революционными до «революции», они существовали всего лишь как группировки, способные противостоять полиции; и только взяв на себя столь заметную роль во время «революции», они в силу обстоятельств оказались вынуждены поставить перед собой задачи, которые обычно возлагаются на «революционеров».
Это и есть событие: не медийный феномен, сфабрикованный для того, чтобы утопить мятеж в море показных аплодисментов, а реальные встречи, произошедшие на месте. Выглядит это событие далеко не так зрелищно, как «движение» или «революция», но значит оно гораздо больше. Ведь никогда не знаешь, чем может обернуться встреча.
Именно таким образом — на молекулярном уровне, незримо — восстания проникают в жизнь городских кварталов, сообществ, сквотов, «общественных центров», отдельных людей в Бразилии и в Испании, в Чили и в Греции. Не потому, что они запускают некую политическую программу, а потому что они приводят в движение революционное будущее. Ведь всё пережитое оставляет такой яркий след, что, приобретя этот опыт, люди хранят ему верность, держатся вместе, создавая нечто, чего — как теперь становится понятно — им не хватало в прошлой жизни. Если бы после исчезновения с радаров СМИ испанское движение, захватившее площади, не инициировало в кварталах Барселоны и за их пределами целый процесс коллективизации и самоорганизации, то в июне 2014 года не было бы трёхдневных бунтов в предместье Сантс, помешавших сносу сквота «Кан Виес», а затем все жители города не стали бы общими усилиями восстанавливать повреждённое здание. Там была бы лишь горстка сквотеров, протестующих при полном равнодушии публики — против очередного выселения. Здесь формируется вовсе не зародыш «нового общества», не организация, которая окончательно свергнет одну власть, чтобы утвердить на её месте другую, а коллективная сила, которая согласованно и продуманно обрекает власть на бессилие, постепенно срывая все её планы.
Революционеры — это зачастую те люди, для которых революции оказываются самой большой неожиданностью. Но в современных восстаниях есть что-то, что особенно сбивает их с толку: восстания основываются уже не на политических идеологиях, а на этических истинах. Для любого современного человека сочетание этих двух слов звучит как оксюморон. Устанавливать истину должна наука, не так ли? И наука не имеет никакого отношения к нравственным нормам и прочим условностям. В современном представлении Мир находится по одну сторону пропасти, человек — по другую, а язык позволяет перебросить между ними мост. Нас учили, что истина — это незыблемая точка над бездной, постулат, адекватно описывающий Мир. Мы весьма кстати позабыли о длительном пути к познанию, когда вместе с языком нам открывалась и связь с миром. Язык отнюдь не описывает мир, наоборот, он скорее помогает нам его построить. А потому этические истины — это не истины о Мире, а те истины, опираясь на которые, мы в этом мире живём. Эти истины, положения высказанные или подразумеваемые — можно почувствовать, но нельзя доказать. Сжатые кулаки, долгий, молчаливый взгляд, устремлённый в глаза мелкого начальника, — вот Одна из таких истин, ничуть не уступающая яростному выкрику «восставать нужно всегда». Это те истины, которые связывают каждого из нас с самим собой, с окружающей действительностью и друг с другом. Они приводят нас к настоящей общей жизни, к неразлучному, совместному существованию без оглядки на иллюзорные стены нашего Я. Местное население готово рисковать жизнью ради того, чтобы площадь не превратилась в парковку (как, например, в испанском Гамонале), чтобы парк не вырубили под постройку торгового центра (как Гези в Турции), чтобы лесная зона не стала аэропортом (как в Нотр-Дам-де-Ланд), и это происходит прежде всего потому, что всё, что мы любим, всё, что нам дорого, — люди, места или идеи, — всё это тоже часть нас. Наше самоощущение не сводится к некоему Я, проживающему свой срок в физическом теле, которое обтянуто кожей и снабжено комплектом якобы свойственных ему качеств. Когда громят мир, под ударом оказываемся мы сами.
Как бы парадоксально это ни звучало, но даже если этическая истина выражена через отрицание, одно только слово «Нет!» уже прямиком погружает нас в существование. Что не менее парадоксально, индивид практически перестаёт ощущать собственную индивидуальность, и порой одного самоубийства достаточно для того, чтобы вся конструкция общественной лжи разбилась вдребезги. Поступок Мохаммеда Буазизи, совершившего самосожжение перед мэрией города Сиди-Бузид, служит тому ярким доказательством. Взрывная сила этого действия обусловлена его мощнейшим посылом: «Навязанная нам жизнь не стоит того, чтобы жить», «Мы рождены не для того, чтобы терпеть от полиции такие унижения», «Вы можете превратить нас в ничтожества‚ но вы никогда не отнимете у нас ту часть независимости, которая дана всем живым» или же «Посмотрите на нас, мы, жалкие людишки, униженные и едва сводящие концы с концами, мы — выше тех уловок, при помощи которых вы оголтело пытаетесь удержать свою немощную власть». Вот что отчётливо звучало в этом поступке. Если телевизионное интервью Ваиля Гонима, записанное после того, как его задержали «службы», так резко развернуло ситуацию в Египте, то это потому, что сквозь его слёзы пробивалась истина, отзываясь в сердцах людей. Так, в первые недели движения Occupy Wall Street[18] — пока вечные управляющие не сколотили пресловутые «рабочие группы» для подготовки решений, за которые собранию затем оставалось лишь голосовать — образцовым выступлением перед полуторатысячной толпой были слова того парня, однажды сказавшего: “Ні! What’s up? My name is Mike. I’m just a gangster from Harlem. I hate my life. Fuck my boss! Fuck my girlfriend! Fuck the cops! I just wanted to say: I’m happy to be here, with you all” («Привет! Как делишки? Меня зовут Майк. Я простой гангстер из Гарлема. Меня задолбала эта жизнь. К чёрту босса! К чёрту подружку! К чёрту ментов! Я просто хотел сказать: я рад, что оказался здесь, вместе со всеми»). И его слова семь раз повторил хор «человеческих рупоров», которые выполняли функцию микрофонов, запрещённых полицией.
Настоящей идеей Occupy Wall Street были вовсе не требования повышения зарплаты, обеспечения достойным жильём или улучшения условий страхования — их только потом налепили на это движение, как наклейки на бегемота — а отвращение к жизни, которую нам навязали. Отвращение к жизни, где все мы одиноки, и в этом одиночестве каждый из нас вынужден зарабатывать себе на жизнь, искать себе жильё, пропитание, возможности саморазвития и лечения. Отвращение к жалкому существованию городского жителя — культивируемое недоверие / утончённый, модный скепсис / поверхностные, мимолётные любовные истории / как следствие — неистовая сексуализация любого знакомства / затем периодический возврат к удобному и безнадёжному разрыву отношений / постоянная рассеянность, и следовательно, невнимание к себе, и следовательно, страх перед самим собой, и следовательно, страх перед окружающими. Коллективная жизнь, которая начала налаживаться в Зукотти-парке — в палатках, на холоде, под дождём, в самом мрачном сквере Манхэттена, оцепленном полицией, была, разумеется, вовсе не всесторонней vita nuova[19], а лишь той точкой, из которой особенно отчётливо видна тоска городского существования. Наконец-то мы вместе начали осознавать наше общее положение, наше поголовное превращение в самопредпринимателей. Это экзистенциальное потрясение выражало самую суть движения Occupy Wall Street пока в нём ещё чувствовалась свежесть и жизнеспособность.
Задача современных восстаний — в том, чтобы найти желаемую форму жизни, а не в том, чтобы изучить природу довлеющих над ней учреждений. Однако признаться в этом значило бы тотчас же признать этическую несостоятельность Запада. К тому же в таком случае победу, одержанную очередной исламистской партией в результате очередного восстания, нельзя было бы оправдать предполагаемой умственной отсталостью населения. Наоборот, пришлось бы признать, что сила исламистов кроется как раз в том, что их политическая идеология представляет собой прежде всего систему этических предписаний. Иными словами, они успешнее остальных политиков, собственно, потому, что на политику они не опираются. А стало быть, пора перестать жаловаться и бить тревогу каждый раз, когда какой-нибудь прямодушный подросток предпочитает вступить в ряды «джихадистов», а не в отряд офисных работников-самоубийц. И пора по—взрослому смириться с той рожей, с тем нелестным отражением, что смотрит на нас из зеркала.
В 2012 году в Словении, в мирном городке под названием Марибор начались уличные беспорядки, которые впоследствии охватили добрую половину страны. Восстание в такой стране, Где царят почти что гельветические нравы, — вот уж что и вправду неожиданно. Но удивительнее всего то, что бунт поднялся, когда обнаружилась прямая зависимость между растущим количеством полицейских радаров в городе и деятельностью некоей частной организации, которая, пользуясь связями в правительстве, прикарманивала почти все штрафы. Разве существует какая-нибудь менее «политическая» предпосылка для восстания, чем дорожные радары? Но разве есть что—либо более этическое, чем негодование человека, когда его обдирают как липку? Это Михаэль Кольхаас{18} ХХI века. Особое место, которое почти во всех современных протестах занимает тема вездесущей коррупции, свидетельствует о том, что эти протесты в первую очередь этические, и лишь затем политические, или даже о том, что они политические именно постольку, поскольку в них выражено презрение к политике, в том числе и к политике радикального толка. Пока сторонники левых позиций отрицают существование этических истин, компенсируя этот недуг слабой, но удобной моралью, фашисты так и будут выдавать себя за единственную положительную политическую силу, поскольку они единственные, кому не приходится извиняться за свою жизнь. Они продолжат триумфальное шествие, по—прежнему обращая энергию каждого зарождающегося восстания против самих же повстанцев.
Быть может, здесь также кроется причина провала — иначе никак не объяснимого — всех «движений против политики жёсткой экономии», которые должны были бы при нынешних условиях воспламенить всё вокруг, а вместо этого они по десятому разу беспомощно расплёскиваются по Европе. А всё потому, что вопрос жёстких экономических мер задают не там, где он по-настоящему важен: а именно — на территории резких этических разногласий в отношении того, что значит жить — и жить хорошо. Вкратце дело обстоит так: в странах с протестантской культурой суровая экономия скорее понимается как добродетель, а в большинстве южных европейских стран экономить значит по сути расписаться в полной несостоятельности. Происходящее сейчас объясняется не просто тем, что одни пытаются навязать жёсткую экономию другим, и последние от неё отказываются, а тем, что одни в принципе считают экономию благом, а другие, хоть и не осмеливаясь заявить об этом вслух, в принципе полагают, что экономия — это нищета. Упрямо бороться против мер экономии значит не только усиливать конфликт, но и ко всему прочему рассчитывать на поражение, в глубине души принимая идею жизни, которая вас не устраивает. Незачем выискивать причины нежелания «людей» бросаться в заранее проигранную битву. Скорее нужно понять истинную суть конфликта: некий протестантский идеал счастья трудолюбие, экономность, строгость, честность, прилежность, умеренность, скромность, сдержанность навязывается всей Европе. Мерам жёсткой экономии необходимо противопоставить прежде всего другую жизненную модель, которая, например, состоит в том‚ чтобы делиться, а не экономить, разговаривать, а не молчать, сражаться, а не терпеть, праздновать наши победы, а не избегать их, общаться с окружающими, а не стоять в стороне. Сложно даже представить себе, какую силу набрало движение коренных жителей американского субконтинента, когда они превратили идею buen vivir[20] в политический лозунг. С одной стороны, это чётко очерчивает грани того, за что и против чего идёт борьба; с другой — это позволяет постепенно обнаруживать множество других вариантов «хорошей жизни», вариантов, которые, несмотря на все различия, не противоречат — или, по крайней мере, не должны противоречить — друг другу.
2. Демократических восстаний не бывает
Западная риторика сюрпризов не преподносит. Каждый раз, когда массовое восстание приводит к свержению сатрапа, которому ещё вчера кланялись все посольства, то это якобы признак народного «стремления к демократии». Уловка стара, как Афины. И она настолько эффективна, что даже ассамблея движения Occupy Wall Street сочла нужным в ноябре 2011 года предоставить бюджет в 29 000 долларов двум десяткам международных наблюдателей, чтобы те контролировали законность египетских выборов. На что товарищи с площади Тахрир, которым предполагалось таким образом помочь, ответили: «Не для того мы затеяли революцию на улицах Египта, чтобы просто-напросто сформировать парламент. Наша борьба — в которой, как нам казалось, вы с нами заодно, — ставит перед собой гораздо более широкие задачи, нежели учреждение отлаженной парламентской демократии».
Если идёт борьба против тирана, то это вовсе не обязательно борьба за демократию — с таким же успехом можно бороться и за другого тирана, за халифат или же просто из любви к борьбе. Но если и существует что-то, не имеющее никакого отношения к арифметическому закону большинства, так это восстания, победа которых зависит от качественных критериев от решимости, мужества, уверенности в собственных силах, стратегической смекалки, коллективной энергии. Если выборы уже два века подряд используются как самый популярный (после армии) метод подавления восстания, то это потому, что повстанцев не может быть большинство. Что же до пацифизма, который так естественно сочетается с идеей демократии, то и здесь тоже стоит дать слово нашим соратникам из Каира: «Те, кто утверждает, будто египетская революция была мирной, не видели, каких мучений мы натерпелись от полиции, они не видели сопротивления революционеров, а порой и силы, которую им приходилось применять для защиты оккупированных территорий и пространств. По признанию самого правительства, сожжены 99 полицейских участков, разбиты тысячи полицейских машин, и все офисы правящей партии превратились в пепелище». Восстание не считается ни с какими формальностями, ни с какими демократическими процедурами. Оно, как и любое массовое явление, навязывает собственные правила пользования общественным пространством. Как и любая жёсткая забастовка, оно воплощает политику свершившегося факта. Восстанием правит инициатива, деятельное соучастие, поступок; принятие решений переносится на улицу в напоминание о том, что слово «народный», «популярный» происходит от латинского рориlor «громить, разрушать». Восстание —— это вся полнота самовыражения: в песнях, на стенах, в речах, 3 битвах, это отсутствие взвешенного подхода. Наверное, волшебство восстания можно передать так: ликвидировав демократию как проблему, оно тотчас создаёт нечто, выходящее за её пределы.
Безусловно, найдётся немало идеологов, вроде Антонио Негри или Майкла Хардта, которые по итогам последних восстаний делают вывод о том, что «демократическое общество сформируется со дня на день», и которые предлагают «научить нас демократии», предоставив нам «необходимые навыки, умения и знания для того, чтобы мы сами могли собой управлять». По их мнению, как без излишней утонченности обобщает один испанский негрист, «от Тахрира до Пуэрта-дель-Соль, от площади Синтагма до площади Каталонии повсюду раздаётся крик: “Демократия”. Так зовут призрака, который сегодня бродит по миру». И правда, всё бы шло как по маслу, если бы демократическая риторика была лишь неким голосом, доносящимся с небес, и нынешние власти или те, кто метит на их место, пытались бы извне наложить этот голос на каждое восстание. Его бы почтительно слушали, точно проповедь священника, и покатывались бы со смеху. Однако приходится признать, что эта риторика всё же оказывает определённое влияние на умы, сердца и сражения. Свидетельством тому служит нашумевшее движение так называемых «возмущённых». Мы заключаем слово «возмущенные» в кавычки, поскольку в первую неделю оккупации Пуэрта—дель-Соль все сравнивали это движение с захватом площади Тахрир, но ни слова не было сказано о безобицной брошюрке социалиста Стефана Эсселя{19}, воспевавшего гражданское восстание «сознаний» лишь с тем, чтобы предотвратить настоящее восстание. Лишь после операции по смене дискурса, которую газета El País (тоже связанная с социалистической партией) провела во вторую неделю оккупации, это движение получило своё слезливое прозвище, обеспечившее ему львиную долю резонанса и обозначившее его рамки. Аналогичный случай произошёл и в Греции, когда повстанцы, захватившие площадь Синтагма, в один голос отказались от навязанного СМИ ярлыка “aganaktismenoi”‚ «возмущённые», и предпочли называться «движением площадей». При фактически принятом нейтралитете «движение площадей» в общем и целом гораздо лучше справлялось со своим многообразием и даже запутанностью, со всеми этими причудливыми собраниями, где марксисты сосуществовали с тибетскими буддистами, а поклонники Сиризы уживались с патриотической буржуазией. Этот впечатляющий манёвр давно известен: сначала нужно символически подчинить себе движения, расхваливая их за то, чем они не являются, а потом в нужный момент поглубже их зарыть. «Никто не лжёт так много, как негодующий», — об этом говорил ещё Ницше{20}. Он лжёт о своей непричастности к тому, что вызывает его негодование; он делает вид, что не имеет отношения к тому, что его возмущает. Он всюду трезвонит о своём бессилии, чтобы легче было уйти от любой ответственности за ход событий; затем он преобразовывает это бессилие в нравственное чувство, в чувство нравственного превосходства. И этот бедолага думает, что у него есть права. Как разъярённые толпы совершают революции, мы видели, но мы ни разу не видели, чтобы возмущённые массы были способны на что-либо, кроме беспомощных протестов. Буржуазия оскорбляется и мстит; а мелкая буржуазия возмущается и снова прячется в свою конуру.
Лозунгом «движения площадей» стала фраза “¡Democracia Real YA!”[21] потому, что захват Пуэрта—дельСоль спровоцировали пятнадцать «хактивистов»{21} под конец демонстрации, созванной по инициативе одноименной платформы 15 мая 2011 года — платформы “15М”, как её называют в Испании. И речь здесь шла не о прямой демократии по аналогии с рабочими советами, и даже не о подлинной демократии, как в античности, а о реальной демократии. Неудивительно, что «движение площадей» образовалось в Афинах, в двух шагах от места формальной демократии — Национальной ассамблеи. До той поры мы наивно полагали, что реальная демократия и есть та действующая, существующая с незапамятных времён модель: с заведомо лживыми предвыборными обещаниями, с регистрационными отделами под названием «парламенты» и с утилитарными сделками, рассчитанными на то, чтобы облапошить весь мир в интересах различных лобби. Но для «хактивистов» из “15М” реальность демократии была скорее предательством «реальной демократии». И тот факт, что движение начали киберактивисты, играет не последнюю роль. Призыв к «реальной демократии» значит следующее: с технической точки зрения, все эти ваши выборы раз в пять лет‚ ваши толстобрюхие депутаты, которые не умеют пользоваться компьютером, ваши заседания, похожие на плохой спектакль или на кучу малу, — всё это безнадёжно устарело. Сегодня в мире новых коммуникационных технологий, Интернета, биометрической идентификации, смартфонов и социальных сетей вы окончательно вышли в тираж. Теперь есть возможность учредить реальную демократию, то есть непрерывно, в реальном времени проводить опрос населения, реально предоставлять на рассмотрение народу каждое принимаемое решение. Один автор уже предсказывал нечто подобное в 1920 году: «Представьте себе, что однажды, благодаря хитроумным изобретениям, каждый сможет выразить своё мнение о политических вопросах в любой момент, не выходя из дома, с помощью приборов, записывающих все эти мнения на некое центральное устройство, которое потом просто покажет результат»{22}. Он усматривал в этом «доказательство полной приватизации государства и общественной жизни». Именно такой непрерывный опрос подразумевался, пусть и на отдельно взятой площади, когда «Возмущённые» молча поднимали И опускали руки, выслушивая каждого следующего оратора. Здесь толпа лишилась даже традиционного права шумно приветствовать или освистывать выступающих.
С одной стороны, «движение площадей» перенесло, а точнее, обрушило кибернетическую фантазию о вселенской гражданственности на реальность, а с другой стороны, оно стало тем редчайшим мгновением, когда люди встречаются, действуют, устраивают праздники и берут в свои руки общественную жизнь. Этого-то и не могла понять вечная микробюрократия, которая выдаёт свои идеологические прихоти за «мнение ассамблеи» и пытается контролировать всё вокруг, ссылаясь на то, что ни одно действие, движение или заявление не имеет права на существование, если его не «утвердила ассамблея». Для всех остальных это движение окончательно развеяло мифический образ всеобщего собрания, то есть миф о централизованном управлении. В первый вечер, 16 мая 2011 года на площадь Каталонии в Барселоне вышло 100 человек, на следующий день их было уже 1000, затем — 10 000, а в первые выходные там собралось 30 000 человек. Каждый понимал, что при таком количестве людей нет больше никакой разницы между прямой и представительной демократией. На ассамблее приходится выслушивать чушь, а ответить невозможно — точь-в-точь как при просмотре телевизора; к тому же это место изнуряет своей театральностью, которая кажется тем более фальшивой, чем сильнее присутствующие стараются изображать искренность, печаль или восторг. Крайняя бюрократизация комиссий восторжествовала даже над самыми стойкими, и комитету, ответственному за «идеологическое содержание», потребовалось две недели, чтобы произвести на свет никудышный и жалкий документ длиной в две страницы, в котором обобщалось, по их мнению, «то, во что мы верим». Тогда, в этой абсурдной ситуации анархисты вынесли на голосование идею о том, чтобы сделать ассамблею просто местом для дебатов и информационным пространством, а не органом, принимающим решения. Смех да и только: вынести на голосование решение о прекращении голосования. Ещё смешнее стало тогда, когда это голосование сорвали три десятка троцкистов. А поскольку от подобных микрополитиков прямо-таки веет скукой и жаждой власти, все в конечном итоге отвернулись от надоевших ассамблей. Неудивительно, что участники движения Occupy{23} оказались в точно такой же ситуации и пришли к тому же выводу. В Окленде и Чапел-Хилле заключили, что ассамблея не имеет права определять, каким образом та или иная группа может или хочет действовать, и что это место должно существовать только для обмена мнениями, а не для принятия решений. Если какая-либо идея, выдвинутая на ассамблее, и укоренялась‚ то лишь благодаря тому, что достаточное количество человек считали её достойной воплощения, а не из-за какого бы то ни было принципа большинства. Решения укоренялись или нет, но их никогда не утверждали. В июне 2011 года несколько тысяч участников «генеральной ассамблеи» на площади Синтагма проголосовали за проведение акции в метро; в назначенный день на место встречи явилось от силы двадцать человек, готовых к действиям. Так стало понятно, что вопрос «принятия решения», не дающий покоя чокнутым демократам по всему миру‚ с самого начала был лишь надуманной проблемой.
То, что в «движении площадей» культ генеральной ассамблеи пошёл ко дну, никоим образом не компрометирует практику собраний. Важно лишь понимать, что собрание не может породить нечто, чего там нет. Если созвать тысячи посторонних людей, не имеющих ничего общего, кроме того, что все они оказались на одной площади, то не стоит ждать от них невозможных при подобной разобщенности действий. Не сто́ит, например, полагать, будто у участников ассамблеи Вдруг возникнет настолько искреннее взаимное доверие, что они вместе решатся на рискованный незаконный шаг. Само существование такого отвратительного явления, как общее собрание собственников, должно было уже предостеречь нёс от пристрастия к генеральным ассамблеям. Ассамблея отражает просто—напросто уровень сформировавшейся общности. Собрание студентов — это не то же самое, что районное собрание, а районное собрание — это не то же самое, что собрание жителей района, выступающих против «реструктуризации». Собрание рабочих в начале забастовки отличается от собрания рабочих в конце забастовки. И разумеется, оно имеет мало общего с Народной ассамблеей Оахаки{24}. Единственное, что при известных усилиях может создать любое собрание, — это общий язык. Но там, где единственная общая черта — отчуждение, можно услышать лишь бесформенный язык разобщённой жизни. А значит, возмущение — это действительно максимальная степень политической напряжённости, которой только может достичь индивид, превратившийся в изолированный атом и принимающий экран телевизора за весь мир, а свои чувства — за мысли. Пленарная ассамблея всех этих атомов — насколько бы трогательной такая сопричастность ни была — обнаружит лишь паралич, вызванный псевдопониманием политики, и главным образом неспособность как-либо влиять на ход мировых событий. Это похоже на множество лиц, прижавшихся к стеклянной стене и с изумлением рассматривающих механическую вселенную, которая продолжает вращаться без них. Чувство коллективного бессилия, сменившее радость от того, что они встретились и пересчитали друг друга, разогнало владельцев палаток марки Quechua так же успешно, как дубинки и слезоточивый газ.
И всё же было в захватнических движениях нечто большее — то, что как раз не связано с театральностью ассамблеи, то, что возникает из удивительной способности живых существ селиться, селиться даже в самых нежилых местах: в центре столиц. Всё, что политика со времён классической Греции презрительно отбрасывала в область «экономики», управления внутренних дел, «выживания», «воспроизведения», «повседневного существования» и «труда», напротив, утвердилось на оккупированных повстанцами площадях как признак коллективной политической силы и таким образом вышло из частной сферы. Именно там раскрылся потенциал бытовой самоорганизации: одним за раз удавалось накормить до 3000 человек, другим в считанные дни построить деревню или же оказать медицинскую помощь раненым, и это, пожалуй, свидетельствует об истинной политической победе «движения площадей». Свою лепту внесут и захваченные Таксим и Майдан, продемонстрировав искусство обороны баррикад и изготовления коктейлей Молотова в производственных масштабах.
Тот факт, что столь банальная и невыразительная форма организации, как собрание, вызывала такой благоговейный трепет, много говорит 0 природе демократических чувств. Если восстание подразумевает сначала гнев, а затем ликование, то увязшая в формализме прямая демократия — это прежде всего отражение тревожности. Только бы не произошло нечто, выходящее за рамки предсказуемых процессов. Только бы ни одно событие не вышло из-под контроля. Только бы справиться с Ситуацией. Только бы никто не чувствовал себя обманутым и не вступал в открытый спор с большинством. Только бы никому и никогда не приходилось в одиночку объяснять и отстаивать свою позицию. Только бы никто никому ничего не навязывал. С этой целью различные механизмы ассамблеи — от поочерёдных выступлений до безмолвных аплодисментов — формируют совершенно монолитное ватное пространство, где нет никаких неровностей, кроме череды монологов, и где исчезает необходимость бороться за убеждения. Если демократ должен так жёстко структурировать окружающие условия, то это потому, что он им не доверяет. А не доверяет он им оттого, что по сути он не доверяет себе. Именно боязнь с ними не справиться и вынуждает его пытаться во что бы то ни стало их контролировать, даже если зачастую контроль приводит к их разрушению. Демократия — это прежде всего комплекс процедур, при помощи которых мы придаём форму и структуру этой тревожности. Незачем осуждать демократию, ведь тревожность не осуждают.
И лишь всестороннее внимание — внимание не только к тому, что говорится, но и главным образом к тому, что умалчивается, внимание к тому, как произносятся слова, к тому, что́ читается в глазах и в молчании — может избавить нас от пристрастия к демократическим процедурам. Нужно заполнить пустоту, которую демократия поддерживает между изолированными атомами, вниманием друг к другу и совершенно новым вниманием к общему миру. Наша задача заключается в том, чтобы заменить механический режим аргументации режимом правды, открытости, восприимчивости к окружающему пространству. Ночная встреча и разговор Тристана и Изольды в XII веке — это «парламент»; общение людей, собравшихся по воле случая и обстоятельств на улице, и есть «ассамблея». Вот что нужно противопоставить «суверенитету» генеральных ассамблей и пустой болтовне в парламентах: вновь обретённый эмоциональный заряд, который несут слова, истинная речь. Противоположность демократии — вовсе не диктатура, а истина. И восстания никогда не бывают демократическими именно потому, что они представляют собой мгновения истины, обнажающие власть.
3. Демократия — управление в чистом виде
«Величайшая демократия в мире» затевает — не вызвав при этом особых общественных возражений — глобальное преследование одного из своих агентов, Эдварда Сноудена, опрометчиво обнародовавшего её всеохватную программу слежки за средствами коммуникации. На деле бо́льшая часть наших славных западных демократий превратилась в распоясавшиеся полицейские режимы, а большинство сегодняшних полицейских режимов с гордостью называют себя «демократиями». Никто особенно не возмущался, когда очередного премьер-министра вроде Папандреу{25} без предупреждения отстранили от должности за то, что ему пришла в голову совершенно недопустимая идея передать политику своей страны, то есть тройки, в руки избирателей. Впрочем, в Европе теперь довольно регулярно приостанавливаются выборы, если возможен незапланированный результат; а порой население вынуждено голосовать повторно, если итоги выборов не соответствуют ожиданиям Европейской Комиссии. Демократы «свободного мира», которые ещё двадцать лет назад самодовольно выпячивали грудь, теперь, вероятно, рвут на себе волосы. Известно ли, что в разгар скандала из-за участия в программе шпионажа PRISM{26} Google отделался лишь лекцией Генри Киссинджера, рассказавшего работникам компании о необходимости сотрудничества и о цене нашей «безопасности»? Всё же смешно представить себе, как человек, в 70-е годы провернувший все фашистские государственные перевороты в Южной Америке, разглагольствует о демократии перед такими «крутыми», такими «непогрешимыми», такими «аполитичными» сотрудниками штаб-квартиры Google в Силиконовой долине.
На ум приходит цитата из трактата «Об общественном договоре» Руссо: «Если бы существовал народ, состоящий из богов, то он управлял бы собою демократически. Но правление столь совершенное не подходит людям»{27}. Или же другое, более циничное высказывание Риваропя: «На свете существуют две истины, которые следует помнить нераздельно. Первая: источник верховной власти — народ; вторая: он не должен её осуществлять».
В «Пропаганде» — книге основоположника public relations Эдварда Бернейса — первая глава под названием «Организуя хаос» начинается так: «Сознательное и умелое манипулирование упорядоченными привычками и вкусами масс является важной составляющей демократического общества. Приводит в движение этот невидимый общественный механизм невидимое правительство, которое является истинной правящей силой в нашей стране»{28}. Эти слова написаны в 1928 году. Когда мы говорим о демократии, то по сути предполагаем тождественность между управляющими и управляемыми, какими бы средствами эта тождественность ни достигалась. Отсюда и эпидемия ханжества и истерии, охватившая наши земли. При демократическом режиме управлять нужно не слишком заметно; хозяева наряжаются в костюмы рабов, а рабы мнят себя хозяевами. Первые, властвуя во имя благосостояния масс, обречены на пожизненное лицемерие, а вторые бьются в истерике, воображал, будто у них есть «покупательная способность», «права» или же какое-то «мнение», которое без конца втаптывается в грязь. А поскольку лицемерие — это по определению буржуазная благодетель, то к демократии всегда липнет нечто неисправимо буржуазное. В таком деле народное чутьё не обманывает.
Неважно, идёт ли речь о демократе-обамовце, или же о яром стороннике рабочих советов, и неважно, как мы себе представляем «народ, управляющий сам собой», вопрос демократии всегда зависит от вопроса управления. Такова аксиома, безотчётная уверенность: управление необходимо. Управление — это особый вид власти. Управлять не значит заставить некое тело повиноваться и не значит обеспечить выполнение Закона на конкретной территории, пусть даже посредством старорежимных пыток. Король царствует. Генерал командует. Судья судит. Управлять —это совсем другое. Это значит руководить поведением населения, миллионами, за которыми нужно следить, как пастух следит за стадом, чтобы максимизировать их потенциал и направить свободу в нужное русло. Это значит учитывать и формировать их желания, образ действия и мыслей, привычки, страхи, склонности, окружение. Это значит использовать целый комплекс мер — риторических, полицейских и материальных стратегий, чутко прислушиваясь к народным настроениям, к их непредсказуемым перепадам; это значит действовать, всегда учитывая эмоциональную и политическую конъюнктуру и предотвращая мятежи и бунты. Воздействовать на окружающую среду и постоянно изменять её переменные, воздействовать на одних, чтобы влиять на поведение других, чтобы держать стадо под контролем. В целом это значит вести безымянную, безличную войну почти на всех фронтах человеческого существования. Войну за влияние — тонкую, психологическую, опосредованную.
То, что с конца XVII века непрерывно набирало силу на Западе, — это вовсе не власть Государства, а управление как специфическая форма власти, укреплявшаяся сначала за счёт образования национальных государств, а затем — за счёт их развала. Сегодня можно спокойно смотреть, как рушатся старые проржавевшие надстройки национальных государств лишь потому, что они освобождают место для того самого податливого, гибкого, неформального, таоистского «управленчества», насаждённого во всех сферах, будь то самоуправление, управление связями, городами или предприятиями. Мы, революционеры, никак не можем отделаться от ощущения, будто мы проигрываем все битвы потому, что они ведутся на фронте, к которому мы до сих пор не в состоянии подобраться, потому что мы выводим силы на заведомо проигрышные позиции и потому что нас атакуют там, где у нас нет защиты. Это происходит по большей части оттого, что мы всё ещё воспринимаем власть как Государство, Закон, Дисциплину, Суверенитет, а она тем временем продолжает наносить удары, выступая в роли управления. Мы разыскиваем власть в твёрдом виде, а она уже давно перешла в жидкое, если не в газообразное состояние. Отчаявшись‚ мы с опаской смотрим на всё, что ещё сохранило чёткую форму: привычки, привязанности, корни, умения или логические суждения — в то время как власть воплощается скорее в бесконечном разрушении всех форм.
В выборах нет ничего демократического: выборы королей существовали испокон веков, да и какой самодержец откажет себе в удовольствии устроить как-нибудь небольшой плебисцит. И если такие голосования можно назвать демократическими, то не потому, что они предоставляют людям право на участие в управлении, а потому, что они дарят ощущение некоей причастности к оному, иллюзию мало-мальски избранного правительства. «Все государственные формы, — писал Маркс, — имеют в демократии свою истину»{29}. Он ошибался. Скорее демократия имеет свою истину во всех государственных формах. Тождественность управляющего и управляемого вот та самая пограничная точка, в которой стадо становится коллективным пастухом, а пастух растворяется в стаде, точка, в которой свобода совпадает с послушанием, а население — с властителем. Слияние правящего и управляемого и есть управление в чистом виде, без каких-либо форм и границ. Неспроста сейчас так культивируется теория жидкой, подвижной демократии. Ведь любая устойчивая форма — это помеха для прямого управления. Посреди, этого всеобщего разжижения нет никаких опор, а есть лишь плато на асимптоте. Чем больше жидкости, тем легче управлять; а чем легче управлять, тем демократичней процесс. Одинокий городской житель, очевидно, демократичнее, чем супружеская пара, которая в свою очередь демократичнее, чем семейный клан, который в свою очередь демократичнее, чем мафиозный район.
Тех, кто видел в правовых формах окончательное завоевание демократии, а не исчезающую переходную форму, ждало разочарование. Теперь это формальное препятствие на пути к уничтожению «военных врагов» демократии, а также к постоянной реорганизации экономики. Начиная с Италии 1970-х годов и до dirty wars[22] Обамы антитерроризм — это не прискорбное нарушение славных демократических принципов, не исключение из них, а скорее непрерывная основообразующая деятельность современных демократий. США составляют список «террористов» со всего мира длиной в 680 000 имён и кормят отряд из 25 000 человек — Совместное командование специальных операций США, призванное в полной секретности убивать чуть ли не кого угодно и когда угодно в любой точке земного шара. С целой флотилией дронов, не слишком разбирающих, кого конкретно они разрывают на части, эти внесудебные казни заняли место внесудебных процедур вроде Гуантанамо. Те, кого это смущает, просто—напросто не понимают сути демократического управления. Они остались В предыдущей фазе, когда Государство ещё говорило на языке Закона.
В Бразилии под предлогом борьбы с терроризмом арестовывают молодых людей, которые считаются преступниками лишь потому, что они решили организовать демонстрацию против чемпионата мира по футболу. В Италии четырёх наших соратников посадили в тюрьму, обвинив их в «терроризме» на том основании, что нападение на строительную площадку высокоскоростной железнодорожной линии TAV и сожжение компрессора (за которое всё движение целиком взяло на себя ответственность) якобы серьёзно навредило «имиджу» страны. Бессмысленно перечислять примеры, факт остаётся фактом: на всё, что оказывает сопротивление правительственным интригам, вешают ярлык «терроризма». Либералы могут опасаться, что правительства тем самым подрывают свою демократическую законность. Ничего подобного, они её только реконструируют. По крайней мере если всё Идёт по плану. Если они как следует прозондировали души и подготовили эмоциональную площадку. Но когда Бен Али или Мубарак называют вышедшую на улицу толпу бандой террористов, а должного эффекта нет, то операция по реконструкции обращается против них; это поражение выбивает у них из—под ног почву законности; они у всех на виду беспомощно болтаются над пропастью, и падения им не миновать. Истинный смысл операции открывается лишь тогда, когда её ждёт провал.
4. Теория свержения власти
Возникший в Аргентине лозунг “¡Que se vayan todos!” заставил управленцев со всего мира порядком понервничать. Не сосчитать всех языков, на которых мы в последние годы кричали о стремлении свергнуть действующие власти. И что самое удивительное, во многих случаях нам это удалось. Но какими бы шаткими ни были режимы, установившиеся в результате подобных «революций», вторая часть лозунга — “¡Y que no quede ni uno!”‚ «И чтобы ни одного не осталось!» — по-прежнему пустые слова: новые марионетки заняли освободившиеся места. Самый показательный случай — это, безусловно, Египет. Повстанцы с площади Тахрир заполучили голову Мубарака, а движение Тамарод — голову Мурси. И там, и там улица требовала свержения власти, которое она не в силах была организовать самостоятельно, поэтому подготовкой свержения занялись уже организованные силы (Братья-мусульмане, а затем армия), захватившие процесс и завершившие его в собственных интересах. Движение, которое требует, всегда уступает той силе, которая действует. Поразительно, кстати, насколько роли властителя и «террориста» взаимозаменяемы, как быстро из дворца можно попасть в тюремные подземелья и наоборот.
Как правило, вчерашние мятежники сетуют: «Революцию предали. Мы умирали не для того, чтобы очередное временное правительство провело выборы и какое-нибудь учредительное собрание подготовило новую конституцию, закрепляющую порядок новых выборов, результатом которых станет новый режим, практически идентичный прежнему. Мы хотели, чтобы изменилась жизнь, а в итоге не изменилось ничего, или почти ничего». У радикалов на этот случай заготовлено их излюбленное объяснение: народ должен управлять собой самостоятельно, вместо того чтобы выбирать представителей. Если революции систематически не оправдывают ожиданий, то, может быть, это их судьба; а может быть, есть в нашей идее революции какие-то невидимые изъяны, обрекающие её на такую судьбу. И вот один из этих изъянов: мы до сих пор нередко воспринимаем революцию как диалектическое соотношение между учреждающим и учреждённым. Мы всё ещё верим сказкам о том, что любая учреждённая власть коренится в учреждающей власти, что Государство происходит от нации, как абсолютная монархия — от Бога, что действующую конституцию всегда предопределяет другая конституция, некий подспудный и в то же время высший порядок, установленный зачастую негласно, но временами вспыхивающий на поверхности точно молния. Нам хочется верить, что стоит только «народу» собраться где-нибудь, желательно у парламента, и закричать: «Вы нас не представляете!»‚ и сразу же после такого незамысловатого богоявления учреждающая власть как по волшебству прогонит учреждённые власти. Эта выдумка об учреждающей власти нужна лишь для того, чтобы завуалировать собственно политический, случайный принцип, акт насилия, посредством которого утверждается любая власть: Те, кто пришёл к власти, проецируют теперь источник собственного влияния на подконтрольную им общественную массу, на законных основаниях вынуждая общество молчать ради его же блага. Таким образом с завидной регулярностью власть отважно расстреливает народ ради народа. Учреждающая власть — это плащ тореадора, накинутый на неизменно корыстный источник власти, эдакая мантия, обладающая гипнотической силой и заставляющая всех угадывать в учреждённой власти нечто большее, чем то, что она из себя представляет.
Те, кто, как Антонио Негри, предлагают «управлять революцией», видят повсюду — будь то в массовых беспорядках, охвативших пригороды, или в восстаниях арабского мира — лишь «учреждающую борьбу». Мадрицский негрист, сторонник «учреждающего процесса», гипотетически возникающего из движения площадей, даже осмеливается призывать к созданию «партии демократии», «партии 99%» с целью разработки «новой демократической конституции — такой же «никакой», такой же нерепрезентативной, такой же постидеологической, каким было движение “15M”. Подобные иллюзии скорее побуждают нас переосмыслить Идею революции как чистого свержения власти.
Утвердить или учредить власть значит наделить её основанием, фундаментом, законностью. Для экономического, юридического или полицейского аппарата это значит закрепить своё непрочное существование на более широкой плоскости, в некоей трансцендентности, которая предположительно должна вывести его из зоны досягаемости. В результате этого манёвра то, что всегда было лишь локальной, определённой, частичной единицей, поднимается до нового уровня, где уже может претендовать на всеохватность; власть как учреждённый элемент превращается в строй без внешних параметров, в существование без оппонента, которое может лишь подчинять или уничтожать. Диалектика учреждающего и учреждённого привнесла высший смысл в феномен, представляющий собой исключительно случайную политическую форму: так Республика становится вселенским знаменем для непреложной и вечной человеческой природы, а халифат — единственным очагом сообщества. Учреждающая власть накладывает чудовищные чары, которые преобразуют Государство в нечто, никогда не допускающее ошибки, поскольку оно основано на разуме; в нечто, не имеющее врагов, поскольку противостоять ему значит быть преступником; в нечто, способное на всё, поскольку ему неведома честь.
А следовательно, чтобы свергнуть власть, недостаточно победить её на улице, разобрать на части её механизмы, поджечь её символы. Свергнуть власть значит лишить её основания. Именно это и делают восстания. Тогда учреждённый элемент предстаёт в первоначальном вице, со всеми своими неказистыми и действенными, грубыми и изощрёнными трюками. «А король-то голый», — обнаруживаем мы, когда завеса учреждающей власти разорвана в клочья и всё видно насквозь. Свергнуть власть значит лишить её законности, вынудить её признать собственный произвол, разоблачить её случайную природу. Это значит показать, что она держится лишь в заданной ситуации, поскольку прибегает к уловкам, приёмам и махинациям; превратить её во временную фигуру, которая, как и многие другие, вынуждена бороться и хитрить, чтобы выжить. Это значит заставить правительство опуститься до уровня повстанцев, которые теперь вовсе не «Чудовища», «преступники» или «террористы», а просто враги. Прижать к стенке полицию, превратить её в уличную банду‚ а правосудие — в кучку злодеев. В период восстания действующая власть - это всего лишь одно из многочисленных формирований на общем поле боя, а не та метасила, которая распоряжается, командует или выносит приговор всем игрокам. У любого мерзавца есть, адрес. Свергнуть власть значит вернуть её на землю.
К чему бы ни привело уличное противостояние, восстание уже изначально разрезает плотную материю верований, которая делает возможным управление. Вот почему те, кто спешит похоронить восстание, не теряют времени на попытки залатать истерзанное основание утратившей силу законности. Они, напротив, стараются внести в само движение новые притязания на законность, то есть новые притязания на разумную основу, на преимущества в стратегическом пространстве, где разворачивается противостояние между различными силами. Законность «народа», «угнетённых» или же «99%» — это Троянский конь, при помощи которого в мятежное свержение власти проникает учреждающая власть. Это самый верный способ свести на нет любое восстание — он даже не требует победы на улице. Соответственно, чтобы свержение режима было необратимым, мы должны для начала отрешиться от нашей собственной законности. Нам необходимо отказаться от мысли о том, что революцию мы совершаем во имя какого-то идеала, что когда—нибудь сформируется в высшей степени справедливая и непорочная реальность и что революционные силы станут её представителями. Мы спускаем власть на землю не для того, чтобы самим вознестись к небесам.
В наши времена для свержения этой специфической формы власти требуется сперва отнести к ряду гипотез очевидный тезис, согласно которому людям нужно управление — будь то демократическое самоуправление или же иерархическое управление, осуществляемое другими. Эта установка восходит ещё к греческим корням политики, и она настолько весома, что даже сапатисты и те объединили свои «автономные коммуны» под началом «хунты хорошего правительства». Здесь мы наблюдаем явную антропологическую тенденцию, характерную как для анархиста—индивидуалиста, стремящегося к полному удовлетворению собственных желаний и потребностей, так и для, казалось бы, более пессимистичных концепций, видящих в человеке алчного зверя, которого может удержать от пожирания ближнего лишь некая обуздывающая сила. Макиавелли, считавший, что люди «неблагодарны, непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечёт нажива»{30}‚ единодушен в этом вопросе с основателями американской демократии: «При формировании правительства следует исходить из принципа, что все люди подлецы», — отмечал Гамильтон. В любом случае мы отталкиваемся от постулата о том, что политический режим призван ограничивать относительно звериное существование человека, где Я противостоит окружающим и всему миру, где есть лишь отдельные тела, и собрать их вместе можно только с помощью каких—то ухищрений. По мнению Маршалла Салинса, идея человеческой природы, которую сдерживает «культура», — это западная иллюзия. В ней выражается беспомощность, свойственная только нам, а не всем жителям земли. «Для большей части человечества так хорошо известный нам эгоизм совсем не естественен в традиционном смысле слова: в нём усматривается некий вид помешательства или одержимости, повод для изгнания и казни или хотя бы симптом недуга, требующего лечения. Корысть отражает не столько досоциальную человеческую природу, сколько отсутствие человечности»{31}.
Но чтобы свергнуть правительство, мало просто раскритиковать эту антропологию и её предполагаемый «реализм». Нужно оценить её со стороны, найти иную плоскость восприятия. Поскольку мы и вправду вращаемся в иной плоскости. Глядя с относительно сторонней позиции на то, что́ мы переживаем, что́ мы пытаемся соорудить, мы пришли к такому выводу: вопрос управления возникает лишь в пустоте, в той пустоте, которую в основном приходилось формировать. Власть должна была в достаточной мере отделиться от мира, создать пустоту вокруг индивида или в нём самом, создать пустынное пространство между существами, чтобы потом уже решать, как объединить все эти отдельные элементы, которые больше никак не связаны, как сложить разнородные частицы, сохранив их разнородность. Власть создаёт пустоту. Пустота требует власти.
Выйти из парадигмы управления значит отталкиваться в политике от противоположной гипотезы. Пустоты не существует, любое пространство обитаемо, каждый из нас представляет собой точку пересечения и соединения многочисленных чувств, линий, историй, смыслов, преобладающих над нами осязаемых потоков. Мир нас не окружает, он проходит сквозь нас. Внутри нас живёт то, в чём живём мы. Нас формирует то, что нас окружает. Мы себе не принадлежим. Мы изначально растворились во всём, с чем себя связываем. Суть не в том, чтобы сформировать пустоту, в которой нам удастся, наконец, охватить недосягаемое, а в том, чтобы обжить уже существующее пространство и, следовательно, научиться его воспринимать — а это не такая уж и простая задача для слепого потомства демократии. Воспринимать мир, населённый не вещами, а силами, не предметами, а энергией, не телами, а связями.
Именно полнота форм жизни позволяет свергнуть власть.
Здесь извлечение — это утверждение, а утверждение — средство нападения.
Власть — это логистика. Заблокируем всё!
1. Теперь власть закреплена в инфраструктуре
Захват площади Касба в Тунисе, площади Синтагма в Афинах, осада Вестминстера в Лондоне в период студенческих волнений 2011 года, окружение парламента в Мадриде 25 сентября 2013 года или в Барселоне 15 июня 2011, массовые беспорядки вокруг Палаты депутатов в Риме 14 декабря 2010 года, произошедшая 15 октября 2011 года в Лиссабоне попытка захватить Республиканскую ассамблею, поджог администрации президента Боснии в феврале 2014 года — места институциональной власти, как магнит, притягивают революционеров. Но когда повстанцам удаётся взять приступом парламенты, президентские дворцы и другие правительственные центры, как на Украине, в Ливии или в Висконсине, то внутри они обнаруживают опустевшие пространства, где не видно никакой власти, а есть лишь безвкусная мебель. Столь отчаянные попытки предотвратить вторжение в эти здания совершаются вовсе не для того, чтобы помешать «народу» «захватить власть», а чтобы народ не понял, что власти в учреждениях больше нет. Это лишь заброшенные храмы, бесхозные крепости, простые декорации, и это настоящие ловушки для революционеров. Народное стремление вскарабкаться на сцену, чтобы пробраться за кулисы, неизменно приводит к разочарованию. Даже самые оголтелые приверженцы теории заговоров — будь у них туда доступ — не обнаружили бы там никакой тайны; на самом деле власть уже попросту не та театральная реальность, к которой нас приучила современная эпоха.
Однако правду о действительном местонахождении власти никто и не пытается скрывать; только мы не хотим её видеть из страха, что она окатит холодной водой наши столь удобные убеждения. Чтобы узнать правду, достаточно лишь присмотреться к купюрам, выпущенным в Европейском союзе. Ни марксисты, ни неоклассические экономисты никогда на подобные признания не решались, но это археологически подтверждённый факт: денежные знаки представляют собой не экономический инструмент, а в основе своей политическое явление. Валюта всегда существует лишь в связке с поддерживающим её политическим режимом. Вот почему на денежных знаках различных государств традиционно изображены портреты императоров, важных государственных деятелей, отцов-основателей или же материализованные аллегории нации. Но что же мы видим на банкнотах евро? — Не фигуры людей, не символы единоличной верховной власти, а изображения мостов, акведуков, арок — безличной, бездушной архитектуры. Вот и вся правда о природе нынешней власти, и каждый европеец носит в кармане её печатную копию. Её можно сформулировать следующим образом: теперь власть закреплена в инфраструктуре этого мира. Природа современной власти не представительная и не личностная, а архитектурная и безличная. Традиционная власть была по природе своей представительной: папа Римский был представителем Христа на Земле, король — Бога, президент — народа, а Генеральный секретарь партии — пролетариата. Вся эта личностная политика отошла в прошлое, а те немногие вожди, которые не исчезли ещё с лица земли, скорее смешат народ, нежели правят им. Политический аппарат на деле состоит из клоунов разной степени одарённости; отсюда и оглушительный успех убожества Беппе Грилло{32} в Италии или мерзавца Дьёдонне{33} во Франции. Впрочем, те двое хотя бы умеют развлекать, за это им и платят. Итак, мы ломимся в открытую дверь, упрекая политиков в том, что они «не представляют наши интересы», и вдобавок мы тем самым ещё и подпитываем ностальгию. Политики нужны не для этого, они лишь отвлекают наше внимание, пока власть Где-то далеко делает своё дело. Подобное верное предчувствие оборачивается настоящим безумием во всех современных конспирологических теориях. Власть действительно далеко, далеко от учреждений, но при этом её не скрывают. А даже если и скрывают, то она — как «Похищенное письмо» По. Её никто не видит, потому что у каждого она постоянно прямо перед глазами — под видом линии электропередачи, автомобильной дороги, кругового перекрёстка, супермаркета или компьютерной программы. И если её скрывают, то точно так же, как систему канализации, подводный провод, оптическое волокно, протянутое вдоль железнодорожного пути, или центр обработки данных, построенный посреди леса. Власть — это сама организация мира, это сконструированный, структурированный‚ спроектированный мир. Вот в чём секрет: секрет в том, что секрета нет.
Теперь власть неотделима от жизни, от её технологической и коммерческой организации. Власть скрывается под видом заурядных устройств и стартовой страницы Google. Тот, кто преобразовывает пространство, управляет средой и настроениями, отдаёт распоряжения, открывает и закрывает доступ к чему-либо, тот и правит людьми. Современная власть унаследовала, с одной стороны, давние полицейские премудрости, суть которых — блюсти «благополучие и безопасность граждан», а с другой — военный логистический опыт, «искусство перебрасывания войск», которое было трансформировано в методику, обеспечивающую непрерывную работу сетей пути сообщения, то есть стратегическую мобильность. Мы увлеклись языковой концепцией общественного блага и политики, продолжая рьяно спорить, пока у нас под носом принимались настоящие решения. Современные законы создаются из стальных конструкций, а не из слов. Возмущённые граждане лишь бьются одуревшим лбом в железобетон, из которого сделан это мир. Огромным достижением борьбы против итальянской железнодорожной линии TAV стало.то‚ что в ней совершенно чётко учитывались все политические аспекты действия, развернувшегося на обычной муниципальной строительной площадке. По законам симметрии этого не может признать ни один политик. Как тот Берсани, возразивший, помнится, участникам движения “No TAV”: «В конце концов это всего лишь железнодорожная линия, а не бомбардировщик». Но «строительная площадка сто́ит целого батальона», — считал маршал Лиоте{34}, коему не было равных в «усмирении» колоний. И если по всему миру, от Румынии до Бразилии, набирает обороты борьба против масштабных хозяйственных проектов, так это потому, что усиливается то самое предчувствие.
Каждый, кто собирается предпринять что-либо против существующего миропорядка, должен исходить из следующего: истинная структура власти — это материальное, техническое, физическое устройство мира. Управление больше не принадлежит правлению. Ярким свидетельством тому может стать «вакуум власти», продолжавшийся больше года в Бельгии. Страна функционировала без правительства, без делегируемых представителей, без парламента, без политических дебатов и без предвыборных гонок, что никак не сказалось на нормальной жизнедеятельности. Точно так же Италия уже в течение нескольких лет переходит от одного «технического правительства» к другому, и никого не смущает, что само выражение взято из написанного в 1918 году манифеста-программы Футуристической политической партии, взрастившей первых фашистов.
Теперь власть — это собственно миропорядок‚ а также полиция, призванная его охранять. Совсем нелегко представить себе власть, состоящую из инфраструктуры, из средств, которые позволяют этой инфраструктурой управлять, контролировать её и строить. Как можно опротестовать режим, который нельзя сформулировать, который образуется постепенно и совершенно молча. Режим, проникший в предметы повседневной жизни. Режим, чьё политическое устройство и есть его материальное строение. Режим, который выявляется не столько в словах президента, сколько в тишине отлаженного механизма. Власть можно было критиковать в те времена, когда её выражением были указы, законы и постановления. Но стену не критикуют, её или разрушают или разрисовывают граффити. Правительство, устанавливающее жизнь с помощью инструментов и приспособлений, правительство, высказывания которого принимают форму улицы, перегороженной столбиками и увешанной камерами слежения, в ответ может получить подчас только безмолвное разрушение. В итоге нападение на элементы бытовой обстановки рассматривается как святотатство: нечто, сравнимое с нарушением конституции. Тот факт, что участники массовых беспорядков крушат всё подряд, говорит об осознании сложившейся ситуации и в то же время о чувстве относительной беспомощности. К сожалению, безмолвный и неоспоримый порядок, воплощением коего предстаёт автобусная остановка, не разлетится вдребезги, если эту остановку сломать. Теория разбитых окон не перестанет существовать даже тогда, когда все витрины будут разбиты. Все лицемерные заявления о священной «окружающей среде», весь этот крестовый поход во Имя её защиты становится понятным лишь в свете нового обстоятельства: власть сама стала зависеть от окружающей среды, она растворилась в декорациях. Её-то и пытаются защитить все официальные лица, призывая к «охране окружающей среды» — её, а не рыбок.
2. О различии между организацией и самоорганизацией
Повседневная жизнь не всегда была организованной. Для этого потребовалось сперва разобрать жизнь на части, начиная с города. Жизнь и город были разложены на функции в соответствии с «потребностями общества». Офисный район, заводской район, жилой район, зоны отдыха, модный квартал для развлечений, место, где можно пожрать, место, где приходится батрачить, место, куда ходят цеплять девчонок, и тачка или автобус, которые соединяют вое означенные пункты — вот результат прицельного оформления жизни, уничтожающего всякую жизненную форму. Этот процесс осуществлялся методично, на протяжении ста с лишним лет, и руководила им целая каста организаторов, серая армада менеджеров. Человека и жизнь препарировали, разделив их на группы потребностей, а затем их синтезировали. И неважно, какое название носит этот синтез: «социалистическое планирование» или же «рынок». Неважно, привели ли эти действия к разрухе в новых городах или к популярности модных кварталов. Результат один и тот же: пустыня и экзистенциальное малокровие. От формы жизни не останется ничего, если её расчленить на органы. С другой стороны, отсюда происходит неподдельное веселье, царившее на захваченных площадях Пуэртадель-Соль, Тахрир и Гези, а также притягательная сила, каковой обладала — несмотря на страшную грязюку нантских лесов — оккупированная территория в Нотр-Дам-де-Панд. Отсюда же и радость, ощутимая в любой коммуне. Внезапно жизнь перестаёт казаться набором скреплённых деталей. Выясняется, что спать, драться, есть, лечиться, устраивать праздники, замышлять заговоры и спорить можно в едином жизненном порыве. Всё вокруг не организовано, а организуется самостоятельно. Разница ощутимая. Первое требует управления, второе — внимания, и эти действия абсолютно несовместимы.
Описывая восстания аймара в начале 2000 годов в Боливии, уругвайский активист Рауль Зибечи говорит: «В этих движениях организация не отделена от повседневной жизни, сама повседневная жизнь занимает боевые позиции в восстаниях». Он сообщает, что в 2003 году в районах Эль-Альто «общинный этос пришёл на смену прежнему профсоюзному этосу»{35}. Вот что объясняет смысл борьбы против инфраструктурной власти. Тот, кто говорит об инфраструктуре, допускает, что жизнь существовала отдельно от жизненных условий. Что в жизнь были привнесены условия. Что она зависит от факторов, на которые она уже не в состоянии повлиять. Что она потеряла равновесие. Инфраструктуры выстраивают жизнь в отрыве от мира, неопределённую, одноразовую жизнь, отданную на растерзание тем, кто ими управляет. Городской нигилизм — не более чем хвастовство, позволяющее закрывать на это глаза. И в то же время утверждение Зибечи объясняет цель многочисленных поисков, экспериментов, которые проводятся в различных городских районах и деревнях по всему миру, а также указывает на неизбежные подводные камни. Возврат не к земле, а на землю. Ударная сила восстаний, их способность надолго выводить из строя инфраструктуру соперника зависит как раз от уровня самоорганизации в общественной жизни. Тот факт, что движение Occupy Wall Street в первую очередь заблокировано Бруклинский мост, а несколько тысяч человек Оклендской Коммуны парализовали городской порт в день всеобщей забастовки 12 декабря 2011 года‚ говорит об интуитивной связи между самоорганизацией и блокадой. Слабая самоорганизация, которая только намечалась в период тех захватнических движений, не позволила им продвинуться дальше. И наоборот, площади Тахрир и Таксим — это центральные транспортные узлы Каира и Стамбула. Заблокировать поток машин значило спровоцировать ситуацию. Захват тотчас же превратился в блокаду. Отсюца и способность повстанцев повсеместно взбаламутить это царство обыденности. На совершенно ином уровне сложно не заметить связь между тем, что сапатисты теперь предлагают объединить 29 точек борьбы против горных работ, строительства дорог, возведения электростанций и плотин, влияющих на жизнь различных коренных народов Мексики, и тем, что сами они в последние десять лет всеми возможными средствами обеспечивали себе независимость от федеральных и экономических властей.
З. О блокаде
Один из плакатов акции протеста против Закона о первом найме (CPE){36}, проведённой во Франции в 2006 году, гласил: «Этот мир насыщают потоки. Заблокируем всё!» Лозунг, выдвинутый меньшинством движения, которое — хоть оно и «одержало победу» — само по себе было движением меньшинства, завоевал с тех пор немалую популярность. В 2009 году движение против “pwofitasyon”[23], парализовавшее Гваделупу, использовало этот лозунг по полной программе. Затем, осенью 2010 года, во время французского движения против пенсионной реформы блокада стала основным методом борьбы и применялась с равным успехом в отношении склада горючего, торгового центра, вокзала или же производственного объекта. Не это ли явный показатель состояния мира?
Политически значимым представляется тот факт, что французское движение против пенсионной реформы сфокусировалось на блокаде нефтеперерабатывающего завода. С конца 1970-х годов нефтеперерабатывающие заводы были в авангарде отрасли, которая тогда называлась «перерабатывающей промышленностью», «поточной» промышленностью. Можно сказать, что работа нефтеперерабатывающего завода послужила образцом для реорганизации большинства заводов. Впрочем, следует говорить не о заводах, а об объектах, объектах производства. Разница между заводом и объектом состоит в том, что завод — это центр скопления рабочей силы, средоточие навыков, сырья, резервов; объект же — лишь узел на карте производственных потоков. Единственная их общая черта сводится к тому, что на выходе из одного и из другого имеется нечто, претерпевшее‚ по сравнению с исходным продуктом, ряд преобразований. Нефтеперерабатывающий завод стал первым местом, где коренным образом изменилось соотношение между трудом и производством. Рабочий такого завода или, скорее, оператор, не отвечает даже за техническое обслуживание и ремонт машин — эта задача, как правило, возложена на временных наёмных работников — а лишь с установленной регулярностью следит за полностью автоматизированным производственным процессом. Здесь загорелась лампочка, которая загораться не должна. Там слышится необычное бульканье в канализации. Тут странно выходит дым или же он выглядит не так, как должен. Рабочий на нефтеперерабатывающем заводе — это своего рода надсмотрщик за машинами, бездействующая фигура, символ нервного напряжения. Сегодня такое общее направление закрепилось во многих отраслях западной промышленности. Раньше классический рабочий торжественно уподоблялся Производителю, теперь же соотношение между трудом и производством попросту перевернулось. Труд возможен лишь тогда, когда производство приостанавливается, происходит какой—либо сбой и необходимо наладить работу. Марксисты отдыхают: процесс повышения стоимости товара‚ от добычи до насоса, совпадает с его кругооборотом, который в свою очередь совпадает с процессом производства, который, кстати, в режиме реального времени зависит от конечных колебаний рынка. Утверждение о том, что стоимость товара — это застывшее рабочее время трудящегося, было эффективным и в то же время лицемерным политическим манёвром. Для нефтеперерабатывающего завода, равно как и для любого другого полностью автоматизированного производства, оно звучит как оскорбительная ирония. Дайте Китаю ещё лет десять — десять лет забастовок и требований рабочих — и там будет всё точно так же. Безусловно, немаловажную роль играет и то, что рабочие на нефтеперерабатывающих заводах долго считались самыми высокооплачиваемыми кадрами в промышленности и что именно в этой отрасли проводились первые (по крайней мере, во Франции) эксперименты под эвфемистическим названием «налаживание социальных отношений», в частности, отношений с профсоюзами.
В период движения против пенсионной реформы бо́льшая часть французских топливных складов была заблокирована, причём блокаду удерживали не малочисленные рабочие этих складов, а преподаватели, студенты, водители, железнодорожники, почтальоны, безработные и старшеклассники. И не потому, что рабочие не имели на это права. А потому, что в мире, где организация производства децентрализована, подвижна и по большей части автоматизирована, где каждая машина — лишь звено в комплексной системе машин и где мир-система машин (машин, производящих машины) тяготеет к компьютеризированному объединению, каждый отдельный поток воспроизводит всю совокупность капиталистического общества. Нет больше «сферы воспроизводства» рабочей силы или социальных отношений, которая бы отличалась от «сферы производства». К слову, последняя уже тоже не сфера, а скорее сеть, опутавшая мир и все взаимоотношения. Нанести физический удар по этим потокам — в любой точке — значит нанести удар по всей политической системе в целом. Если субъектом забастовки был рабочий класс, то субъектом блокады может стать кто угодно. Неважно кто — тот, кто решит заблокировать объект и таким образом выступить против существующего миропорядка.
Зачастую цивилизации рушатся на пике развития. Каждая производственная цепь достигает теперь такого уровня специализации и проходит через такое количество посредников, что ‹стоит лишь одному из них исчезнуть, и вся цепь оказывается парализованной, если не уничтоженной. Три года назад заводы «Хонда» В Японии пережили самый длительный за последние пятьдесят лет период простоя, потому что поставщик какого—то Одного вида компьютерных чипов пострадал от землетрясения, постигшего страну в марте 2011 гола, а другие поставщики были не в состоянии произвести нужный чип.
Это лихорадочное стремление всё заблокировать, которое теперь сопровождает каждое масштабное движение, следует расценивать как явное изменение отношений со временем. Мы смотрим на будущее так же, как ангел истории Вальтера Беньямина смотрел на прошлое. «Где нам видится цепь событий, там он видит одну-единственную катастрофу, которая беспрерывно громоздит обломки на обломки и бросает их ему под ноги»{37}. Проходящее время — уже не медленное движение к предположительно чудовищному концу. Каждое новое десятилетие воспринимается как следующий шаг к климатическому хаосу, неизбежность которого любой из нас с ясностью распознаёт в пресной формуле «глобальное потепление». День ото дня тяжёлые металлы будут накапливаться в продуктах питания точно так же, как радиоактивные изотопы и множество других невидимых, но смертоносных загрязнителей. Кроме того, необходимо рассматривать каждую попытку заблокировать глобальную систему, каждое движение, каждый мятеж, каждое восстание — как вертикальное стремление остановить время и свернуть на другой, не столь разрушительный путь.
4. Об исследовании
Не вялая борьба обусловила крушение всех революционных перспектив, а наоборот, отсутствие каких-либо революционных перспектив обусловило вялость борьбы. Увлёкшись политической идеей революции, мы упустили из виду её техническую составляющую. Революционная перспектива сместилась с институционной реорганизации общества на техническую конфигурацию миров. Собственно, это — полоса, прочерченная в настоящем, а не зыбкий образ, мерцающий в будущем. Если мы хотим восстановить перспективу, мы должны совместить размытую идею о том, что этому миру осталось недолго, с желанием построить новый, лучший мир. Ведь сегодняшний мир держится на плаву прежде всего благодаря физической зависимости каждого человека от общей исправности социальной машины, обеспечивающей его элементарное выживание. Нам нужно приобрести расширенные технические знания об организации этого мира знания, которые позволят вывести из строя основные структуры и при этом предоставят нам время для политического и материального отделения от общего курса, ориентированного на катастрофу, — так, чтобы нас не преследовал по пятам призрак нужды, безотлагательной борьбы за выживание. Грубо говоря: пока мы не научимся обходиться без ядерных электростанций и пока демонтировать их будет позволено лишь тем, кто хочет, чтобы они служили вечно, все наши потуги упразднить Государство будут по—прежнему вызывать усмешку; пока перспектива народного восстания не перестанет ассоциироваться с ощутимой нехваткой медицинского обслуживания, продуктов питания или энергии, ни о каком решительном массовом движении не может быть И речи. Иными словами, мы должны вновь взяться за кропотливое исследование. Во всех сферах и на всех территориях, которые мы населяем‚ нам необходимо идти навстречу тем, кто обладает стратегически важными техническими знаниями. И только тогда движения осмелятся по-настоящему «всё заблокировать». Только тогда вырвется наружу страсть к экспериментам с новой жизнью, в значительной степени техническая страсть, своего рода противоположный полюс всеобщей технологической зависимости. Этот процесс накопления знаний, создания тесных человеческих взаимоотношений во всех областях — непременное условие серьёзного и массового возрождения революционного вопроса.
«Рабочее движение проиграло не капитализму, а демократии», — говорил Марио Тронти. Причём проиграло оно потому, что ему не удалось заполучить саму сущность рабочей силы. Рабочего определяет вовсе не эксплуатация со стороны хозяев, которой подвергаются любые трудящиеся. В полной мере его определяет воплощённое в нём техническое мастерство, доскональное понимание конкретного мира производства. Сочетание научных и народных черт, увлечённости и знаний — вот в чём выражалось богатство рабочего мира до тех пор, пока капитализм, осознав потенциальную опасность и предварительно высосав всё это знание, не превратил рабочих в операторов, надсмотрщиков и в персонал, обслуживающий машины. Но даже здесь сохранилась рабочая энергия: тот, кто умеет запускать механизм, умеет и эффективно выводить его из строя. Впрочем, один человек не может самостоятельно освоить все технические средства, обусловливающие воспроизводство системы. На это способна только коллективная сила. Вот что сегодня значит создать революционную силу: совместить все миры и всю необходимую революционную технику, привести все технические познания к единой исторической силе, а не к системе управления.
Провал французского движения против пенсионной реформы осенью 2010 года преподал нам горький урок: причиной тому, что ВКТ{38} контролировала всю борьбу, было наше невежество в этой области. Ей всего-то нужно было заблокировать нефтеперерабатывающие заводы — отрасль, находящуюся у неё в полном подчинении, центр тяжести движения. Затем уже она могла в произвольный момент дать финальный свисток и открыть вентили нефтеперерабатывающих заводов, сняв таким образом напряжение в стране. На тот момент движению не хватало, собственно, минимального знания о физическом устройстве этого мира, знания, хаотично разбросанного по рукам рабочих, сосредоточенного в высоколобых черепушках нескольких инженеров и, разумеется, ставшего общедоступным на стороне противника, в очередной секретной военной организации. Если бы мы смогли прекратить поставку слезоточивого газа в полицейские участки, если бы мы смогли хоть на день заглушить телевизионную пропаганду, если бы смогли отключить властям электричество, то с уверенностью можно сказать, что-восстание не закончилось бы столь плачевно. Следует также учитывать, что главное политическое поражение восставшие силы потерпели отдав Государству (от лица которого выступили с требованиями префектуры) стратегически значимое право решать, кому бензин положен, а кому нет.
«Если сегодня вы хотите от кого-либо избавиться, нужно уничтожить его инфраструктуру», — совершенно справедливо заметил один американский университетский исследователь. Начиная со Второй мировой войны американские воздушные силы разрабатывали концепцию «инфраструктурной войны», считая самое обычное гражданское хозяйство лучшей мишенью для того, чтобы поставить противников на колени. Кстати, это объясняет, почему в современном мире стратегические инфраструктуры так основательно засекречиваются. Для революционных движений не имеет смысла блокировать инфраструктуру противника, если они при необходимости не могут воспользоваться ею в своих целях. Уничтожение технологической системы предполагает, что параллельно испытываются и приводятся в действие другие технические средства, при наличии которых эта система становится ненужной. Вернуться на землю значит для начала покончить с неосведомлённостью об условиях нашего существования.
Fuck off Google
1. Не существует «Facebook-революций», есть лишь новая наука управления, кибернетика
Эта родословная малоизвестна, и поделом: предшественником Twitter была программа под названием TXTMob, разработанная американскими активистами для координации действий по мобильному телефону во время демонстраций против Республиканской национальной конвенции в 2004 году. Тогда приложением пользовалось около пяти тысяч человек, в реальном времени передавая друг другу информацию о действиях и передвижениях полиции. Сам же Twitter, запущенный двумя годами позже, применялся для тех же целей, например, в Молдавии, а во время иранских демонстраций 2009 года приложение завоевало популярность как инструмент, необходимый для координации восстаний вообще, и в частности восстаний против диктаторских режимов. В 2011 году, когда беспорядки охватили Англию, до тех пор казавшуюся непоколебимой, журналисты придумали вполне логичную басню о том, что сообщения в Twitter способствовали распространению беспорядков, эпицентром которых стал Тоттенхэм.
Впрочем, как выяснилось, мятежники остановили свой выбор на Blackberry‚ телефонах с защищённым доступом, разработанных для топ-менеджеров банков и международных компаний. Ключа для расшифровки этих устройств не было даже у британских секретных служб. Кстати, после означенных событий группа хакеров взломала сайт Blackberry‚ чтобы убедить компанию — постфактум — не сотрудничать с полицией. Если в тот раз Twitter и способствовал самоорганизации, то разве что самоорганизации кучки граждан-дворников, которые добровольно вызвались убирать улицы и чинить повреждения после беспорядков и мародёрства. Эту инициативу провела и координировала организация Crisis Commons — «объединение добровольцев, которые создают и используют технические средства, помогающие противостоять бедствиям, повышать сопротивляемость и вырабатывать ответную реакцию на кризис». В ту пору французская левая газетёнка сравнивала это объединение с организацией, действующей в Пуэрта-дель-Соль во время так называемого «движения возмущённых». Казалось бы, совершенно абсурдное сравнение между инициативой, ориентированной на скорейшее восстановление порядка, и попыткой самоорганизации для обеспечения жизни нескольких тысяч человек на оккупированной площади под постоянным натиском полиции. Если только не видеть в этом два стихийных, виртуальных и гражданских действия. Начиная с “15M”, «возмущённые» испанцы — или по крайней мере значительная их часть — заявляли о своей вере в утопическое виртуальное гражданство. Для них социальные сети не только расширили движение 2011 года‚ но и в первую очередь заложили основы нового типа политической организации борьбы и общества: виртуальной, интерактивной, прозрачной демократии. Всё же весьма досадно, что «революционеры» разделяют эту идею с Джаредом Коэном, советником американского правительства по антитерроризму, который во время «иранской революции» 2009 года призвал компанию Twitter продолжать работу, несмотря на цензуру. Недавно Джаред Коэн написал в соавторстве с бывшим руководителем Google Эриком Шмидтом неприятнейшую политическую книгу “The New Digital Age”[24]. На первой же странице выведена фраза, поощряющая всеобщее заблуждение насчёт политических достоинств новых коммуникационных технологий: «Интернет — это крупнейший в истории анархистский эксперимент»{39}.
«В Триполи, Тоттенхэме или на Уолл-Стрит люди выступали против провальной современной политики и скудных возможностей, предоставляемых избирательной системой… Они потеряли доверие к правительству и к другим централизованным институтам власти… Нет разумного объяснения тому факту, что демократическая система сводит участие граждан единственно к голосованию. Мы живём в мире, где обычные люди редактируют “Википедию”, организовывают онлайн-демонстрации в виртуальном и в реальном мире — например, революции в Египте и в Тунисе или движение возмущённых в Испании, — и скрупулёзно изучают дипломатические сообщения, обнародованные WikiLeaks. Те же технологии, которые позволяют нам организовывать совместную работу на расстоянии, дают нам надежду на более эффективное самоуправление». Слова эти принадлежат вовсе не одном из тех «возмущённых», а даже если и так, то стоит отметить, что она долгое время паслась в Белом доме: Бет Новек руководила программой “Open Government”[25] в администрации Обамы. В основе этой программы лежала идея о том, что задача правительства должна заключаться в расширении контактов между гражданами и в предоставлении доступа к информации, скрытой в недрах бюрократического механизма. Так, по заявлению мэрии Нью-Йорка‚ «иерархическая структура, в которой правительство знает, что́ для вас хорошо, утратила актуальность. В этом веке новая модель опирается на совместное творчество и сотрудничество».
Неудивительно, что концепцию Open Government Data разработали не политики, а программисты, ревностные поборники программного обеспечения open source[26], вдохновившиеся идеей Отцов—основателей Соединённых Штатов Америки об участии «каждого гражданина в управлении». Здесь правительство ограничивается организаторской или даже кураторской функцией и в конечном итоге представляет собой «платформу, координирующую гражданскую деятельность». Проводится полная параллель с социальными сетями. «Как сделать так, чтобы город рассматривался в том же ключе, что и экосистема API{40} приложений Facebook или Twitter?» — вопрошает мэрия Нью- Йорка. «Это позволит нам в большей степени ориентировать практику управления на пользователя, поскольку наша задача — не только потребление, но и совместное формирование государственного аппарата и создание демократии». Допустим, эти тирады — лишь пустые разглагольствования, бред мозга, перетрудившегося в Силиконовой долине, однако они указывают на то, что управление всё меньше отождествляется с верховной властью государства. В эпоху соцсетей управлять значит обеспечивать взаимосвязь между людьми, предметами и машинами, а также беспрепятственный, то есть прозрачный, то есть контролируемый оборот выработанной таким образом информации. Но подобная деятельность уже в значительной степени осуществляется за рамками государственных механизмов, пусть даже последние всеми средствами пытаются удержать над ней контроль. Facebook, безусловно, не столько образец для новой формы управления, сколько уже действующий феномен. Сам факт, что революционеры организовывали и продолжают организовывать массовый выход людей на улицы при помощи сети Facebook, лишь доказывает, что иногда возможно использовать этот сайт вопреки его сути, вопреки его преимущественно полицейскому назначению.
Сегодня программисты проникают в президентские дворцы и в мэрии крупнейших городов мира, намереваясь не столько там устроиться, сколько объявить новые правила игры: отныне административные учреждения соперничают с другими субъектами, предоставляющими те же самые услуги и — к несчастью для первых — опережающими их на несколько шагов. Предлагая услуги облачного хранилища для защиты государственных служб от революций, эдакий кадастр, доступный теперь в виде приложения для смартфона, “The New Digital Age” наносит последний удар: «В будущем люди станут создавать не только резервные копии своих данных, но и “бэкап” правительства»{41}. И для тех, кто не понял, кто теперь тут boss, авторы заключают: «Может пасть правительство, может разрушиться физическая инфраструктура, но виртуальные институты выживут»{42}. В Google под видом невинного интерфейса, необычайно эффективной поисковой системы скрывается откровенно политический проект. Предприятие, наносящее на карту весь земной шар, рассылающее команды специалистов на каждую улицу каждого города, просто не может действовать в чисто коммерческих интересах. На карту наносят всегда лишь то, что планируют захватить. “Don’t be evil!”[27]: расслабьтесь.
Не без сожаления приходится констатировать, что в палатках, заполонивших Зукотти-парк, и в офисах отделов планирования — чуть ближе к небу Нью-Йорка — ответная реакция на катастрофу звучит одинаково: связь, сетевое сотрудничество, самоорганизация. Здесь видится признак того, что одновременно с созданием новых коммуникационных технологий, образующих теперь не только сеть на Земле, но и саму материю нашего мира, возобладала конкретная форма мышления и управления. Однако фундамент этой новой теории управления заложили, собственно, те же инженеры и учёные, которые разрабатывали технические средства для её применения. Дело было так: в 1940-х годах, когда у математика Норберта Винера заканчивался контракт с американской армией, он решил основать новую науку и дать новое определение человеку, его взаимоотношениям с миром и с самим собой. В этом начинании принял участие также Клод Шеннон, инженер из Bell и Массачусетского технологического института, чьи исследования в области выборок или измерения информации повлияли на развитие телекоммуникаций. К ним присоединился и удивительный человек по имени Грегори Бейтсон — гарвардский антрополог, работавший во время Второй мировой войны на американские спецслужбы в Юго—Восточной Азии, тонкий ценитель ЛСД и основатель исследовательской школы Пало-Альто. А также неистовый Джон фон Нейман, автор «Первого проекта отчёта о EDVAC» — ключевого текста в истории информатики, разработчик теории игр, ставшей основополагающим элементом неолиберальной экономики, сторонник превентивного ядерного удара по СССР, человек, который высчитал оптимальную точку для сброса бомбы на Японию и впоследствии неутомимо оказывал всевозможное содействие американской армии и тогда ещё совсем молодой организации под названием ЦРУ. Именно эти люди, внёсшие после Второй мировой войны немалый вклад в развитие новых коммуникационных технологий и средств обработки данных, и заложили основы той самой «науки», которую Винер назвал «кибернетикой». Веком ранее Ампер нашёл очень удачную формулировку для этого термина — «наука об управлении». Так, стало быть, возникло искусство управления. Истоки его уже почти забыты, однако его принципы проложили себе подземный путь, следуя за сетевыми кабелями, которые протягивались один за другим по всей поверхности земного шара, подпитывая информатику, а также биологию, искусственный интеллект, менеджмент и когнитивные науки.
С 2008 года мы переживаем отнюдь не резкий и неожиданный «экономический кризис», а медленное увядание политической экономики как искусства управления. Экономика никогда не была реальным явлением или наукой; она зародилась в XVII веке исключительно как способ управления населением. Во избежание бунтов нужно было предотвратить голод (вот почему решающую роль играло «зерно»), а также преумножить богатство, усилив таким образом власть монарха. «Самый надёжный путь для любого правительства — прислушиваться к интересам людей», — считал Гамильтон. Управлять значило, предварительно прояснив «естественные» законы экономики и запустив её слаженный механизм, побуждать людей к движению, воздействуя на их интересы. Слаженность, предсказуемость повелений, лучезарное будущее, предполагаемая разумность действующих лиц. Всё это предусматривало известную степень доверия, «кредитоспособность». Однако именно эти установки прежней управленческой практики и растоптало управление, основанное на идее постоянного кризиса. Мы живём не в эпоху масштабного «кризиса доверия,), а в эпоху утраты доверия, ставшего для правительства попросту ненужным. Там, где правят контроль и прозрачность, там, где поведение граждан можно предсказать в реальном времени при помощи алгоритмической обработки огромного количества доступной информации, нет необходимости в том, чтобы им доверять, или в том, чтобы доверяли они: необходимо лишь в достаточной мере за ними следить. Как говорил Ленин: «Доверие — хорошо, а контроль — лучше».
Кризис доверия в западной цивилизации — доверия к себе, уверенности в своих знаниях, в языке, в разуме, в либерализме, в гражданах, в окружающем мире — восходит к концу XIX века; он разразился во всех областях с приходом Первой мировой войны и продолжился в последующие годы. Кибернетика наложилась на эту открытую рану нового времени; она сулила излечение от экзистенциального, а следовательно, и правительственного кризиса на Западе. «Мы, — писал Винер, — жертвы кораблекрушения на погибающей планете <…>. Но даже при кораблекрушении человеческие законы и ценности не всегда идут ко дну, и нам следует использовать их наилучшим образом. Мы утонем, но пусть хотя бы так, чтобы эта смерть уже сейчас представлялась нам достойной нашего величия». Кибернетическое управление это управление по природе своей апокалипсическое. Оно стремится к тому, чтобы на местном уровне воспрепятствовать самопроизвольному, энтропийному, хаотичному движению мира, создать «островки порядка», стабильности и — быть может — установить вечное саморегулирование систем, обеспечив неограниченный, прозрачный и контролируемый оборот информации. «Коммуникация — это цемент общества, и люди, отвечающие за беспрепятственное сообщение, в первую очередь несут ответственность за долгоденствие или за крах нашей цивилизации», — заявлял со знанием дела Винер. Как и любой промежуточный этап, переход от прежней правительственности к кибернетике влечёт за собой фазу нестабильности, образует исторический просвет, в котором правительственность как таковая может потерпеть поражение.
2. Война против smart!
В 1980-е годы Терри Виноград — наставник Ларри Пейджа, одного из основателей Google‚ — и Фернандо Флорес, бывший министр экономики при Сальвадоре Альенде, писали, что машинное проектирование относится к явлениям «онтологического порядка. Оно воздействует на самые глубинные слои культурного наследия и выталкивает нас за пределы устоявшихся жизненных привычек, оказывая сильнейшее влияние на нашу сущность. <…> Эта деятельность безусловно рефлексивная и политическая». То же можно сказать и о кибернетике. Официально нами ещё управляет старая западная дуалистическая парадигма, в которой противопоставлены субъект и мир, индивид и общество, люди и машины, душа и тело, живое и неподвижное; и для большинства подобное противопоставление ещё имеет силу. В действительности же компьютеризированный капитализм опирается на некую онтологию, а следовательно, и антропологию, доступ к которой пока есть лишь у посвящённых. Рациональный западный гражданин, осознающий свои интересы, стремящийся к господству над миром и потому легко управляемый, уступает место кибернетической концепции существа без внутреннего наполнения, своего рода selfless self[28], Я без Я — зарождающегося климатического субъекта, за формирование коего отвечает внешняя среда и его взаимоотношения с окружающими. Это существо, вооружённое часами Apple Watch, способно воспринимать себя, ориентируясь исключительно на окружение, исходя из статистики, которую выстраивает каждая из его моделей поведения. Некое Quantified Self[29], готовое контролировать, измерять и отчаянно оптимизировать каждое своё движение, каждую эмоцию. Для самой продвинутой кибернетики уже не существует человека и окружающей среды, а есть лишь некое существо-система, входящее в свою очередь в совокупность сложных информационных систем, очагов процесса самоорганизации — существо, которое скорее вписывается в индо-буддийскую традицию срединного пути, нежели в теорию Декарта. «Для человека быть живым значит участвовать в обширной мировой системе коммуникации», — утверждал Винер в 1948 году.
Так же, как политическая экономия некогда породила homo æconomicus, управляемого в рамках индустриальных Государств, кибернетика порождает собственное человечество. Прозрачное человечество, которое выпотрошили проходящие через него потоки, человечество, наэлектризованное информацией и поддерживающее связь с миром через постоянно растущее количество приборов. Человечество, неотделимое от технологической среды, сформировавшей его и задавшей ему направление. Таков современный объект управления: не человек и его интересы, а его «социальная среда». Среда, образцом для которой послужил «умный» город. Умный — потому что он при помощи датчиков генерирует информацию, обработка которой в режиме реального времени обеспечивает самоуправление. Умный также потому, что он создаёт умных жителей, а они создают его. Если политическая экономия властвовала над людьми, поощряя свободу интересов, то кибернетика людей контролирует, предоставляя свободу коммуникации. «Мы должны переосмыслить социальные системы в контролируемых рамках», — заявил недавно какой-то преподаватель Массачусетского технологического института.
В брошюрах, которые IBM распространяет по муниципалитетам, пытаясь продать им средство контроля за потреблением воды и электричества или за дорожным транспортом, вы не найдёте самой ошеломляющей и в то же время самой реалистичной концепции города будущего. Это скорее та концепция, которая возникла изначально «в пику» оруэлловскому видению города: “smarter cities”[30], сформированные самими жителями (или по крайней мере наиболее активными пользователями Интернета). Другой преподаватель Массачусетского технологического института путешествует по Каталонии и с восторгом наблюдает за тем, как столица региона постепенно превращается в “fab city”[31]: «Сидя здесь, в самом центре Барселоны, я вижу, как образуется новый город, в котором у всех будет доступ к любым средствам, необходимым для того, чтобы он стал полностью автономным». То есть граждане — уже не низшие подчинённые, а smart people‚ «потребители и производители идей, услуг и решений», как говорит один из них. В пределах этой концепции город не может стать smart благодаря решениям и действиям центрального правительства, он возникает, точно некий «стихийный порядок», когда жители «начинают по-новому производить, соотносить и наделять смыслом собственные данные». Так зарождается жизнеспособный мегаполис, который может противостоять любым бедствиям.
За футуристическим обещанием мира с полным подключением предметов и людей к сети — мира, где машины, холодильники, часы, пылесосы и фаллоимитаторы будут напрямую подсоединены друг к другу и к Интернету — скрывается то, что существует уже сегодня: самое многофункциональное приёмное устройство уже введено в эксплуатацию, и это устройство — я сам. «Я» знает о моём местонахождении, настроении, мнении, моему «я» уже известен рассказ о том, какие невероятные или невероятно банальные вещи я сегодня видел. Я вернулся с пробежки и тотчас же разместил в соцсетях маршрут, время, результаты и оценку собственных достижений. Я без конца выкладываю в Интернет фотографии из отпуска, с вечеринок, с демонстраций, а также фотографии моих коллег, фотографии всего, что я собираюсь съесть, и всех, с кем я собираюсь переспать. Казалось бы, я ничего не делаю, а на самом деле я генерирую непрерывный поток информации. Независимо от того, работаю я или нет, моя повседневная жизнь как база данных полностью пригодна для использования. Я постоянно улучшаю алгоритм.
«Благодаря обширной сети датчиков нам удастся взглянуть на себя глазами всеведущего Бога. Впервые мы сможем нанести на карту точные данные, описывающие поведение человеческих масс — всё, вплоть до их повседневной жизни», — увлечённо говорит тот преподаватель Массачусетского технологического института. Огромные холодильные камеры, забитые информацией, — это кладовка нынешнего правительства. Копаясь в базах данных, которые создаются и постоянно обновляются на основе повседневной жизни пользователей Интернета, оно выискивает соответствия — но не для того, чтобы открыть законы вселенной или найти ответы на всевозможные «почему», а для того, чтобы определить «когда» и «что», то есть получить точные предсказания места и времени, своего рода прорицания оракула. Контроль за непредвиденным, управление неуправляемого вместо попыток ликвидации — вот намерение, о котором заявила кибернетика. Задача кибернетического управления заключается не только в том, чтобы составить прогноз — как во времена политической экономии и наметить схему действий, а в том, чтобы действовать напрямую в виртуальном пространстве, выстроив все возможные варианты. Несколько лет назад полиция Лос-Анджелеса обзавелась новой компьютерной программой под названием Prepol. обрабатывая огромное количество статистических показателей преступности, эта программа рассчитывает вероятность совершения того или иного преступления в каждом конкретном районе, на каждой конкретной улице. Исходя из производимых в реальном времени вычислений вероятности программа сама отдаёт приказы полицейским патрулям в городе. Основатель кибернетики написал в 1948 году в газете Le Monde: «Мы мечтаем о времени, когда машина для управления возместит к худу ли, к добру ли, кто знает? — ставшую сегодня очевидной нехватку лидеров и стандартных политических аппаратов». Каждая эпоха мечтает о следующей, даже если мечты одних превращаются в каждодневный кошмар других.
Массовый сбор личных данных нацелен вовсе не на индивидуальную слежку за каждым членом общества. Повсеместное внедрение в личное пространство служит не столько для создания индивидуальных досье, сколько для получения обширных статистических баз данных, которые представляют количественный интерес. Ведь намного эффективней сопоставить общие характеристики индивидов по их многочисленным «аккаунтам» и расписать возможные сценарии их действий. Данный индивид как таковой никого не интересует, важно лишь то, что позволяет провести вероятные линии схода. Преимущество наблюдения за аккаунтами, «событиями» и потенциальными направлениями состоит в том, что статистические единицы не бунтуют, а также в том, что люди всё ещё могут делать вид, будто за ними не следят, по крайней мере не за ними лично. Кибернетическая правительственность уже функционирует по совершенно новым принципам, а её сегодняшние подданные по-прежнему воспринимают себя как часть старой парадигмы. Мы полагаем, что наши «личные» данные принадлежат нам точно так же, как машина или ботинки, и что мы лишь пользуемся «личной свободой», сообщая информацию о себе полиции или же таким компаниям, как Google, Facebook, Apple и Amazon. При этом мы не понимаем, что это незамедлительно сказывается на тех, кто не желает предоставлять кому-либо доступ к личным данным и потому сразу же попадает в списки подозреваемых, возможных асоциальных элементов. «Понятно, — предупреждает “The New Digital Age”, — что в будущем, как и сегодня, некоторые люди не захотят пользоваться современными технологиями, онлайн-системами и смартфонами, иметь виртуальные профили. Власти могут решить, что им есть что скрывать, и в качестве контртеррористической меры создать своего рода реестр таких “людей-невидимок”. И если у вас нет ни одного зарегистрированного аккаунта социальных сетей и номера сотовой связи и почти невозможно найти ссылки на вас в Интернете, вас могут посчитать кандидатом на включение в такой реестр. А попав в него, вы станете объектом отдельного регулирования, включая более тщательный досмотр в аэропортах или даже ограничения на перемещения по миру»{43}.
3. Убогость кибернетики
Стало быть, службы безопасности теперь считают аккаунт в сети Facebook более надёжным источником информации, чем человек, предположительно за ним скрывающийся. Это весьма наглядное свидетельство того, насколько пориста граница между так называемым виртуальным и реальным пространством. В условиях ускоренного преобразования мира в цифровую информацию всё менее обоснованным кажется разделение между интерактивным и физическим миром‚ киберпространством и реальностью. «Посмотрите на Android, Gmail, Google Maps, Google Search. Вот что мы делаем. Мы производим товары, без которых невозможно жить», — говорят в Маунтин—Вью. Впрочем, в последние несколько лет круглосуточное присутствие в жизни людей устройств с выходом в Интернет задействовано определённые рефлексы самосохранения. В некоторых барах решили запретить использование гарнитуры Google Glass, в результате чего, кстати, популярность этих заведении неимоверно возросла. Повсюду проходят акции, призывающие регулярно отключаться от сети (раз в неделю, на выходные, на месяц), чтобы оценить степень зависимости от технических приборов и вновь «по-настоящему» ощутить реальность. Конечно же, такие попытки ни к чему не приводят. Приятные семейные выходные на море без смартфона воспринимаются в первую очередь как время, проведённое без Интернета, которое мгновенно проецируется на тот момент, когда можно будет вновь подключиться к сети и опубликовать рассказ об этом опыте в блоге.
Абстрактное взаимоотношение западного человека с миром материализуется в целом спектре приборов, в целой вселенной виртуальных воспроизведений, однако в конечном счёте это, как ни парадоксально, заново открывает путь к физическому присутствию. Поскольку мы от всего оторваны, то когда-нибудь мы оторвёмся даже от нашей оторванности. Назойливость технологий вернёт нам в итоге способность испытывать эмоции при виде простой, «беспиксельной» веточки жимолости. Когда от внешнего мира нас отгородили многочисленные экраны, только тогда, по контрасту, мы вновь научились воспринимать ни с чем не сравнимые краски чувственного мира и с восхищением смотреть прямо перед собой. Когда энное количество «друзей», которым нет до нас дела, поставили «лайк» на нашей странице в Facebook, а потом вволю над нами покуражились, только тогда к нам вернулось прежнее умение дорожить дружбой.
Поскольку не получилось создать компьютеры, способные сравняться с человеком, то следовало истощить человеческий опыт так, чтобы в жизни не оставалось больше ничего интересного, кроме её цифрового моделирования. В какую же пустыню нужно было превратить человечество, чтобы существование в социальных сетях того стоило? И аналогичным образом из путешественника нужно было сделать туриста, чтобы тот за свои же деньги согласился на голографическую экскурсию по миру, для которой не требуется даже вставать с дивана. Но первый же настоящий жизненный опыт вдребезги разобьёт эту убогую подделку. В конце концов кибернетику уничтожит именно её убожество. Для гипериндивидуализированного поколения, прошедшего первичную социализацию в социальных сетях, квебекская студенческая забастовка 2012 года принесла прежде всего ошеломляющее осознание той мятежной энергии, которая возникает просто от того, что люди собираются вместе и шагают по городу. Таких встреч с ними раньше не случалось, и эта взбунтовавшаяся дружба смогла прорвать даже полицейский кордон. Облавы здесь были бессильны: наоборот, они лишь позволили повстанцам по-новому испытать чувство единения. «Конец Я станет началом присутствия», — предсказывал Джорджо Чезарано в «Учебнике выживания»{44}.
Преимущество хакеров заключается в том, что они признают материальность так называемой виртуальной вселенной. По словам одного из участников Telecomix — хакерской группы, которая известна тем, что помогала сирийцам обойти государственный контроль за электронными сообщениями — хакер опережает своё время, поскольку он «считает своё новое орудие <Интернет> не замкнутым виртуальным миром, а продолжением физической реальности». Особенно ощутимо это сейчас, когда хакерское движение отходит от экранов и создаёт hackerspaces[32] пространства, где можно разбирать, создавать и разрабатывать компьютерные программы и приборы. Распространение и развитие сети Do It Yourself повлекло за собой новые амбиции: теперь все вокруг мастерят вещи, улицу, город, общество и даже жизнь. Отдельные невменяемые сторонники прогресса тотчас же увидели в этой тенденции предпосылки новой экономики, если не новой цивилизации, основанной на «совместном пользовании». Только ведь в нынешней капиталистической экономике уже ценится «творчество», оттесняющее пережитки индустриального прошлого. Менеджеров призывают поощрять инициативу, продвигать инновационные проекты, творческий подход, таланты и чуть ли не отклонения от нормы, потому как, дескать, «предприятие будущего должно поддерживать всё нестандартное, поскольку именно нестандартные решения ведут к инновациям и привносят рациональный элемент в неизведанное». Ценность товара на сегодня определяют не новые функциональные возможности и даже не его востребованность или назначение, а те переживания, которые он дарит потребителю. Так почему же не дать этому потребителю уникальную возможность оказаться по другую сторону творческого процесса? В таком контексте hackerspaces и fablabs[33] — это пространства, позволяющие осуществлять «проекты» «потребителей-новаторов» и формировать новые «рыночные возможности». В Сан-Франциско компания Techshop открыла своеобразный аналог фитнес-клубов — заведения с системой годовых абонементов, куда «люди приходят каждую неделю, чтобы делать вещи своими руками, создавать и разрабатывать собственные проекты».
Тот факт, что похожие организации финансируются из бюджета американской армии в рамках программы Cyber Fast Track‚ разработанной агентством DARPA (Defense Advance Research Project Agency[34]), в принципе не дискредитирует hackerspaces. Равно как и связь, существующая между движением Maker и мастерскими, в которых можно совместными усилиями собрать и починить промышленное оборудование, а также переделать его для других нужд, никоим образом не обязывает последних к участию в очередной реорганизации капиталистического производства. Комплекты для строительства деревни (наподобие оборудования Open Source Ecology, включающего пять десятков трансформируемых машин, таких как трактор, фрезерный станок, бетономешалка и т. д.), и модули для самостоятельной сборки жилья, могут служить и другим целям, помимо создания «маленькой цивилизации со всеми современными удобствами», а также «целостных экономических структур», «финансовых систем» или же «новой правительственности», о которой мечтает нынешний гуру движения. Городское сельское хозяйство, обустраиваемое — по примеру 1300 коллективных садов в Детройте — на крышах зданий и в пустующих промышленных зонах, вовсе не должно участвовать в экономическом возрождении или же «повышать жизнеспособность районов, пришедших в упадок». Акциям Anonymous / LulzSec и другим выступлениям против полиции, банков и международных шпионских или телекоммуникационных компаний стоило бы выйти за пределы виртуального пространства. Как сказал один украинский хакер: «Когда боишься за свою жизнь, довольно быстро перестаешь распечатывать всякие штуки в 3D. Нужно придумать новый план».
4. Техника против технологии
Здесь возникает пресловутый «вопрос техники», слепая зона сегодняшнего революционного движения. Один остряк, чьё имя роли не играет, так описал французскую трагедию: «преимущественно технофобская страна, где правят преимущественно технофилы»; всей страны это утверждение, может, и не касается, но для радикальных кругов оно точно справедливо. У большинства марксистов и постмарксистов естественная тяга к гегемонии сочетается с явным пристрастием к технике-которая-освобождает-человека‚ а анархисты и постанархисты в массе своей весьма довольны удобной позицией меньшинства, причём меньшинства угнетаемого, и, как правило, питают «к технике» неприязнь. В каждом лагере есть и свои шуты: негристским приверженцам киборгов, электронной революции, которую должны осуществить бесчисленные пользователи сети, противостоят антипромышленники, превратившие критику прогресса и «краха технократическои цивилизации» в довольно успешный литературный жанр и в узконаправленную идеологию — в эдакое тепленькое местечко, где можно пока переждать, коли никакой революционной возможности не предвидится. Технофилия и технофобия — адская парочка, связанная общим враньём о том, будто такая вещь, как техника вообще, существует. Дескать, всё в человеческой жизни можно разделить на технику и её отсутствие. Не тут-то было: достаточно лишь увидеть, насколько несовершенен человеческий детёныш при появлении на свет, как долго он учится передвигаться и говорить, и сразу становится понятно, что его отношения с миром вовсе не данность, а результат длительного процесса формирования. Поскольку в отношениях человека с миром не существует природной соразмерности, то они по сути своей искусственные, или, пользуясь греческим термином, технические. Любой человеческий мир — это установленный набор техник: кулинарных, архитектурных, музыкальных, духовных, компьютерных, сельскохозяйственных, эротических, военных и т. д. Вот почему нет какой-либо общей человеческой сущности: потому что есть лишь отдельные технические средства, и каждое из них образует собственный мир, воплощая тем самым некое взаимоотношение с этим миром, некую форму жизни. Следовательно, мы не «выстраиваем» форму жизни, мы накапливаем различные техники, глядя на примеры, вырабатывая навыки и получая знания. Вот ещё почему привычный мир редко представляется нам «техническим»: все образующие его средства — это уже часть нас, и только незнакомые элементы приобретают в наших глазах странные, искусственные черты. Техническую сторону собственного мира мы замечаем лишь в двух случаях: в момент изобретения и в момент «поломки». Лишь когда мы становимся очевидцами какого-либо открытия или когда что-то привычное исчезает, ломается или перестаёт работать, иллюзия естественного существования разбивается о неоспоримые доказательства обратного.
Нельзя свести технику к совокупности равноценных орудий, которыми Человек, это обобщённое существо, может пользоваться без последствий. Каждое орудие формирует и воплощает специфическое взаимоотношение с миром, оказывая влияние на того, кто его использует. Сотворённые таким образом миры неравнозначны, впрочем, как и населяющие их представители человеческого рода. И точно так же эти миры не поддаются иерархизации. Нет таких обстоятельств, при которых одни можно было бы назвать более «развитыми», чем другие. Они попросту разные, у каждого из них своё будущее и своя история. Чтобы построить иерархию этих миров, нужен некий негласный критерий, который бы позволил классифицировать различные виды техники. В случае прогресса таким критерием становится просто исчисляемая производительность техники, взятая отдельно от всех этических составляющих каждого конкретного технического средства, отдельно от того чувственного мира, который она порождает. По этой причине прогресс может быть только капиталистическим, и по этой же причине капитализм — это непрерывное уничтожение мира. К тому же если техника создаёт миры и формы жизни, это ещё не значит, что сущность человека заключается в производстве, как полагал Маркс. Вот что упускают из виду и технофилы, и технофобы: этическую природу каждого технического средства.
Здесь важно добавить следующее: весь ужас нашей эпохи не в том, что это «эра техники», а в том, что это эра технологии. Технология воплощает не вершину технического мастерства, а наоборот, отчуждение человека от разнообразных созидательных технических средств. Технология — это систематизация самой эффективной техники, а следовательно, — уравнивание миров и взаимоотношений с миром, которые формирует каждое из технических средств. Техно-логия представляет собой непрерывно реализуемое рассуждение о технике. Если идеология праздника убивает настоящий праздник, а идеология встречи обусловливает невозможность самой' встречи, то точно так же технология нейтрализует все отдельные технические средства. В данном смысле капитализм по сути своей технологичен: это выгодная организация, систематизация самых производительных технических средств. Его ключевая фигура — вовсе не экономист, а инженер. Инженер — это специалист, а значит, главный экспроприатор технических средств, человек, на которого не может повлиять никакая техника и который повсеместно распространяет собственную непричастность к миру. Это печальный и суровый образ. Как раз здесь, в культе инженера, и сходятся капитализм с социализмом. Именно инженеры разработали большинство моделей неоклассической экономики, вроде современных трейдинговых платформ. Напомним, что главным предметом гордости Брежнева был его опыт работы инженером на украинском металлургическом заводе.
Фигуре инженера последовательно противостоит фигура хакера, вопреки всем художественным, полицейским и коммерческим акциям, призванным её нейтрализовать. Там, где инженер ставит своей целью охватить все функционирующие устройства для того, чтобы они ещё эффективнее функционировали на благо системы, хакер пытается понять, «как это работает», находя слабые места технического средства, а также придумывая новые способы его применения и экспериментируя ‹: ним. Экспериментировать значит испытывать этические аспекты той или иной техники. Хакер вырывает технику из технологической системы для того, чтобы её освободить. Мы стали рабами технологии именно потому, что в нашей повседневной жизни существует огромное количество артефактов, которые мы причисляем к конкретно «техническим» и на которые неизменно смотрим как на простые чёрные ящики, считая себя лишь безобидными пользователями. Роль компьютеров в нападениях на ЦРУ сполна доказывает, что кибернетика занимается изучением компьютеров не больше, чем астрономия изучением телескопов. Понять, как работает любой из Окружающих нас приборов, значит моментально увеличить собственный потенциал, установив контроль над тем, что тотчас же перестаёт казаться просто средой и превращается в особое устройство мира устройство, на которое мы в состоянии воздействовать. Собственно, так и смотрит на мир хакер.
За последние годы хакерское сообщество проделало немалый политический путь, научившись яснее различать друзей и врагов. Однако его революционному становлению мешает несколько серьёзных препятствий. В 1986 году “Doctor Crash” писал: «Знаешь ты об этом, или нет, но если ты хакер, то ты — революционер. Впрочем, не волнуйся, ты на правильной стороне». Вряд ли подобная невинность теперь позволительна. Для хакерской среды характерна врождённая иллюзия, допускающая, что «свободу информации», «свободу Интернета» или «свободу личности» можно противопоставить тем, кто пытается их контролировать. Вот где главный промах. Свобода и контроль относятся к одной и той же парадигме управления. Бесконечное расширение механизмов контроля — это историческое следствие формы власти, осуществляющейся через свободу личности. Либеральным называется не то управление, которое воздействует непосредственно на физические тела граждан или ждёт от них сыновнего подчинения. Либеральное управление — это удалённая власть, предпочитающая организовывать пространство и руководить интересами, а не телами. Власть, которая следит, наблюдает и действует по минимуму, вмешиваясь лишь там, где под угрозой оказываются рамки, лишь в то, что заходит слишком далеко. Эта власть управляет исключительно свободными гражданами, причём всеми единовременно. Личной свободой нельзя потрясать перед правительством, поскольку она и есть тот механизм, на который правительство опирается, тот механизм, который оно выверяет как можно тщательнее, чтобы, объединив все эти свободы, получить желаемый массовый эффект. Ordo ab chao[35]. Правительство — это тот порядок, которому мы подчиняемся так же, «как едим, когда чувствуем голод, или укрываемся, когда замерзаем» — то самое рабство, которое я же и поощряю, пока гонюсь за счастьем и пользуюсь «свободой самовыражения». «Свобода рынка требует активной и крайне осторожной политики», — уточняя один из основателей неолиберализма. Для индивида существует лишь контролируемая свобода. Этого инфантильным либертариям не понять никогда, и именно этим непониманием либертарианская глупость так прельщает некоторых хакеров. По-настоящему свободное существо даже не называют свободным. Оно просто есть, оно существует, выражая себя в соответствии со своим естеством. О том, что животное на свободе, говорят лишь тогда, когда оно оказывается в полностью контролируемой, огороженной и цивилизованной среде: в устроенном по человеческим правилам парке для сафари. Английские слова “friend” и “free”, немецкие “Freund” и “frei” происходят от ОДНОГО индоевропейского корня, который отсылает к идее возрастающей коллективной силы. Быть свободными — то же самое, что поддерживать связь. Я свободен, потому что я связан с другими, потому что я участвую в реальности, гораздо более содержательной, чем я сам. В древнем Риме детей граждан называли liberi: за счёт них и расширялся Рим. Это доказывает, что личная свобода в духе «делаю что хочу» — лишь насмешка, надувательство. Если хакеры действительно хотят победить правительство, они должны отказаться от этого фетиша. Идея личной свободы — вот что мешает им образовать достаточно сильные группы, которые были бы способны разработать настоящую стратегию, не ограничивающуюся серией атак; та же идея обусловливает и их неумение поддерживать связь с кем-либо кроме себе подобных, неспособность перерасти в историческую силу. Один из членов группы Telecomix адресует своим товарищам такое предупреждение: «Несомненно одно: пространство, в котором вы живёте, отстаивают те, с кем вам следовало бы познакомиться. Потому что они меняют мир и дожидаться вас не станут».
Как показывает каждое очередное собрание Chaos Computer Club, ещё одна сложность для хакерского движения заключается в том, чтобы прочертить непосредственно внутри движения линию фронта между теми, кто работает на усиление эффективности правительства или даже на само правительство, и теми, кто работает над его свержением. Пришла пора занять сторону. Собственно, от ответа на этот первоочередной вопрос и пытается уйти Джулиан Ассанж, говоря: «Мы, деятели высоких технологий, представляем собой отдельный класс, и настало время признать себя классом». Недавно во Франции додумались до университета «этичных хакеров», который был основан под эгидой ГУВБ{45} для того, чтобы научить людей бороться с настоящим хакерами — теми, кто не отказался от хакерской этики.
Эти две проблемы пересекаются в одной ситуации, которую мы приняли особенно близко к сердцу в истории с группой хакеров Anonymous / LulzSec, осуществивших под наши всеобщие аплодисменты столько атак и теперь при аресте вынужденных, как Джереми Хаммонд, почти в одиночку нести наказание. В Рождество 2011 года LulzSec взломали сайт международной компании Stratfor занимающейся «частной разведкой». На главной странице возник английский перевод текста «Грядущего восстания», а с клиентских счетов было переведено 700 000 долларов во всевозможные благотворительные организации — такой вот рождественский подарок. И мы ничего не смогли сделать ни до, ни после их ареста. Конечно, выбирая подобные мишени, гораздо безопаснее действовать порознь или маленькой группой — что, очевидно, никак не гарантирует защиту от доносчиков — однако нас ужасает то, что такие чрезвычайно политизированные атаки, свидетельствующие о глобальных целях нашей партии, полиция сводит к какому-то преступлению частного характера, за которое можно осудить на несколько десятков лет тюрьмы и которое можно использовать как способ давления на того или иного «интернет—пирата» в попытке перевербовать его в правительственные агенты.
Давайте исчезнем
1. Странное поражение
Каждый, кто провёл те декабрьские дни 2008 года в Афинах, понимает, что́) для западного мегаполиса значит слово «восстание». Банки превратились в развалины, полицейские участки осаждены, город захвачен. Владельцы бутиков перестали чинить витрины: этим пришлось бы заниматься каждое утро. От обыденного полицейского царства не осталось и следа, его поглотила волна огня и камней, носители которой были повсюду, а представителей не было нигде подожгли всё, вплоть до рождественской ёлки на площади Синтагма. В какой-то момент силы правопорядка отступили: у них закончились гранаты со слезоточивым газом. И невозможно было понять, кто тогда завоевал улицу. Говорили, что это «поколение 600 евро», «старшеклассники», «анархисты», «шпана» отпрыски албанских иммигрантов, говорили всё подряд, что попало. Пресса винила, как всегда, “koukoulophoroi”, «людей в капюшонах». На самом деле эта безликая исступлённая волна оставила анархистов далеко позади. У них бесцеремонно отобрали монополию на яростные акции и на лица в масках, на воодушевлённые граффити и даже на коктейль Молотова. Массовый бунт, о котором они уже и не мечтали, стал вдруг реальностью, но он не имел ничего общего с картинами, нарисованными их воображением. На свет появилась неведомая сущность, эгрегор, который не мог успокоиться, пока не спалил дотла всё, что нужно. Время горело огнём, мы разбивали настоящее в отместку за украденное у нас будущее.
События, происходившие в Греции в последующие годы, научили нас тому, что́ для западной страны значит словосочетание «противоповстанческие меры». Когда волна утихла, сотни группировок, образовавшихся повсеместно, даже в самых маленьких деревушках, старались держаться поближе к той пробоине, которая появилась в декабре. Здесь грабили супермаркет и сжигали добычу, снимаясь на видео. Там посреди бела дня штурмовали посольство в знак солидарности с тем или иным товарищем, подвергавшемся преследованиям в родной стране. Некоторые, вспомнив семидесятые годы в Италии и задумав нанести удар на высшем уровне, нападали с бомбой или с огнестрельным оружием на афинскую Биржу, на полицейских, на целые министерства или даже на штаб-квартиру Microsoft. Как и в семидесятые годы, левое правительство ввело «антитеррористические» законы. Участились облавы, аресты, судебные процессы. На какое-то время всё свелось к борьбе с «репрессиями». Договорившись с социалистическим правительством, Европейский союз, Всемирный банк и МВФ постановили, что Греция должна заплатить за этот непростительный мятеж. Нельзя недооценивать злопамятность богачей, их обиду на дерзость бедных. Было решено наказать всю страну и ввести ряд «экономических» мер, по степени жестокости сравнимых с самим мятежом, но растянутых на более длительный срок.
В ответ на это по призыву профсоюзов были организованы десятки всеобщих забастовок. Рабочие захватили министерства, жители заняли мэрии, «принесённые в жертву» университетские кафедры и больницы решили самоорганизоваться. И было «движение площадей». 5 мая 2010 года по центру Афин шагали 500 000 человек. Неоднократно совершались попытки поджечь парламент. 12 февраля 2012 года состоялась очередная всеобщая забастовка в знак отчаянного протеста против очередного плана жёсткой экономии. В то воскресенье уже вся Греция — пенсионеры, анархисты, чиновники, рабочие и бездомные вышли на улицу: накал достиг высшей точки. И когда центр Афин снова полыхал, именно тогда, в тот вечер, случился приступ ликования и усталости: движение ощущало свою силу и при этом отдавало себе отчёт в том, что не знает, как её использовать. С течением лет‚ несмотря на тысячи прямых действий, на сотни захватнических акций, на миллионы греков, вышедших из домов, опьянение бунта задохнулось в ловушке «кризиса». Безусловно, угли продолжают тлеть под слоем пепла; движение вылилось в другие формы, создало кооперативы, общественные центры, «децентрализованные файлообменные сети»{46} и даже самоуправляющиеся заводы и медицинские учреждения; в каком—то смысле оно стало более «конструктивным». Но мы всё равно потерпели поражение, проигран ОДИН из самых крупных наступательных боёв, из всех, что наша партия провела за последние годы, нас разбили долгами, несоразмерными тюремными сроками и всеобщим банкротством. Бесплатное барахло не заставит греков забыть о том, с какой решимостью идеологи противоповстанческой кампании собирались утопить страну в нищете. Власть пошатнулась, и тогда — лишь на секунду — показалось, что её больше нет; но ей удалось переместить границы столкновения и повернуть движение вспять. Греков шантажировали, заставив выбирать между «правительством или хаосом», а получили они и правительство, и хаос. И нищету в довесок.
Со своим анархистским движением, развитым сильнее, чем в любых других странах, со своим непокорным народом, не признающим сам факт управления, со своим изначально обанкротившимся Государством Греция может служить хрестоматийным примером для всех наших проигранных восстаний. Задать трёпку полиции, разгромить банки и временно привести в замешательство власть ещё не значит её свергнуть. Случай Греции демонстрирует, что без чёткого представления о победе мы только и можем, что проигрывать. Одной решимости поднять восстание недостаточно; в наших рядах ещё слишком много путаницы. Так пусть уроки поражений хотя бы чуть-чуть её прояснят.
2. Пацифисты и радикалы — адское сочетание
Сорок лет победоносной контрреволюции на Западе заразили нас двумя болезнями-близнецами‚ Одинаково тяжёлыми по отдельности, но в совокупности образующими беспощадный аппарат. Это пацифизм и радикализм.
Пацифизм обманывает всех и в первую очередь себя, выдавая публичное обсуждение и ассамблею за основную, законченную политическую модель. Именно из-за этого такая сила, как движение площадей, оказалась неспособной сдвинуться с отсчётной точки. Чтобы понять, что на самом деле представляет собой политика, придётся снова вернуться в Грецию, но на этот раз в период античности. Ведь именно там политика и возникла. Пацифисты не горят желанием об этом вспоминать, но изначально древние греки изобрели политику как альтернативный метод продолжения войны. Принцип городской ассамблеи напрямую унаследован от военного собрания. Равное право слова происходит от равенства перед смертью. Афинская демократия — это гоплитская демократия. Гражданином человек мог быть лишь постольку, поскольку он был солдатом; отсюда и исключение женщин и рабов. В такой неистово агонистической культуре, каковой была культура классической Греции, даже дискуссия воспринимается как военное столкновение, происходящее — на этот раз между гражданами — в области слова, Где оружием служит искусство убеждения. Кстати, «агон» переводится как «ассамблея» и как «соревнование». Состоявшийся греческий гражданин — это человек, умеющий побеждать силой меча и слова.
Древние греки воспринимали и ассамблейную демократию, и войну прежде всего как организованную бойню, причём первое служило гарантией успешности второго. Впрочем, изобретение демократии признают за ними, как правило, умалчивая о её соотношении с разработкой довольно впечатляющего вида резни, а именно — фалангового боя, то есть такой формы строевого боя, где ловкость, мужество, смелость, сила и любые способности подменяются простейшей дисциплиной, полным подчинением индивида целому. Когда персы столкнулись со столь эффективной военной тактикой, которая ни во что не ставит жизнь пехотинца, они — как и множество других врагов, впоследствии потерпевших поражение от западных армий, — справедливо сочли её совершенно варварской. Таким образом, афинский крестьянин, который на глазах у своих близких героически идёт на смерть в первом ряду фаланги — это обратная сторона активного гражданина, принимающего участие в Буле. Обездвиженные руки трупов, усеивающих античное поле битвы, — это непременное условие, без которого не будет тех рук, что поднимаются в процессе обсуждения на собрании. Эта греческая модель войны так прочно укоренилась в западном сознании, что мы почти забываем об одной детали: пока гоплиты признавали победу за той из двух фаланг, которая в решающий момент битвы понесла наибольшее число потерь, но не сдала позиции, китайцы почти в то же самое время разрабатывали военную тактику, заключавшуюся в том, чтобы, наоборот, сократить потери, как можно дольше избегая прямого столкновения и пытаясь «выиграть битву без битвы» — даже если после победы поверженная армия всё равно полностью уничтожалась. Уравнение «война = вооружённое столкновение = резня» проделало путь от античной Греции до ХХ века: по сути, это извращённое западное представление о войне, существующее уже 2500 лет. А тот факт, что мы называем «войной с использованием иррегулярных вооружённых формирований», «психологической войной», «малой войной» или «герильей» тактику, которая во всех остальных частях света считается военной нормой, — лишь один из признаков этого извращения.
Искренний пацифист — а не тот, что пытается просто разумно обосновать собственную трусость, умудрился дважды ошибиться в природе феномена, с которым он предположительно борется. Во-первых, воину нельзя свести к военному столкновению или к резне, а во-вторых, как раз война и составляет основу политики ассамблей, за которую он ратует. «Истинный воин, — говорил Сунь Цзы, — не воинственен, истинный боец не жесток, а победитель избегает сражения». Два мировых конфликта и ужасающая всепланетная борьба с «терроризмом» показали нам, что самые кровопролитные кампании по истреблению людей проводятся во имя мира. Отказ от войны фактически выражает лишь инфантильное или старческое нежелание допускать существование инакости. Война — это не резня, а логика, стоящая во главе взаимоотношений между разнородными силами. Войну ведут повсюду, во всевозможных формах и зачастую пацифистскими средствами. Если есть несметное количество миров, несократимое множество жизненных форм, то война — это закон их сосуществования на Земле. Ведь никогда нельзя предсказать исход их встречи: противоположности не живут в изолированных мирах. Если мы — не целостные личности, обладающие неизменными чертами, как подразумевает распределение общественных ролей, а эпицентр борьбы между различными силами, расположение коих сулит лишь временное равновесие, то следует, наконец, признать, что война разворачивается у нас внутри — священная война, как говорил Рене Домаль. Мирное существование возможно настолько же, насколько оно нужно. Конфликт — это сама ткань сущего. Остаётся только освоить искусство конфликта, то есть искусство жизни в ситуациях, требующее скорее чуткости и экзистенциальной подвижности, нежели желания растоптать всё, В чём мы себя не узнаём.
Соответственно, пацифизм свидетельствует или о беспросветной глупости, или об отъявленном двуличии. Даже в нашей иммунной системе всё основано на отличии дружественного от вражеского, иначе бы мы давно передохли от рака или любого другого аутоиммунного заболевания. Хотя мы всё же умираем и от рака, и от аутоиммунных заболеваний. Тактический отказ от прямого столкновения — сам по себе лишь военная хитрость. Совершенно понятно, почему Коммуна Оахаки сразу же объявила себя пацифистской. Никто не собирался уклоняться от войны, необходимо было лишь избежать поражения в столкновении с мексиканскими властями и их головорезами. Как говорили наши каирские товарищи: «Не стоит путать тактику, к которой мы прибегаем, выступая за “отказ от насилия”, с превращением отказа от насилия в фетиш». Однако же как нужно исказить историю, чтобы найти людей, пригодных для роли предшественников пацифизма! Так и с беднягой Торо — ещё его труп не остыл, а его уже превратили в теоретика Гражданского неповиновения, обкорнав заголовок его книги «Resistance to civil government»{47}. Разве не писал он чёрным по белому в «Речи в защиту капитана Джона Брауна»: «Я считаю, что винтовки Шарп и револьверы в кои-то веки пошли в ход ради благого дела. Оружие оказалось в руках тех, кто умел им пользоваться. Тот же гнев, что однажды уже прогнал неугодных из храма, ещё раз сослужит свою службу. Вопрос заключается не в том, каким будет оружие, а в том, с какой мыслью его возьмут в руки»?{48} Но больше всего веселит в этой ложной генеалогии то, что из Нельсона Манделы, главного организатора вооружённой борьбы АНК{49}, сделали вселенскую икону мира. Вот что сообщает он сам: «Я сказал, что время пассивного сопротивления прошло, что стратегия отказа от насилия бесполезна и что она никогда не свергнет белое меньшинство, готовое держаться за власть любой ценой. Я сказал, что насилие — это единственное оружие, которое уничтожит апартеид, и что мы должны быть готовы применить его в ближайшем будущем. Толпа ликовала, громче всех аплодировали и кричали молодые люди. Они были готовы к действию, о котором я говорил. Тогда я запел песню о свободе, и в ней были такие слова: “Вот наши враги, возьмёмся за оружие и ринемся в бой”. Я пел и толпа стала подпевать, а в конце я указал на полицию и сказал: “Смотрите, вот они, наши враги!”».
Десятилетия усмирения масс и нагнетания массовых страхов превратили пацифизм в стихийное политическое сознание гражданина. Теперь с этим печальным положением дел приходится сражаться при каждом шаге. На пацифистов, которые Сдавали полиции одетых в чёрное повстанцев, мы насмотрелись на площади Каталонии в 2011 году, а в 2001 году мы видели, как они линчевали «Чёрный блок» в Генуе. В качестве ответной реакции революционные круги выработали, точно некое антитело, образ радикала — того, кто во всём противостоит гражданину. Один налагает на насилие моральный запрет, а второй отвечает чисто идеологическим оправданием насилия. Там, где пацифист пытается заявить о своей непричастности к мировым событиям и сохранить репутацию положительного героя, не совершившего ничего дурного, радикал заявляет о своей полной непричастности к «существующему миропорядку», предпринимая мелкие нелегальные действия, приукрашенные бескомпромиссными «принципами». Оба стремятся к безупречности, один — при помощи насилия, другой — от насилия отказываясь. Друг для друга они бельмо на глазу. Неизвестно, долго ли бы эти две фигуры продержались, если бы они не оттеняли друг друга. Как будто радикал живёт лишь затем, чтобы вызывать у пацифиста дрожь, и наоборот. Неслучайно с 1970-х годов Библией американской гражданской борьбы стала книга Саула Алинского “Rules for Radicals”[36]. Дело в том, что пацифистов и радикалов объединил общий отказ от мира. Они наслаждаются собственной внешней позицией по отношению к любой ситуации. Они наблюдают сверху, упиваясь при этом чувством невесть какого превосходства. Они предпочитают жить как инопланетяне — по крайней мере, такую роскошь пока ещё позволяет столичная жизнь, их излюбленный биотоп.
После провала 1970-х годов вопрос нравственности радикального подхода мало-помалу сменился вопросом революционной стратегии. Иными словами, революцию в эти десятилетия постигла та же участь, что и всё остальное: её приватизировали. Она превратилась в повод для самоутверждения, причём критерием оценки здесь служит радикальность. Значимость «революционных» действий больше не связана с ситуацией, которой они соответствуют, или с возможностями, которые они предоставляют или ограничивают. Теперь из каждого действия извлекается форма. Определённый саботаж, организованный в определённый момент, определённым образом, по определённой причине, становится просто каким-то саботажем. А саботаж — как шаблонная революционная практика — исправно вписывается в шкалу, где коктейль Молотова стои́т выше бросания камней, но ниже выстрела в коленную чашечку, который в свою очередь не сравним с бомбой. Беда в том, что само по себе ни одно из этих действий не является революционным: методом саботажа пользовались и реформисты, и нацисты. Степень «насилия», которую допускает движение, не говорит ровным счётом ничего о его революционной устремлённости. Количество разбитых витрин не показатель «радикальности» акции. А даже если и так, тогда пусть критерий «радикальности» заботит тех, кому охота измерять политические феномены и выстраивать их на схематичной нравственной шкале.
Человек, впервые попавший в радикальные круги, с удивлением обнаруживает несоответствие между словом и делом этих людей, между их стремлениями и их разобщённостью. Кажется, будто они целиком посвятили себя какому-то вечному самоуничтожению. Очень быстро начинаешь понимать, что настоящую революционную силу они создать не в состоянии и вместо этого устраивают некую самодостаточную гонку за радикальность: как в прямых действиях, так и на феминистской или экологической арене. Распространённый среди радикалов мелкий террор, лишающий их гибкости, не похож на террор большевиков. Скорее это давление моды — давление, которое никто ни на кого не оказывает, но которое действует на всех. В этих кругах люди боятся быть недостаточно радикальными, как в других сообществах боятся быть немодными, некрутыми или непопулярными. Сложно ли испортить репутацию? Содержанием жертвуют ради поверхностного потребления теорий, демонстраций и взаимоотношений. Непримиримая конкуренция между группами, равно как и внутри групп, регулярно их уничтожает. Но всегда найдётся свежая, молодая и угнетаемая плоть, готовая прийти на смену всем истощённым, изувеченным, пресытившимся, выпотрошенным. Впоследствии у всех сбежавших из радикального лагеря голова идёт кругом: как можно было мириться с таким калечащим давлением ради столь смутных целей? Примерно то же, должно быть, чувствует при воспоминании о своей прошлой жизни какой-нибудь измотанный управленец, подавшийся в булочники. Отчуждённость — структурный признак этих сообществ: от окружающего мира они отгородились критерием радикальности; они перестали замечать сами явления и видят лишь их измеряемые показатели. На известном этапе самопожирания начинается состязание в критике, направленной против самих же радикальных сообществ, однако на их структуре это никак не отражается. «Нам кажется, писал Малатеста, — что по-настоящему душит свободу и убивает инициативу именно обессиливающее отчуждение». Стало быть, тот факт, что часть анархистов объявляет себя «нигилистами», представляется весьма закономерным: нигилизм — это неспособность верить в то, во что мы тем не менее верим, в данном случае — это вера в революцию. Впрочем, нет нигилистов, есть лишь импотенты{50}.
Радикал, считающий себя источником радикальных действий и слов, в конце концов придумал себе чисто количественный образ революции — своего рода кризис перепроизводства индивидуальных протестных акций. «Не стоит упускать из виду‚ — писал ещё Эмиль Анри, — что революция возможна только как итог всех отдельных восстаний». Однако история доказывает нам обратное: революция — будь то французская, русская или тунисская — каждый раз совершается в результате столкновения между отдельным действием — взятием тюрьмы, военным поражением, самоубийством уличного торговца фруктами — и общей ситуацией, а вовсе не как арифметическая сумма разрозненных акций протеста. Тем временем это абсурдное понимание революции наносит ожидаемый вред: все силы уходят на бесполезные выступления, возникает убийственный культ производительности, диктующий необходимость постоянно, здесь и сейчас, доказывать свою принадлежность к радикализму: на демонстрации, в любви или в разговорах. Это продолжается уже некоторое время — время burn out[37], депрессии или репрессий. И ничего не меняется.
Если накопления революционных действий недостаточно для разработки стратегии, то это потому, что не бывает какого-то абстрактного действия. Революционность действия оценивается не по его содержанию, а по тому, к каким последствиям оно приводит. Именно ситуация, а не намерение действующего лица, определяет смысл совершённого. Сунь-Цзы говорил, что «о победе нужно просить обстоятельства». Любые обстоятельства — это сложная ситуация, пронизанная силовыми линиями, напряжением, явными или скрытыми конфликтами. Принять существующую войну и выработать стратегию значит непредвзято относиться к обстоятельствам, понять их изнутри, прояснить формирующее их соотношение сил и полюсов. Действие становится или не становится революционным лишь благодаря тому смыслу, который оно обретает при соприкосновении с миром. Бросая камень, мы всегда не просто «бросаем камень». Подобный жест может приостановить развитие ситуации или развязать интифаду. Сама же мысль о том, что якобы можно «радикализировать» борьбу, привнеся в неё ворох предположительно радикальных методов и теорий, — это логика инопланетян. Любое движение существует лишь за счёт ряда последовательных перемещений. Поэтому между его состоянием и его потенциалом всегда будет присутствовать некий разрыв. Если же оно перестаёт перемещаться и реализовывать потенциал, то оно погибает. Таким образом, решающий жест всегда немного опережает положение движения и, нарушая статус-кво‚ открывает ему доступ к его собственному потенциалу. Этим жестом может быть что угодно: можно захватывать, громить, бить или же просто говорить правду _ но критическую роль играет именно положение движения. Революционное явление — это явление, действительно приводящее к революциям. Если же его можно оценить лишь задним числом, то достаточная чувствительность к ситуации, подкреплённая историческими знаниями, во многом помогает его предугадать.
Так что пусть о радикальности пекутся депрессивные персонажи, Девушки{51} и неудачники. Настоящая задача революционеров — приумножить живые силы, к которым они принадлежат, и подготовить революционные перспективы, чтобы прийти наконец к революционной ситуации. Все те, кто самозабвенно и категорично противопоставляет «радикалов» «гражданам», а «действующих мятежников» пассивному населению, создают препятствие для этих перспектив. В этом они предвосхищают работу полиции. В нынешние времена основной революционной добродетелью должно стать чувство меры, а не абстрактная радикальность; причём под чувством меры мы понимаем умение формировать революционные перспективы.
Одним из выдающихся достижений в борьбе за долину Валь-ди—Суза стало то, что тогда удалось вывести значительное количество радикалов из образа, который они себе с таким трудом создавали. Эта борьба заставила их вернуться на землю. Открыв глаза на реальное положение дел, они смогли сбросить с себя бо́льшую часть идеологического скафандра, за что, конечно же, подверглись нескончаемым нападкам со стороны тех, кто безвылазно сидел в этой душной межпланетной радикальности. Вероятно, причиной тому — уникальная черта, которую приобрела эта борьба: умение избегать тех рамок, в которые её пыталась заключить власть, будь то рамки экологического движения законопослушных граждан или же авангарда вооружённого насилия. Чередуя семейные демонстрации с нападениями на строительную площадку TAV, прибегая то к саботажу, то к сотрудничеству с мэрами долины, объединяя анархистов с набожными старушками, эта борьба была революционной хотя бы потому, что ей до сих пор удавалось нейтрализовать адское сочетание пацифизма и радикализма. «Действовать из политических соображений, — рассуждал перед смертью один щёголь—сталинист, — это действовать, а не подвергаться воздействию, это осуществлять политику, а не вновь и вновь поддаваться её влиянию. Это вступать в бой, во множество боёв, развязывать войну, собственную войну с военными целями, ближайшими и дальнейшими перспективами, стратегией, тактикой».
3. Управление как противоповстанческая мера
«Гражданская война, — по словам Фуко, — это матрица всех видов борьбы за власть, всех стратегий власти, а следовательно, и матрица всех сражений из—за власти и против неё»{52}. Он добавлял: «Гражданская война не только инсценирует коллективные элементы, но и создаёт их. Отнюдь не являясь процессом, при помощи которого осуществляется переход от республики к индивидуальности, от властителя к естественному состоянию, от коллективного порядка к войне всех против всех, гражданская война представляет собой процесс, путём которого и при помощи которого образуется определённое количество новых, ранее не существовавших общностей»{53}. Фактически в таком ракурсе и разворачивается любой вид политического существования. Уже потерпевший поражение пацифизм и радикализм, делающий всё, чтобы потерпеть поражение, — лишь два способа этого не замечать. Не замечать того, что в войне, по сути, нет ничего военного. Что жизнь основана на стратегии. По иронии, единственные, кто в наше время способен увидеть войну там, Где она по-настоящему ведётся, а значит и раскрыть ту плоскость, в которой действует любое правительство, — это сами же контрреволюционеры. Удивительно, что в последние полстолетия люди, не имеющие отношения к военному делу, начали отвергать любые проявления войны, а военные в то же самое время принялись разрабатывать немилитаристскую, гражданскую концепцию войны.
Вот несколько произвольных примеров из работ современников:
Действие коллективного вооружённого конфликта постепенно распространилось с поля битвы на всю землю. Также и сроки его теперь затягиваются до бесконечности: нет ни объявления войны, ни перемирия. <…> Поэтому современные стратеги подчёркивают, что победа в сегодняшнем мире сводится к завоеванию симпатии населения, а не его территории. К подчинению нужно стремиться через добровольное присоединение, а к добровольному присоединению — через уважение. Действительно, признания нужно добиваться у каждого внутри — там, где сегодня устанавливаются социальные взаимосвязи между человеческими сообществами. Всемирная унификация раздела их догола, глобализация захватила их, телекоммуникации пронзили их насквозь, и теперь военный фронт расположен внутри у каждого члена сообществ. <…> Эту фабрику пассивных сторонников можно описать формулой: «Фронт во всех душах, и ни души на всех фронтах». <…> Вся политико—стратегическая задача этой невоюющей и немирной планеты, которая препятствует какому—либо классическому военному или юридическому разрешению конфликта, заключается в том, чтобы помешать пассивным сторонникам, находящимся на грани действия, на пороге войны, стать активными сторонниками (Лоран Данэ, «Полемосфера»){54}.
Сегодня, когда война вышла за пределы наземных, морских, воздушных, космических и электронных пространств, перейдя в общественную, политическую, экономическую, дипломатическую, культурную и даже психологическую сферы, взаимодействие между различными факторами сильно усложняет сохранение приоритета военной области во всех войнах. Мысль о том, что война может начаться в невоенных сферах, чужда разуму, и её сложно принять, однако, судя по происходящим событиям, такова сегодняшняя тенденция. <…> В этом смысле не существует больше такой сферы жизни, которую нельзя было бы использовать в военных целях, и почти нет больше областей, в которых не проявлялись бы агрессивные признаки войны (Цяо Лян и Ван Сянсуи, «Неограниченная война»).
Вероятная война происходит не «между» обществами а «внутри» обществ. <…> Поскольку теперь целью является человеческое общество, его управление, общественный договор, институты, а не конкретная местность, река или граница, то нет больше линии или территории, которую необходимо захватить или отстоять. Единственный фронт, где участвующие силы не должны сдавать позиций, — это население. <…> Выиграть войну значит контролировать среду <…>. И теперь суть не в том, чтобы следить за танковыми группировками и распознавать потенциальные мишени, а в том, чтобы понимать общественную среду, поведение, психологию. Нужно оказывать влияние на человеческие стремления, избирательно и пропорционально применяя силу. <…> Военные действия стали в буквальном смысле «оборотом речи»; сегодня любая крупная операция это прежде всего коммуникационная операция, где все действия, даже самые несущественные, говорят громче слов. <…> Вести войну значит прежде всего управлять восприятием — восприятием всех участников: приближенных и удалённых, действующих напрямую или опосредованно (Венсан Депорт‚ «Вероятная война»){55}.
Развитые постмодернистские общества стали чрезвычайно сложными и, как следствие, очень неустойчивыми. Чтобы предотвратить их крушение в случае «аварии», нужно в обязательном порядке их децентрализовать (спасение придёт со стороны, а не из учреждений). <…> Следует опираться на местные силы (отряды самообороны, военизированные формирования, частные военные организации), во-первых, исходя из практических соображений: потому что они ориентируются в обстановке и знают местных жителей, во—вторых, потому что со стороны Государства это — знак доверия, объединяющий и укрепляющий различные инициативы, и наконец, в особенности потому, что им лучше удаётся находить адекватные и в то же время оригинальные (нестандартные) решения в затруднительных ситуациях. Иными словами, ответная реакция на нетрадиционную войну должна исходить в первую очередь от граждан и военизированных формирований, а не от полиции и армии. <…> Если Хезболла сумела занять ключевые позиции на международной арене, если неосапатистское движение смогло перерасти в альтернативу неолиберальной глобализации, то приходится признать, что «местное» может взаимодействовать с «глобальным» и что это взаимодействие так или иначе стало стратегическим отличием нашей эпохи. <…> Итак, ответом на локально-глобальное взаимодействие должен быть другой, аналогичный вид взаимодействия, опирающийся не на государственный аппарат (дипломатию, армию), а на единицу местного значения — на гражданина (Бернар Вишт, «К косому порядку: борьба с незаконными военными формированиями в эпоху информационной войны»){56}.
После этих высказываний несколько иначе воспринимается функция отрядов граждан-дворников, призывы к доносам после массовых беспорядков, произошедших в августе 2011 года в Англии, или же внедрение в греческую политическую игру — и последующее исключение из неё, когда «питбуль слишком вырос» — фашистов Золотой Зари. Уже и не говоря о недавнем вооружении гражданских ополченцев, которое провели федеральные мексиканские власти в штате Мичоакан. Происходящее можно подытожить примерно так: борьба с повстанческими движениями перешла из военной доктрины в принцип управления. В одной из американских дипломатических телеграмм, обнароцованных WikiLeaks, так и говорится: «Программа усмирения фавел включает в себя некоторые основы доктрины и стратегии противоповстанческой борьбы, которую США осуществляли в Афганистане и в Ираке». В конечном счёте вся эпоха сводится к этой борьбе, к этому состязанию в скорости между потенциальным восстанием и сторонниками противоповстанческих мер. Впрочем, именно это и должен был скрыть беспримерный приступ политической болтовни, охвативший Запад после «арабских революций». Скрыть, например, тот факт, что решение Мубарака перерезать в самом начале беспорядков все коммуникации в рабочих кварталах — это вовсе не прихоть испуганного диктатора, а буквальное следование пунктам доклада НАТО «Urban operations in the year 2020»[38]
Не существует мирового правительства; есть лишь мировая система механизмов местного управления, то есть всемирный аппарат, глобальная сеть противоповстанческой борьбы. Информация, обнародованная Сноуденом, в полной мере это подтверждает: секретные службы, международные компании и политические структуры беззастенчиво сотрудничают друг с другом, причём даже без оглядки на государство, до которого сейчас никому нет дела. И в этом смысле не существует больше центра и периферии, внутренней безопасности и внешних операций. Те опыты, которые сейчас ставятся в отдалённых странах, предназначены так или иначе для собственного народа: войска, истреблявшие парижский пролетариат в июне 1848 года‚ набили руку на «уличных боях», налётах и поджогах во время колонизации Алжира. Итальянские горные стрелковые отряды, едва вернувшись из Афганистана, тотчас же отправились в долину Валь-ди-Суза. В западном мире применение вооружённых сил на внутренней территории при значительных беспорядках уже не только не табу, но и давно отлаженный сценарий. Начиная с кризиса здравоохранения и вплоть до неотвратимого теракта — общественность планомерно муштровали. Сейчас везде проходят репетиции городских боев, «усмирения», «постконфликтной стабилизации»: так готовятся к завтрашним восстаниям.
Стало быть, нужно трактовать противоповстанческие доктрины как теорию войны, которая ведётся против нас. Эти доктрины — в сочетании со множеством других факторов — очерчивают наше общее положение в сегодняшнем мире. Их следует рассматривать как качественный скачок в концепции войны, который мы не можем не учитывать, и в то же время как кривое зеркало. Несмотря на то что доктрины контрреволюционной войны были разработаны с учётом целого ряда революционных доктрин, мы не можем действовать от противного и выдвигать какие-либо теории восстания, основанные на теории противоповстанческой борьбы. Вот где логическая ловушка. Уже недостаточно вести малую войну, заставая противника врасплох и сбивая его прицел. Даже эту асимметрию нивелировали. В военном деле, а также в вопросах стратегии нам недостаточно просто навёрстывать упущенное: мы должны вырваться вперёд. Нам нужна такая стратегия, которая была бы нацелена не на самого противника, а на его стратегию и против него же её бы и направляла. Чтобы чем больше противник рассчитывал на победу, тем вернее он устремлялся к поражению.
Противоповстанческие меры превратили само общество в театр военных действий, однако это вовсе не значит, что назревающая война должна быть — на радость некоторым анархистам — «социальной». Основной недостаток этой концепции заключается в том, что смешивая в одном понятии наступательные действия «Государства и Капитана» и операции их противников, она помещает диверсантов в условия симметричной войны. Битьё окон в офисе Air France в отместку за высылку нелегальных иммигрантов объявляется «социальной войной» и ставится на одну доску с серией арестов, проведённых среди активистов, которые выступают против центров содержания иностранцев. Безусловно, некоторые сторонники «социальной войны» действуют с очевидной решимостью, соглашаясь сражаться лицом к лицу с Государством на территории — в «социальной сфере» — которая всегда принадлежала только ему. Правда соотношение сил здесь асимметрично. И разгром неизбежен.
Идея социальной войны — это всего лишь неудачная модификация «классовой борьбы», особенно учитывая, что сейчас положение каждого участника производственных отношений потеряло формальную определённость, характерную для фордовского завода. Иногда кажется, будто революционерам не остаётся ничего другого, кроме как организовываться по тому же образцу, против которого они выступают. Соответственно, как обобщая в 1871 году один из членов Международного товарищества трудящихся, если хозяева во всём мире сплотились как класс для защиты своих интересов, то и пролетариат всего мира должен объединиться как рабочий класс для защиты своих интересов. По логике одного из членов тогда ещё молодой большевистской партии, царский режим представлял собой упорядоченный, иерархический военно-политический аппарат, а значит, и Партия тоже должна образовать упорядоченный, иерархический военно-политический аппарат. Можно привести немало — одинаково трагичных — примеров подобного проклятия симметрии. Взять хотя бы алжирский Фронт национального освобождения, который ещё до победы был по своим методам необычайно похож на противостоящих ему колонизаторов. Или же Красные бригады, решившие, что если они убьют пять десятков человек, которые олицетворяли, по их мнению, «самое сердце Государства», то им удастся захватить всю систему целиком. Сегодня же самые ошибочные, слабоумные суждения об этой бедственной симметрии слышатся из уст новых левых: дескать, обширной Империи, образующей сеть и вместе с тем имеющей в своём распоряжении командные пункты, нужно противопоставить такие же обширные массы, точно так же образующие сеть и вместе с тем имеющие в распоряжении бюрократию, способную, когда придёт срок, занять командные пункты.
При такой симметрии мятеж обречён на провал не только потому, что он превращается в мишень, подставляя узнаваемое лицо, но и прежде всего потому, что он в итоге перенимает черты противника. Чтобы убедиться в этом, откроем, к примеру, работу Давида Галюлы «Как вести противоповстанческую борьбу. Теория и практика». Там подробно и методично описываются этапы достижения окончательной победы проправительственных сил над любыми повстанцами. «Наиболее полно повстанческим целям отвечает та идея, которая по определению может привлечь максимум сторонников и вызвать минимум возражений у противников. <…> Проблема не обязательно должна стоять остро, однако в таком случае задача повстанца упрощается. Если же проблема выражена слабо, то повстанцу в первую очередь нужно обострить ситуацию, “повысив уровень политического сознания масс”. <…> Действия повстанца не сводятся к одной идее. Если только он не нашёл некоей универсальной, самодостаточной идеи наподобие антиконониализма, охватывающей все вышеописанные политические, общественные, экономические, расовые, религиозные и культурные аспекты, то ему имеет смысл выдвинуть целый ряд идей, заточенных под различные социальные группы, которые он намерен привлечь»{57}.
Что представляет из себя «повстанец» у Галюлы? Не более чем искривлённое отражение политика, чиновника или западного рекламщика: это циник, в любой ситуации выбирающий роль стороннего наблюдателя, лишённый каких—либо искренних чувств, кроме чрезмерного стремления к господству. Повстанец, с которым офицер Галюла умеет бороться, отчуждён от всего мира и лишён всякой веры. С точки зрения Галюлы, восстание никогда не зарождается в народе, думающем, в общем—то, только о безопасности и готовом следовать за теми, кто обеспечивает ему лучшую защиту, или за теми, от кого исходит меньшая угроза. Население — лишь пешка, инертная масса, трясина на том поле, где воюет несколько элит. Кажется невероятным, что представления власти о повстанце до сих пор вращаются вокруг фанатика и ушлого лоббиста, но не меньше удивляет и желание многих революционеров надеть эти малопривлекательные маски. Извечное симметричное представление о войне, извечное «асимметричное» представление о группках, которые отвоёвывают друг у друга право контролировать население и которые при этом всегда от него обособлены. В том, по сути, и состоит роковая ошибка противоповстанческих сил: они весьма удачно устранили асимметрию, вызванную тактикой герильи, однако всё ещё продолжают лепить образ «террориста» по своему подобию. И в том же заключается наше преимущество — по крайней мере при условии, что воплощать этот образ мы не будем. Вот что должно стать отправной точкой любой эффективной революционной стратегии. Подтверждением тому служит провал американской стратегии в Ираке и в Афганистане. Противоповстанческие силы так грамотно переманили «население», что администрации Обамы приходится ежедневно с хирургической точностью убивать всё, что с высоты полёта дрона напоминает повстанца.
4. Онтологическая асимметрия и счастье
Война повстанцев с правительством должна быть асимметричной потому, что между ними существует онтологическая асимметрия, и потому, что у них разное понимание самого слова «война», её методов и задач. Мы, революционеры, стали целью и мишенью в том непрерывном наступательном бою, в который переросли действия правительства. Мы и есть те «сердца и умы», что подлежат завоеванию. Мы и есть та толпа, которую собираются «контролировать». Мы и есть та среда, из которой выходят правительственные деятели и которую они намереваются обуздать, а вовсе не их соперники в гонке за властью. Мы не сражаемся в народе, «как в воде с рыбой»; мы — сама вода‚ в которой барахтаются наши враги — быстрорастворимая рыба. Мы не сидим в засаде, не прячемся среди плебеев, ибо плебеи прячутся среди нас. Жизненная энергия и отчуждение, ярость и хитрость, правдивость и притворство — всё это бьёт ключом из нас, из самой глубины. Нет людей, которых надо организовывать. Мы и есть тот материал, что разрастается изнутри, организовывается и развивается. Вот где кроется асимметрия, а также наша настоящая сила. Те, кто с помощью террора или эффектных выступлений преобразует собственные убеждения в экспортируемый товар — вместо того, чтобы работать с имеющимся здесь и сейчас, — лишь отрываются от самих себя, от своих корней. Не стоит биться с врагами за «поддержку населения» или за его потворствующее бездействие: нужно сделать так, чтобы населения больше не было. Население превратилось в предмет управления лишь тогда, когда из него сделали продукт управления. Оно перестанет существовать как таковое, если им нельзя будет управлять. Вот цель того тайного боя, что завязывается после каждого мятежа: разрушить возникшую, уплотнившуюся и развернувшуюся среди мятежников силу. Управлять всегда значило лишать народ какой-либо политической возможности, иначе говоря, предотвращать восстание.
Отрезать управляемых от потенциала политического действия — вот задача полиции каждый раз, когда на исходе интенсивной демонстрации она пытается «изолировать буйных граждан». Самый Эффективный способ подавить восстание — внести раскол в среду восставшего народа, спровоцировать разногласия между безучастным населением или слоями, вяло поддерживающими повстанцев, и военизированным авангардом, непременно составляющим меньшинство, причём, как правило, подпольное, которое в ближайшем будущем объявят «террористами». Самый яркий пример использования подобной тактики продемонстрировал Фрэнк Китсон, крёстный отец британской противоповстанческой борьбы. В годы, последовавшие за небывалыми потрясениями, которые охватили Северную Ирландию в августе 1969 года‚ основное преимущество ИРА заключалась в том, что она объединилась с католическими районами, провозгласившими автономию и позвавшими её на помощь во время мятежей в Белфасте и в Дерри. Свободный Дерри, Шорт-Стренд, Ардойн — во многих местах были созданы no-go areas[39], столь характерные для режима апартеида и до сих пор отделённые многокилометровыми реасе lines[40]. Эти гетто восстали, забаррикадировали въезды, закрыв их для копов и лоялистов. Пятнадцатилетние дети проводили дни в школах, а ночи на баррикадах. Каждый из уважаемых членов местного сообщества закупал продукты на десятерых, а для тех, кто больше не мог свободно передвигаться по городу, организовывались подпольные продовольственные лавки. И хотя поначалу летние события застали активистов «временной» ИРА врасплох, им всё же удалось органично слиться с предельно плотной этической материей этих анклавов, существовавших в условиях непрерывного восстания. И с такой непоколебимой силой всё казалось возможным. 1972 год должен был стать годом победы.
Организаторы противоповстанческой борьбы сперва немного растерялись, но затем приняли кардинальные меры: в рамках беспрецедентной со времён Суэцкого кризиса военной операции британские службы разгромили образовавшиеся анклавы, таким образом эффективно отрезав «профессиональных» революционеров от восставших в 1969 году слоёв населения и лишив их многочисленных союзников и друзей. Тем самым они превратили «временную» ИРА всего лишь в некую вооружённую группировку, полувоенное формирование — безусловно, внушительное и целеустремлённое, Однако обречённое на истощение и заведомо приговорённое к тюремному сроку без следствия и к казни в упрощённом порядке. Тактика репрессий основывалась на том, чтобы обозначить существование радикального революционного субъекта, обособить его от всего, что превращало его в живую силу католического сообщества: отделить его от территории, отнять у него повседневную жизнь и молодость. И в довершение всего власти инсценировали теракты, якобы совершенные ИРА, дабы окончательно направить против неё обездвиженное население. Не гнушались ничем — ни counter gangs[41]{58}‚ ни false flag[42] — чтобы сделать из ИРА подпольное чудовище, территориально и политически отчуждённое от всех сильных сторон республиканского движения: от районов, от хитростей и способов организации, от привычной готовности к бунту. В итоге «военизированные формирования» были изолированы, тысячи исключительных ликвидационных операций превратились в рутину, и оставалось лишь ждать, когда «беспорядки» рассосутся сами.
Когда на нас обрушиваются чрезмерные, слепые репрессии, ни в коем случае нельзя рассматривать их как однозначное доказательство нашей радикальности. Не следует думать, что нас пытаются уничтожить. Лучше предположим, что нас пытаются создать. Создать нас как политический элемент, как «анархистов», как «Чёрный Блок», как «антисистемные организации», вычленить нас из общего населения, приписав нам политическую специфику. Когда против нас применяют репрессии, нам нужно для начала перестать считать себя самими собой, развеять эту призрачную фигуру террориста, которую так усердно рисуют теоретики противоповстанческой борьбы; ведь демонстрация этой фигуры тотчас же рикошетом создаёт «население» — население, предстающее в виде апатичного и аполитичного скопления, незрелой массы, людей, которыми только и можно, что управлять, прислушиваясь к урчанию в их желудках и удовлетворяя их потребительские мечты.
Революционерам не пристало переманивать на свою сторону «население» из пустой оболочки невесть какого «общественного проекта». Скорее им стоит искать опору в собственном присутствии, в тех местах, где они живут, на знакомых им территориях, в связях, соединяющих их с тем, что происходит вокруг. Ведь за умение распознать врага, за эффективные стратегии и тактики отвечает именно жизнь, а не первоначально заявленное кредо. Логика укрепления мощи — это всё, что можно противопоставить идее захвата власти. Полностью населять пространство — это всё, что мы можем сделать в противовес парадигме управления, Можно наброситься на государственный аппарат, но если завоёванную территорию сразу же не заполнить новой жизнью, правительство в конце концов её снова отберёт. Вот что Рауль Зибечи пишет о восстании аймара, произошедшем в боливийском городе Эль-Альто в 2003 году: «Действия такого масштаба немыслимы без существования обширных и плотных связей между людьми — взаимоотношений, которые сами по себе уже являются организацией. Беда в том, что мы не склонны воспринимать возникающие в повседневной жизни соседские, дружеские, товарищеские, семейные отношения как организации того же уровня, что и профсоюз, партия или даже Государство. <…> В западной культуре взаимоотношения, построенные на основе договора и закреплённые формальными соглашениями, зачастую представляются более важными, нежели поддержка, которую обеспечивают эмоциональные связи»{59}. Стало быть, самым обыденным мелочам нашей жизни в обществе мы должны придавать то же значение, что и революции. Ведь восстание — это перемещение этой организации (которая организацией не является, поскольку она неотделима от повседневной жизни) на территорию боевых действий. Это качественный скачок в этической плоскости, а не окончательный разрыв с повседневностью. Далее Зибечи говорит: «Те же органы, что поддерживают восстание, поддерживают и повседневную общественную жизнь (местные собрания в районных советах Эль-Альто). Очерёдность выполнения функций и обязательства, координирующие повседневную жизнь, точно так же координируют блокировку дорог и улиц»{60}. Таким образом исчезает бесполезное разграничение между стихийностью и организацией. Не может быть дополитической, безотчётной‚ «стихийной» области существования, с одной стороны, и политической, рациональной, организованной области — с другой. Люди, живущие в дерьмовых отношениях с окружающими, способны только на дерьмовую политику.
Это не значит, что для успешного наступательного боя необходимо исключить из наших взаимоотношений даже самый намёк на конфликт — конфликт, а не мошенничество и махинации. Палестинское сопротивление никогда не пресекало внутренние разногласия — пусть даже они и доходили до открытого противостояния — и в основном именно поэтому оно доставило столько хлопот израильской армии. Здесь, как и всюду, политическая раздробленность — это и бесспорный признак этической жизнеспособности, и сущий кошмар для разведслужб, призванных задокументировать, а затем и подавить сопротивление. Один израильский архитектор пишет: «Израильские и палестинские военные методы кардинально различаются. Палестинское сопротивление раздроблено на множество организаций, каждой из которых подчиняется более или менее независимое вооружённое формирование: бригады Эдзедин-аль-Касам работают с Хамасом, бригады Сарая-аль-Кудс — с Исламским джихадом, бригады мучеников Аль-Аксы, Отряд 17 и Танзим-аль-Фатх — с движением ФАТХ. Ко всему этому прибавились независимые Комитеты народного сопротивления (КНС) и предполагаемые или действительные члены организаций Хезболла и/или Аль-Каида. Нестабильные взаимоотношения между этими группировками, постоянные колебания от сотрудничества к соперничеству и к ожесточённым конфликтам заметно усложняют понимание их взаимодействия и в то же время увеличивают их коллективную силу, эффективность и выносливость. Рассредоточенность палестинского сопротивления, состоящего из различных организаций, которые обмениваются информацией, навыками и оружием (и в одних случаях проводят совместные операции, а в других — яростно друг с другом конкурируют), ощутимо уменьшает действенность ударов, наносимых израильскими оккупационными войсками». Признание возникающих внутренних разногласий никоим образом не препятствует направленному осуществлению повстанческой стратегии. Напротив, для любого движения это — лучший способ сохранить жизнеспособность, оставляя открытыми наиболее важные вопросы и вовремя внося нужные изменения. Но если мы принимаем гражданскую войну, в том числе и войну между нами, то не только потому, что это в принципе удачная стратегия, позволяющая спутать имперские военные планы. Мы принимаем её прежде всего потому, что она совместима с нашими представлениями о жизни. Действительно, если революционная деятельность подразумевает верность определённым истинам, то из неизменного множества этих истин следует, что нашу партию не ждёт Мирное сосуществование. С точки зрения организации, нам не нужно выбирать между братским миром и братоубийственной войной. Мы должны выбирать между формами внутренних столкновений, которые могут или укреплять революционную деятельность, или же препятствовать ей.
На вопрос «Ваше представление о счастье?» Маркс отвечал: «Борьба». На вопрос «Почему вы боретесь?» мы отвечаем, что того требует наше представление о счастье.
Единственная наша родина: детство
1. Не существует «общества», которое нужно защитить или уничтожить
День 5 мая 2010 года жители Афин запомнили как один из тех дней всеобщей забастовки, когда все, как один, вышли на улицу. В воздухе чувствовались весна и воинственность. Профсоюзные деятели, маоисты, анархисты, госслужащие и пенсионеры, молодёжь и иммигранты — центр города буквально наводнили демонстранты. На неслыханные меморандумы тройки страна отвечает совсем ещё свежей яростью. Ещё немного, и парламент, который как раз только принял на голосование ряд новых мер «жёсткой экономии», взяли бы штурмом. Но вместо парламента сдаёт позиции и вспыхивает министерство экономики. Почти всюду демонстранты выворачивают булыжники из мостовых, громят здания банков, затевают стычки с полицией, которая не скупится на гранаты шокового действия и жуткий слезоточивый газ, импортированный из Израиля. Анархисты, как водится, разбрасывают коктейли Молотова, но на этот раз — что уже довольно непривычно — под аплодисменты толпы. Гремит классическое «менты, свиньи, убийцы», раздаются выкрики «сожжём парламент!»‚ «убийцы у власти!». То, что было похоже на начало восстания, оборвётся после полудня, разбившись на полном ходу о правительственную депешу. Анархисты, сначала пытавшиеся поджечь книжный магазин «Янос» на улице Стадиу, устроили пожар в банке, который отказался от участия во всеобщей забастовке; в здании в тот момент находились сотрудники. Трое из них погибли от удушья, причём одной из жертв стала беременная женщина. Правда, тогда никто не уточнил, что запасные выходы перекрыла сама дирекция банка. Инцидент с Марфин Банком, как брусок динамита, подорвал греческое анархистское движение. Теперь они — а не правительство — оказались убийцами. Линия разрыва, которая с декабря 2008 года все отчётливее проступала между «социальными анархистами» и «анархистами-нигилистами», стала после этих событий критической. Вновь зазвучал старый вопрос о том, нужно ли идти навстречу обществу и менять его, предлагая и показывая ему на своём примере другие модели организации, или же его следует просто-напросто уничтожить, не щадя тех, чьё бездействие и покорность стали гарантом его существования. По этому поводу началась небывалая свистопляска. Взаимных обличений оказалось мало. К вящей радости полицейских, дело дошло до кровавых драк.
Но трагедия заключалась в том, что копья ломались из-за вопроса, которого больше не существует, и вероятно, поэтому споры так ни к чему и не привели. Быть может, и нет никакого «общества», которое надо уничтожать или убеждать: быть может, мы и не заметили, что эта химера, появившаяся в конце XVII века и не дававшая покоя стольким революционерам и правителям, уже давно испустила дух. Но нам ещё предстоит научиться по ней скорбеть, ведь нас не пронимает ни ностальгия социолога, оплакивающего «Конец обществ»{61}‚ ни неолиберальный оппортунизм, с воинственной самоуверенностью провозгласивший: «There is no such thing as society»[43].
В XVII веке «гражданское общество» — это понятие, противоположное «естественному состоянию», жить в обществе значило «объединиться, подчиняясь одному правительству и одним законам»{62}. «Обществом» называлось своего рода «государство-цивилизация», точнее, речь шла о «хорошем аристократическом обществе», исключавшем многочисленных простолюдинов. В XVIII веке постепенно развивается либеральная правительственность, а также соответствующая ей «печальная наука», «политическая экономия», и под «гражданским обществом» начинает пониматься буржуазное общество. Оно больше не противоречит естественному состоянию, в каком-то смысле оно даже само становится «естественным» — по мере распространения Идеи о том, что для человека естественно вести себя как экономическое создание. Именно тогда «гражданское общество» стало восприниматься как нечто, противостоящее Государству. Пройдёт ещё целая эпоха сенсимонизма‚ целая эпоха сциентизма‚ социализма, позитивизма и колониализма XIX века, прежде чем утвердится безусловность «общества», очевидность того, что в любых жизненных проявлениях люди образуют некую расширенную семью, видовое объединение. В конце XIX века всё стало социальным: жильё, вопросы, экономика, реформы, науки, гигиена, безопасность, работа и даже война — социальная война. Кульминацией этого движения стал «Социальный музей», который филантропы-энтузиасты открыли в Париже в 1894 году для популяризации и исследования всех средств, способных преобразить, умиротворить и наладить «общественную жизнь». В XVIII веке никому бы и в голову не пришло основать такую «науку», как социология, не говоря уже о том, чтобы сформировать её по образцу биологии.
Собственно говоря, «общество» — это всего лишь тень, которую отбрасывают сменяющие друг друга способы управления. Во времена «Левиафана» оно представляло собой совокупность подданных абсолютистского Государства, а в рамках либерального Государства — совокупность экономических субъектов. С позиций Государства всеобщего благосостояния именно человек, как обладатель прав, нужд и рабочей силы, был основополагающим элементом общества. Однако подвох Идеи «общества» кроется в том, что она всегда служила правительству для ассимиляции результата собственной деятельности, манипуляций и мер; она разрабатывалась как нечто, фактически ему предшествующее. И лишь после Второй мировой войны напрямую заговорили о «социальной инженерии». С того момента общество официально становится тем, что выстраивают — примерно по той же схеме, по какой осуществляли nation-building[44] при захвате Ирака. Хотя как только действовать начали в открытую, эта схема перестала работать.
В любую эпоху под защитой общества подразумевалось не что иное, как защита объекта управления, пусть даже защищать его приходилось от самих управляющих. До сих пор одна из ошибок революционеров состояла в том, что они сражались на территории по сути чуждого им вымысла, что они приписывали себе цель, за которой скрывалось само правительство. И бесспорно, сегодняшнее замешательство в нашей партии связано по бо́льшей части с тем, что уже в 1970—е годы правительство от этого вымысла отказалось. Оно отказалось от Идеи объединения всех представителей человечества в рамках некой упорядоченной общности — но только у Маргарет Тэтчер хватило честности это признать. В каком—то смысле правительство стало более прагматичным, бросив утомительные попытки придать человечеству однородную форму, чётко очерченную и обособленную от остальных творений, снизу граничащую с неодушевлёнными предметами и с животными, а сверху — с Богом, небесами и ангелами. Переход к эпохе нескончаемого кризиса, «денежные годы»{63}, период, когда все вокруг отчаянно занялись предпринимательством, — всё это отвесило звонкую пощёчину общественному идеалу, и он, покачиваясь как хмельной, вышел из 1980-х годов. Следующий и несомненно смертельный — удар наносит мечта о глобализированной столице, мечта, которую принесло развитие телекоммуникаций и дифференциация Производственного процесса, охватившая всю планету.
Можно по-прежнему упрямо воспринимать мир в категориях наций и обществ, но последние теперь пронизаны, пробиты насквозь множеством неуправляемых потоков. Мир предстаёт перед нами как гигантская сеть, где крупные города, ставшие мегаполисами, — это всего лишь соединительные платформы, точки входа и выхода, станции. Теперь, говорят, можно жить в Токио, Лондоне, Сингапуре или Нью-Йорке, не ощущая никакой разницы, поскольку все столицы образуют единый мир, в котором мобильность важнее, чем привязанность к конкретному месту. Здесь личностная индивидуальность играет роль универсального пропуска, позволяющего из любой точки планеты выйти на связь со стратой единомышленников. Но из скопления обитателей сверхстолиц, живущих в вечной гонке от залов прилёта в аэропортах до туалетов в поездах Eurostar, не сделать общества, тем более глобального. Фигура гипербуржуазии, которая обсуждает сделку на Елисейских Полях, а затем, послушав сет на крыше в Рио, приходит в чувства после полученных впечатлений на afterparty[45] где-нибудь на Ибице, скорее иллюстрирует вырождение этого мира, где нужно судорожно, пока не поздно, получать от жизни всё, нежели обещает какое-Пибо будущее. Журналисты и социологи оплакивают усопшее «общество», без конца сетуя на постсоциальный строй, растущий индивидуализм, развал старых учреждений, утрату основ, подъём коммунитаризма, постоянно возрастающее неравноправие. И немудрено, они ведь лишаются единственного заработка. Придётся им теперь думать о смене профессии.
Революционная волна шестидесятых-семидесятых годов нанесла смертельный удар по проекту капиталистического общества, в котором все должны были мирно принять участие. В ответ на это капитализм затеял территориальную реструктуризацию. Поскольку у проекта организованной общности рушилось само основание, то именно с этого основания, с прочных и взаимосвязанных оснований и начали воссоздавать новую глобальную сеть производства ценностей. Теперь производительность ожидается уже не от «общества», а от территорий, от определённых территорий. За последние тридцать лет реструктуризация капитала приняла форму нового пространственного обустройства мира. Основной целью стало создание clusters[46]‚ «очагов инновации», предлагающих «владельцам крупного общественного капитала», — для остальных, уж простите, жизнь будет несколько сложнее, — оптимальные условия для творчества, инноваций, предпринимательства и особенно для совместной работы. Общепризнанным прообразом подобных кластеров стала Силиконовая Долина. Повсюду проводники инвестиций берутся за формирование «экосистемы», обеспечивающей индивида необходимыми связями и позволяющей ему полностью себя реализовать, «максимально развить способности». Это новое кредо креативной экономики, согласно которому союз изобретатель/центр конкурентоспособности выступает в сопровождении дуэта дизайнер/облагороженный рабочий район. Сие новое священное писание гласит, что производство ценностей зависит, особенно в западных странах, от инновационного потенциала. Впрочем, как охотно признают территориальные девелоперы, климат, способствующий творчеству и совместной работе, — то есть плодотворный климат, — нельзя сформировать, он «устанавливается» сам, пускает ростки в том месте, где история и самобытность перекликаются с новаторством. Кластер нельзя насадить, он возникает на какой-либо территории на основе «сообщества». Если ваш город переживает упадок, то проблему — по словам одного попавшего в струю бизнесмена — не решат ни инвесторы, ни правительство: следует организовываться, искать людей, налаживать связи, работать сообща, нанимать новых целеустремлённых сотрудников, образовывать структуры, радикально менять существующее положение вещей. Нужно принять участие в бешеной гонке за технологическим прогрессом и создать новую нишу, где конкуренция будет временно уничтожена, и появится возможность в течение нескольких лет получать ренту. Подстраиваясь под глобальную стратегическую логику, капитализм в то же время использует целую систему ухищрений для обустройства конкретных пространств. Подобный подход позволяет очередному нерадивому урбанисту утверждать в отношении ОЗ[47] — территории, которую активисты захватили, пытаясь предотвратить строительство аэропорта в Нотр-Дам-де-Ланд, — что она, несомненно, обладает «общественным и экологическим потенциалом, сопоставимым с Силиконовой Долиной... К слову, последняя возникла на месте, не представлявшем в то время особого интереса, однако низкая цена на землю и привлечение некоторого количества людей способствовали созданию уникального проекта межцднародного значения». Фердинанд Тённис, полагавший, что все общества всегда были основаны на рыночных взаимоотношениях, писал: «Если в сообществе люди поддерживают связи, несмотря на все разделяющие факторы, то в обществе люди живут раздельно, несмотря на все связи между ними»{64}. В «креативных сообществах» капитализма нас связывают сами же разграничения. Нет больше внешнего пространства, отделяющего жизнь от производства ценностей. Смерть самостоятельно приходит в движение; она молода и энергична, она вам улыбается.
2. Отбор нужно заменить на отделение
Нигде так не действенно постоянное поощрение новаторства, предпринимательства и творчества, как на груде развалин. Отсюда и та рекламная шумиха, поднятая вокруг крутых цифровых компаний‚ которые пытаются превратить промышленную пустыню под названием Детройт в экспериментальную площадку. «Представьте себе умирающий город, который вступает в новую жизнь, и вы увидите Детройт. Детройт — это город, где что-то происходит, это открытый город. Детройт — это место для ярких, интересных и увлечённых молодых людей, для художников, новаторов, музыкантов, дизайнеров, создателей города», — говорит человек, который втридорога предал идею нового городского планирования, ориентированного на «креативные классы». И говорит он ни много ни мало о городе, за пятьдесят лет потерявшем половину населения, о городе, занимающем второе место среди крупных американских городов по уровню преступности: 78 000 заброшенных зданий, бывший мэр сидит в тюрьме, а официальные показатели безработицы доходят до 50%. Зато именно там открыли новые офисы Amazon и Twitter. Судьба Детройта пока ещё не решена, однако мы уже видели, что маркетинговая кампания в масштабе одного города способна превратить постиндустриальную катастрофу, длившуюся не одно десятилетие и замешанную на безработице, депрессии и преступности, в модный регион, где всё вертится вокруг культуры и технологии. Та же самая волшебная палочка преобразила и славный город Лилль, получивший в 2004 году недолговечное звание «европейской культурной столицы». Стоит ли уточнять„ что для этого в центре города также полностью «обновили» население.
То, что не без основания окрестили от Нового Орлеана и до Ирака «стратегией шока», позволяет раздробить мир на прибыльные зоны. И при этом плановом разрушении-обновлении «общества» самая вопиющая разруха и самое беспардонное богатство всего лишь две стороны одного и того же метода управления.
Читая перспективные отчёты «экспертов», обнаруживаешь в целом такой географический расклад: крупные столичные регионы, соревнующиеся друг с другом за привлечение капитала и smart people; городские центры второго порядка, пробивающиеся благодаря своей специфике; бедные сельские зоны, с трудом выживающие за счёт того, что они способны «привлечь внимание городских жителей, которые истосковались по тишине и по природе», а также преобразоваться в сельскохозяйственные районы, желательно с органической продукцией, или же в «заповедники, сохраняющие биологическое разнообразие»; и наконец, зоны, пригодные разве только для ссылки, где когда—нибудь просто выставят КПП, чтобы управлять ими издалека: при помощи дронов, вертолетов, молниеносных операций и массовой телефонной прослушки.
Капитализм, как видим, интересуется уже не «обществом», а — пользуясь мягкой формулировкой — «управлением». Революционеры шестицесятых-семидесятых годов послали его к чёрту, и с тех пор он подбирает собственные кадры.
Он выстраивается не на национальном уровне, а на каждой отдельной территории. Он распространяется неравномерно, сосредоточиваясь в конкретных местах, преобразуя каждую территорию в питательную среду. Он не заставляет весь мир шагать в одной шеренге по указке прогресса, а наоборот, позволяет миру разделиться на зоны высокой прибыльности и на запустелые регионы, на театры военных действий и мирные пространства. Есть северо—восток Италии, а есть Кампания — область, которая нужна, пожалуй, только для того, чтобы сгребать туда отбросы из первого региона. Есть София—Антиполис и есть Вильеле—Бель. Есть Сити и есть Ноттинг—Хилл, Тель—Авив и Сектор Газа. Smart cities[48] и загнивающие пригороды. Та же дифференциация справедлива и для населения. Нет больше обобщённого «населения». С одной стороны, есть молодой «креативный класс», чей социальный, культурный и коммуникативный капитал процветает в центре умных мегаполисов, а с другой — все те, кто совершенно очевидно стал «профнепригодным». Есть жизни, которые считаются, а есть жизни, которые никто и пересчитывать не станет. Есть разные виды населения: одни входят в группу риска, другие обладают большой покупательной способностью.
Если в основе идеи общества и оставался какой-то цемент, какая-то защита от распада, то это, конечно же, анекдотичный «средний класс». На протяжении всего ХХ века он продолжал расти, по крайней мере, мысленно — так, что две трети американцев и французов совершенно искренне причисляют себя к этому несуществующему классу. Однако и он в свою очередь стал жертвой безжалостного отбора. Чем ещё можно объяснить перенасыщение телеэфира всевозможными реалити-шоу, демонстрирующими совершенно садистские формы конкуренции, если не массовой пропагандой, нацеленной на то, чтобы приучить публику к этим мелким повседневным убийствам друзей, к которым и сводится жизнь в сегодняшнем мире бесконечного отбора. В 2040 году, если верить пророчествам, а точнее, проповедям DATAR — организации, которая подготавливает и координирует действия французского правительства в сфере благоустройства территорий, — «численность среднего класса сократится». «Самые успешные его представители примкнут к нижнему уровню международной элиты», остальные же «по образу жизни постепенно приблизятся к бедным слоям населения», к этой «вспомогательной армии», которая будет «удовлетворять потребности элиты», живя в захудалых районах по соседству с «интеллектуальным пролетариатом» и надеясь на интеграцию или же окончательно порвав с верхушкой социальной иерархии. Иными словами, их видение сводится примерно к следующему: когда жилые кварталы погрязнут в разрухе, их обитатели переселятся в трущобы, освободив место для «городского овощного комбината, поставляющего в столицу свежие продукты из ближайших районов», и для «многочисленных природных парков», «зон без технологий» и «зон отдыха для горожан, желающих сменить обстановку и развеяться на природе».
Правдоподобность таких сценариев роли не играет. Важно здесь то, что люди, которые, по идее, сообразовывают прогнозы на будущее с сегодняшними стратегиями, изначально заявляют о гибели старого общества. Глобальная динамика отбора полностью противоречит прежней интеграционной диалектике, одним из этапов которой была социальная борьба. Нет больше такой формы общественной организации или культурной традиции, которая бы обусловливала разделение между производительными территориями, с одной стороны, и неблагополучными — с другой, между классом smart и «дураками», «недоумками», «малограмотными», теми, кто «противится преобразованиям», кто привязан к старому. Теперь задача заключается в том, чтобы в режиме реального времени как можно точнее установить, где присутствует ценный потенциал: на какой территории, у кого, для чего. У перекроенного архипелага мегаполисов мало сходства со всеобъемлющей иерархией под названием «общество». Все попытки обобщения остались в прошлом. Именно об этом и свидетельствуют доклады DATAR: те же люди, которые занимались благоустройством территории страны, которые сформировали фордистское единство Франции под эмблемой де Голля, теперь принялись за её расчленение. Они без сожаления возвещают о «сумерках национального государства». Жёсткие рамки, будь то в виде государственных границ или же в вице строгого разграничения между человеком и машиной, человеком и природой, — это вчерашний день. Размежёванному миру пришёл конец. Новое «общество» крупных городов распределяется по ровному, открытому, уходящему вдаль пространству — не столько гладкому, сколько расплывчатому. Общество выходит на поля, проступает сквозь контуры. Теперь не так-то просто определить раз и навсегда, кто в него входит, а кто нет: в мире этап, в умном мире, умная уличная мусорка вписывается в «общество» лучше, чем попрошайка или деревенский мужик. Формируясь по горизонтали, фрагментарно, дифференцированно — по принципу территориального планирования, а не по принципу вертикальной иерархии, берущей начало от средневековой теологии, — «общество», эта игровая площадка правительства, сохраняет лишь очень неустойчивые, подвижные границы, а потому их легко отменить. Капиталисты даже размечтались о новом виде «социализма», существующего исключительно для своих. Сначала из Сиэтла вымели всех бедняков, освобождая место для сотрудников таких компаний‚ как Amazon, Microsoft и Boeing, а теперь там уже можно организовать бесплатный общественный транспорт. Не будет же город брать деньги с тех, чья жизнь сама по себе — сплошное производство ценностей. Нельзя же отплатить им такой неблагодарностью.
Решительный отбор населения и территории не лишён риска. Когда тех, кому предстоит умереть, изолируют от тех, кому положено жить, нет гарантии, что отправленные в утиль люди будут по-прежнему подчиняться управлению. В лучшем случае можно рассчитывать как—то «справиться» с этим неудобным остатком, ведь интеграция представляется маловероятной, а ликвидация — разумеется, непорядочной. С присущим им скепсисом или даже цинизмом специалисты по планированию говорят о «расслоении», «усилении неравенства», «расширении социальной иерархии» как о признаках времени, а не как об отклонении, с которым следует бороться. Единственное отклонение — это то, которое может привести расслоение к отделению — «к бегству части населения на периферии и к организации автономных сообществ», возможно, «в отрыве от преобладающей модели неолиберальной глобализации». Вот где угроза, с которой нужно справиться, вот путь, которым следует идти.
Идею отделения, которую уже активно развивает капитализм, стоит принять и нам, но по—своему. Отделиться не значит отрезать некую часть от всеобщей национальной территории, жить в изоляции, порвав связь с окружающими, — такая дорога ведёт к верной гибели. Отделиться не значит создать из отбросов мира противокластеры‚ в которых альтернативные сообщества жили бы в блаженной независимости от мегаполисов — такая схема предусмотрена в планах DATAR, где жизнь этих сообществ уже расписана как жалкое и безобидное прозябание на дне социума. Отделиться — это обжить территорию, принять нашу ситуацию в контексте этого мира, наш способ существования, форму жизни и истины, служащие нам опорой, и уже отталкиваясь от этого, вступать с кем-либо в противостояние или в партнёрство. А для этого необходимо стратегическое сближение с другими очагами инакомыслия, интенсивное общение с дружественными регионами без оглядки на границы. Отделиться значит оторваться не от государственной территории, а от существующей географии как таковой. Очертить новую, плотную, прерывистую, как архипелаг, карту и отправиться навстречу близким нам землям и территориям, пусть даже это путь длиной в 10 000 километров. В одной из своих брошюр активисты, выступающие против строительства железнодорожной линии Лион-Турин, пишут: «Что значит придерживаться позиции No TAV? Это значит исходить из простого условия: “Высокоскоростной поезд никогда не пройдёт по долине Валь-ди-Суза”, и следовательно, выстраивать жизнь так, чтобы осуществить это условие. За последние двадцать лет множество людей сплотилось вокруг этого убеждения. И целый мир перестраивается на основе этой очень конкретной позиции, отступать от которой мы не собираемся. Борьба в долине Валь-ди-Суза затрагивает весь мир, и не потому, что мы боремся за “общее благо”, а потому что в этой борьбе рождается общее представление о благе. Это представление сталкивается с другими идеями, защищается от тех, которые пытаются его уничтожить, и соединяется с теми, которые ему близки».
3. Не существует «боёв местного значения», есть только войны миров
Любой геополитик и специалист по благоустройству территории может написать, что «за последние двадцать лет конфликты, назревающие вокруг территориального планирования, достигли такой степени напряжённости, что кажется, будто мы наблюдаем постепенный сдвиг конфликтности общества из социальной сферы в территориальную. Чем дальше отступает социальная борьба, тем бо́льшую силу набирает борьба за территорию». С этим утверждением действительно хочется согласиться, глядя на то, как в последние годы голоса, доносящиеся из далёких гор вокруг Валь—ди-Суза, задают тон политических дебатов в Италии; видя, какой объединяющей силой обладает борьба против транспортировки радиоактивных отходов в контейнерах типа «кастор» в немецкий регион Вендланд; отмечая решимость тех, кто сражается против золотодобывающей компании Hellas Gold в посёлке Иериссос на побережье Халкидики, и тех, кто смог добиться отсрочки строительства мусоросжигательного объекта в Кератее на Пелопоннесе. В итоге всё больше революционеров набрасываются на так называемые «местные битвы» с той же жадностью, с какой ещё вчера они хватались за «социальную борьбу». Даже марксисты —— не прошло и века — задумались о том, не стоит ли пересмотреть территориальный аспект всех тех забастовок и заводских сражений, в которых участвовали в конечном счёте не только рабочие, но и целые регионы, и предпосылкой которых была, вероятно, в большей степени сама жизнь, нежели простой вопрос оплаты труда. Ошибка этих революционеров в том, что они воспринимают местность так же, как они воспринимали рабочий класс — то есть как некое явление, существовавшее до борьбы. Следуя этой логике, они полагают, будто сейчас требуется создать новый интернационал для сопротивления «ненужным и навязанным крупным проектам» и будто этот интернационал укрепит и распространит сопротивление. Однако они не учитывают тот факт, что сама борьба, изменяя повседневный облик воюющих территорий, придаёт плотность тому местному окружению, которое до этого было чем-то совершенно эфемерным. «Протестное движение не ограничилось обороной “территории” в её первоначальном виде: оно обживало эту территорию с расчётом на возможное будущее <…>. Оно создало и построило её, оно придало ей структуру», — отмечают противники TAV. Фурио Йези утверждал, что «в период открытого мятежа, организуя защиту и нападение, мы приспосабливаем город под себя намного быстрее, чем нам это удавалось в детстве, когда мы играли на улицах, или же позже, когда мы гуляли по городу за руку с девушкой»{65}. То же справедливо и для обитателей долины Валь-ди-Суза: они никогда бы так досконально не изучили свою долину и не привязались бы к ней так сильно, если бы не те тридцать лет‚ что они провели в битве против грязных планов Европейского союза.
Эти разные битвы, истинная цель которых вовсе не «территория», объединяет не их противостояние одной и той же капиталистической реорганизации, а тот образ жизни, что зарождается и по новой выстраивается в процессе самого конфликта. Их прежде всего связывают акции сопротивления — блокада, захват, мятеж, саботаж, представляющие собой прямые удары по производству ценностей, которое организуется посредством информационного и товарного оборота, а также присоединения «инновационных территорий». Возникающая в процессе сила — это не то, что нужно направить на победу, это и есть сама победа, поскольку с каждым шагом наша сила только возрастает. С этой точки зрения у инициативы «Засей свою ОЗ» очень удачное название. Местные жители захватили земли, изъятые под строительство аэропорта Нотр-Дам-де-Ланд, и возобновили на них сельскохозяйственные работы. Подобная акция тотчас же обрисовывает для её участников длительные перспективы — в любом случае более длительные, чем какие-либо планы традиционных общественных движений, — а также подталкивает их к более обстоятельным размышлениям о жизни в ОЗ и о её будущем. Безусловно, такой ракурс изначально предполагает распространение деятельности за пределы Нотр-Дамде-Ланд. Что сейчас и происходит во всём департаменте Тарн.
Противопоставление местного глобальному может привести к крайне губительным последствиям. Местное — это не обнадёживающая альтернатива глобализации а её общий результат: пока мир не знал глобализации, моё место жительства было просто знакомой территорией, и эту территорию я не считал «местной». Местное — это изнанка глобального, его Издержки, побочный продукт, а не нечто, способное его победить. Местным называется лишь то, откуда нам в любой момент может потребоваться уехать по работе, для лечения или в отпуск. Местное — это возможность совместного проживания в сочетании с совместным отчуждением. Это противоречие глобального, которое мы или обосновываем, или нет. Теперь каждый самобытный мир предстаёт перед нами таким, какой он есть: он — складка в общем мире, а не его материальная внешняя оболочка. Попытки отнести к разряду незначительных «местных боёв» (как если бы речь шла о «местном колорите»‚ об эдаком фольклорном шарме) такие события, как сражения в долине Валь—ди-Суза, на побережье Халкидики или на земле народа мапуче, сражения мирового значения, которые полностью изменили территорию и людей, не что иное, как классический приём нейтрализации. Оправдывая себя тем, что это периферийные территории, Государство старается отодвинуть их на политические окраины. Кому, кроме мексиканского правительства, придёт в голову назвать сапатистское восстание и всё, случившееся после него, «местным сопротивлением»? И тем не менее это действительно самое что ни на есть местное вооружённое восстание против неолиберального натиска, которое, при этом, вдохновило мировое движение против «глобализации». Суть этой успешной контроперации сапатистов заключалась в том, чтобы, изначально вырвавшись из национальных рамок, а соответственно, и отказавшись от второстепенной роли «местного сопротивления», вступить в союз с различными силами по всему миру. Таким образом, им удалось припереть к стене мексиканское Государство, которое дважды продемонстрировало беспомощность: на собственной территории и за пределами границ. Такой манёвр беспроигрышен, и его легко воспроизвести.
Местным оказывается всё, даже глобальное. Последнее, правда, ещё нужно локализовать. Неолиберальная гегемония возникает, собственно, в силу того, что она парит в воздухе, распространяясь по многочисленным и, как правило, неочевидным каналам, и в результате она кажется непобедимой, поскольку её расположение трудно установить. Чем пенять на Уолл—Стрит как на некоего небесного хищника, правящего миром точно так же, как вчера им правил Бог, нам бы следовало локализовать Материальные и человеческие ресурсы, проследить за связями непосредственно от торгового зала биржи до последней ниточки. Мы бы быстро поняли, что трейдеры — обычные дураки, не заслуживающие своей 3лоцейской славы, но мы бы также поняли, что идиотизм — великая сила в нашем мире. Неплохо было бы задуматься о существовании таких чёрных дыр, как клиринговые организации Euronext или Clearstream{66}. То же касается и Государства, в основе которого, как предположил один антрополог, лежит, вероятно, всего лишь система личных связей. Государство — это мафия, победившая все остальные мафиозные группировки и получившая право объявить их преступниками. Раскрыть эту систему, очертить её контуры, выявить направления значит спустить её с небес на землю, водворить её на место. Здесь тоже необходимо провести исследование, и только оно способно снять с пьедестала тех, кто мнит себя гегемонами.
Есть и ещё одна опасность, подстерегающая всё то, что намеренно выдаётся за «местное сопротивление». Те, кто, надлежащим образом организовав повседневную жизнь, убеждаются в избыточности правительства, могут прийти к выводу, что существует некое базовое, дополитическое общество, где сотрудничество возникает естественным путём. Вполне логично, что в таком случае они поднимаются против правительства ради создания «гражданского общества». Разумеется, всему этому сопутствует идея стабильного, мирного, однородного человечества, управляемого благими намерениями и предрасположенного — согласно исконно христианским традициям — ко взаимопомощи, добру и состраданию. «Непосредственно в мгновение триумфа, — пишет одна американская журналистка по поводу аргентинского восстания 2001 года‚ — кажется, будто революция уже, сразу же, сдержала обещания: все люди — братья, кто угодно может выразить своё мнение, эмоции бьют через край, солидарность сильна, как никогда. В силу исторических обстоятельств, при формировании нового правительства бо́льшая часть этого мощного потенциала передаётся Государству, а не гражданскому обществу: <…> Переходный этап между двумя режимами, очевидно, наиболее приближен к анархистскому идеалу общества без Государства: это тот короткий период, когда действовать может каждый, а высшая власть не принадлежит никому, когда общество постепенно само себя создаёт». Так и настал бы новый день для разумного, ответственного человечества, способного самостоятельно о себе заботиться и жить в мудром и уважительном согласии. Но это бы подразумевало, что борьба заканчивается, произведя на свет безоговорочно благородную человеческую природу, а на самом деле такое человечество зарождается именно в условиях борьбы. Хвалебные речи в адрес гражданского общества всего лишь переносят в мировой контекст историю идеального взросления, в результате которого мы якобы сможем обойтись без наставника — Государства, —‚ поскольку на нас, наконец, снизойдёт понимание и мы, наконец, заслужим право на самоуправление. Эта проповедь распространяется и на все сопутствующие взрослению напасти: известные проблемы с ответственностью, переигранная доброжелательность‚ вытеснение жизненно важных эмоций, наполняющих детство, среди коих — склонность к игре и к конфликту. Безусловно, основная ошибка заключается в следующем: сторонники гражданского общества — по крайней мере со времён Локка — всегда отождествляли «политику» с плачевными последствиями коррупции и несостоятельности правительства, в то время как фундамент общества представлял собой природное явление, не омрачённое историей. А история, по их мнению, — это не что иное, как череда ошибок и неточностей, которые лишь отдаляют становление удовлетворённого общества. «Основной целью вступления людей в общество является стремление мирно и безопасно пользоваться своей собственностью»{67}. А потому все, кто противостоит правительству во имя «общества» — какими бы радикальными ни были их требования — в глубине души хотят лишь покончить с историей и политикой, то есть с самой возможностью конфликта, то есть с жизнью, с живой жизнью.
Мы же исходим из иного предположения: не существует ни «природы», ни «общества». Вырывать человечество из того нечеловеческого, что образует привычный для всех мир, и объединять искалеченных таким образом людей под флагом «общества» — это дикость, которой пора положить конец. Во всех уголках Европы найдутся «коммунисты» или социалисты, готовые предложить национальные антикризисные меры: выйти из зоны евро, восстановить добротную, однородную и упорядоченную целостность в пределах границ — вот их решение. Эти калеки всё ещё продолжают ощущать фантомную конечность. А что же до добротной и упорядоченной целостности — тут их всегда перещеголяют фашисты.
Итак, мы говорим не об обществе, а о мирах. О войне против общества речи тоже нет: объявить войну выдумке значит претворить её в жизнь. Над нашими головами нет социального неба, а есть лишь мы сами и все те связи, дружба, близость, родство и расстояния, из которых сплетена наша жизнь. Есть лишь некоторое количество нас, есть силы, совершенно погруженные в ситуацию, и их способность разветвляться, проникая в труп общества, который без конца то разлагается, то вновь срастается. Кишение миров, мир, состоящий из целого вороха миров и пронизанный внутренними конфликтами, притяжениями и толчками. Построить мир значит установить некий порядок, найти или не найти место для каждой вещи, каждого существа, каждого устремления и учитывать это место, изменяя его при необходимости. При каждом появлении нашей партии — будь то на оккупированной площади, в гуще мятежной толпы или в будоражащей фразе, написанной на стене, — усиливается чувство, что за этим стоим именно «мы», повсюду, даже там, где никогда не ступала наша нога. Вот почему главный долг революционеров — заботиться о мирах, которые они создают. Как доказали сапатисты, тот факт, что каждый мир находится в ситуации, никоим образом не мешает и даже, наоборот, способствует его всеобщности. Универсальное, — как сказал один поэт{68}, — это местное минус стены. Скорее, существует некий потенциал универсализации, который связан с углублением в себя, с усилением того, что ощущается в любой точке мира. Не нужно выбирать между заботой о том, что мы созидаем, и нашей политической ударной силой. Ударная сила происходит непосредственно из яркости переживаний, из чувства радости, из новых форм самовыражения, из коллективной способности выдерживать те испытания, о которых свидетельствует наша сила. В этом повсеместном хаосе общественных взаимоотношений революционеры должны выделяться именно благодаря интенсивности мыслей, чувств, гибкости и организованности, которой им удаётся добиться, а вовсе не за счёт склонности к обособлению и бессмысленной непримиримости или же за счёт чудовищной гонки за иллюзорной радикальностью. Их истинная сила содержится не в идеологической последовательности, а во внимании к процессу и в чуткости, которую они способны проявить.
Непонимание, нетерпеливость и небрежность — вот наши враги.
Реальность — это то, что сопротивляется.
Omnia sunt communia[49]
1. Коммуна возвращается
Один египетский писатель, либерал до мозга костей, говорил в теперь уже далёкие времена первого восстания на площади Тахрир: «Люди, которых я видел на площади Тахрир, были новыми людьми, совершенно не похожими на тех, с кем я привык иметь дело, как будто революция произвела на свет египтян высшего сорта <…>, как будто революция, освободившая египтян от страха, излечила их и от социальных недугов. <…> Площадь Тахрир стала похожа на Парижскую коммуну. Режим был свержен, и на этой площади установилась власть народа. Были созданы разнообразные комиссии, как, например, комиссия по уборке мусора или же рабочая группа, занимающаяся установкой туалетов и душевых. Медики на добровольных началах построили полевые госпитали». В Окленде активисты Occupy заняли площадь Оскар Грант, объявив её «Коммуной Окленда». В первые дни событий в Стамбуле для зародившегося движения не нашлось лучшего названия, чем «Коммуна Таксима». Таким образом участники дали понять, что революция — это не то, к чему когда-нибудь придёт Таксим, а уже сама действительность этой площади, её кипучая имманентность, здесь и сейчас. В сентябре 2012 года Тахсим — бедная деревня в дельте Нила, насчитывающая 3000 жителей, — провозгласила независимость от египетского Государства. «Мы не будем больше платить налоги. Мы не будем больше платить за школы. Школы мы сделаем сами. Мы сами разберёмся с нашим мусором и с дорогами. А если какой-нибудь госслужащий придёт в нашу деревню с чем-то ещё, кроме помощи, мы выгоним его прочь», — заявляли жители деревни. В начале 1980-х годов индейцы, живущие в высокогорье штата Оахака, попытались обозначить специфику своего образа жизни и пришли в итоге к понятию «общинность». Для индейцев общинное существование — это то, в чём выражается их традиционный уклад, и одновременно то, что они противопоставляют капитализму, стремясь к «этическому восстановлению народов». В последние годы даже РПК{69} тяготеет к общинному анархизму Мюррея Букчина, направляя свою деятельность на объединение коммун, а не на создание Курдского государства.
Нет, коммуна не умерла. Больше того — она возвращается. И возвращается она не случайно и не абы когда. Она возвращается в то самое мгновение, когда Государство и буржуазия истощились как исторические силы. Хотя в своё время именно зарождение Государства и буржуазии положило конец мощной волне коммуналистского восстания, бушевавшего во Франции с XI по XIII век. Коммуна ведь не вольный город, не просто община с институтом самоуправления. Добиться признания коммуны со стороны тех или иных властей можно (как правило, путём ожесточённой борьбы), однако для существования ей этого не нужно. У неё даже Не всегда есть хартия, а если таковая и имеется, то едва ли в ней находит отражение политическая или административная структура. И мэра у коммуны тоже может не быть. Следовательно, основной признак коммуны — это взаимная присяга жителей города или деревни, общая клятва держаться вместе. Посреди хаоса XI века во Франции коммуна — это обещание взаимопомощи, забота друг о друге и совместная защита от любого притеснителя. Это в буквальном смысле conjuratio[50]‚ и сговор до сих пор считался бы благородным делом, если бы в последующие века королевские законники, пытаясь устранить эту практику, не связали бы её с идеей комплота. Один забытый историк подводит такие итоги: «Без клятвенного союза коммуна возникнуть не могла, и подобного союза было достаточно для её существования. Коммуна, то есть община, означает в точности то же самое, что и общая клятва». Следовательно, коммуна — это пакт, взаимное соглашение сообща противостоять миру. Рассчитывать на собственные силы в поисках свободы. Цель здесь — не само образование‚ а качество связывающих отношений и способ существования в этом мире. Совершенно очевидно, что такое взаимное соглашение не могло устоять под напором буржуазии, присваивающей все функции и все богатства, и растущей государственной гегемонии. Именно это первоначальное средневековое и давно утраченное значение коммуны непонятно каким образом вернула к жизни в 1871 году федералистская фракция Парижской коммуны. И с тех пор это значение время от времени вновь всплывает на поверхности: в движении советских коммун (теперь позабытом, а некогда стоявшем в авангарде большевистской революции и просуществовавшем до тех пор, пока его не ликвидировала сталинская бюрократия), в южнокорейской Коммуне Кванджу{70}‚ образованной в 1980 году, и в «революционном интеркоммунализме» Хьюи П. Ньютона{71}. Провозгласить коммуну значит в очередной раз снять историческое время с петель, пробить дыру в безнадёжном и бесконечном круговороте подчинения, в бессмысленной череде дней, в мрачной битве каждого человека за выживание. Провозгласить коммуну значит принять решение сплотиться. И ничто в мире уже не будет прежним.
2. Жить как революционер
Густав Ландауэр писал: «В коллективной жизни людей существует лишь Одна структура, сообразная с пространством: коммуна и конфедерация коммун. Границы коммуны, безусловно, имеют смысл (что, разумеется, исключает чрезмерноеть, но в отдельных случаях никак не влияет на безрассудство и неуместность): они окружают некую территорию, которая естественным образом заканчивается там, где заканчивается». Тот факт, что политическое явление может быть по сути пространственным, в некотором роде бросает вызов современным представлениям. С одной стороны, потому, что мы привыкли понимать политику как абстрактное измерение, в котором взгляды и суждения расположены в строгом порядке: слева направо. С другой стороны, потому, что от нового времени мы унаследовали восприятие пространства как некоей пустой, равномерной и измеримой зоны, по которой распределены различные предметы, существа и пейзажи. Но чувственный мир предстаёт перед нами совсем иным. Пространство не нейтрально. У вещей и живых существ нет какого-то чёткого геометрического расположения, они скорее воздействуют на пространство и сами подвергаются его воздействию. Места несут неослабевающий заряд — они заряжены историями, впечатлениями, эмоциями. Коммуна взаимодействует с миром со своего собственного места. Коммуна — это не административное формирование и не простая географическая площадь, а воплощение совместного опыта, вписанного в территориальные рамки. А стало быть, она создаёт на территории глубину, которую ни один военный штаб не сможет нанести на карту. Самим своим существованием она разбивает систематизированную координатную сетку пространства, обрекая на провал любую вялую попытку «территориального планирования».
Территория у коммуны действительно физическая, потому что она экзистенциальна: если оккупационные силы рассматривают пространство как сплошную сеть кластеров, которым различные брендинговые акции придают видимость разнообразия, то коммуна воспринимает себя прежде всего как конкретный, ситуационный разрыв с мировым порядком. Коммуна населяет территорию, то есть она обрабатывает её, в свою очередь находя там пристанище и кров. Она поддерживает необходимые отношения, она насыщается памятью земли, находя в ней свой смысл, свой язык. Один индейский антрополог — из тех, кто теперь пропагандирует «общинность» как основной принцип мексиканской политики, — заявляет по поводу общин Михе следующее: «Сообщество описывается как нечто материальное, с использованием таких слов, как “najx” и “kajp” (“najx” — земля, “kajp” — народ). Благодаря “najx”, земле, возможно существование народа, “kajp”‚ но и земля, “najx”, обретает смысл благодаря народу, “kajp”». Территория, которую интенсивно обживают, в итоге сама становится утверждением, разъяснением и выражением присутствующей на ней жизни. Это заметно, например, и по деревне индейского племени бороро, планировка которой отражает отношение жителей к богам, и по изобилию граффити, появляющихся после мятежа, захвата площади или любого другого события, когда простой народ заново начинает обживать городское пространство.
Территория — это то, где коммуна приобретает форму, то, где зарождается её голос, где она вступает в существование. «Территория — это наше жизненное пространство, звёзды, которые мы видим по ночам, жара или холод, вода, песок, галька, лес, наш образ жизни и метод труда, наша музыка, наша речь». Так говорит один из индейцев науа, один из тех communeros[51]‚ которые в конце нулевых силой вернули себе коммунальные земли Остулы, присвоенные какой-то бандой мелких мичоаканских землевладельцев, и провозгласили Автономную коммуну СанДиего-Хаякалан. Ведь для любого вида существования, хоть немного связанного с миром, нужна почва, на которой оно могло бы укрепиться, будь то в Сен-Сен-Дени или же на земле австралийских аборигенов. Населять территорию значит писать свою историю, рассказывать о себе прямо на земле. Именно это слышится до сих пор в слове гео-графия. Территория для коммуны — то же, что слово для смысла, то есть далеко не просто средство. Вот” основополагающий принцип, который коммуна противопоставляет безграничному пространству рыночной организации: территория коммуны — это глиняная табличка, раскрывающая её истинный смысл, а не какой—то регион, по которому кучка специалистов в области планирования ловко распределила производственные функции. Населённая Местность и зона деятельности различаются так же, как личный дневник и деловой ежедневник. Два способа использования земли, два способа использования чернил и бумаги, между которыми нет ничего общего.
Любая община — как решение сообща противостоять миру — помещает этот мир в самый центр своей жизни. Когда один из теоретиков общинной организации пишет, что она «неотделима от существования и от духовности коренных народов, для которых характерна взаимовыручка, общность, родственные связи, изначальная преданность, солидарность, взаимопомощь, tequio{72}, собрание, согласие, коммуникация, горизонтальная структура, самообеспечение, защита территории, автономия и уважение к матери—земле»‚ он забывает упомянуть, что подобный теоретический анализ — это игра, ставшая необходимой только при столкновении с современной эпохой. Потребность В отделении от инфраструктур власти возникает вовсе не из вечного стремления к автаркии, она напрямую связана с политической свободой, которую только так и можно получить. Коммуне недостаточно самоопределения: она образуется не для того, чтобы заявить о своей специфике или самовосприятии, а для того, чтобы продемонстрировать своё представление о жизни. К слову, коммуна может расширяться только благодаря внешней среде, как организм, живущий исключительно за счёт усвоения того, что его окружает. Собственно, потому, что коммуна стремится к росту, она способна питаться только тем, что к ней не относится. Стоит ей отгородиться от внешней среды, как она сразу начинает хиреть, пожирать себя изнутри, разрывать себя на части, она становится вялой или же доходит до «социального каннибализма» так греки называют то состояние, в котором оказалась вся их страна именно из-за чувства оторванности от мира. Для коммуны нет разницы между укреплением собственного могущества и поддержанием взаимоотношений с тем, что в неё не входит. История показала нам, что коммуны 1871 года — Парижская коммуна, а также коммуны в Лиможе, Перигё, Лионе, Марселе, Гренобле, Ле-Крёзо, Сент-Этьене, Руане, впрочем, как и средневековые коммуны — были обречены на поражение именно в силу изолированности. И как в 1871 году Тьер смог, предварительно восстановив порядок в провинции, подавить мятеж парижского пролетариата, точно так же во время оккупации площади Таксим основная стратегическая задача турецкой полиции заключалась в том, чтобы помешать демонстрантам в районах Гази, Бешикташ или в анатолийских кварталах по друтую сторону Босфора примкнуть к участникам движения на площади Таксим, а вторым — установить связь с первыми. По существу, парадокс коммуны видится в следующем; с одной стороны, она должна создать территориальный феномен, не соответствующий «глобальному порядку», и в то же время сформировать, установить взаимосвязь между местными образованиями, то есть вырваться из тех сцеплений, которые лежат в её основе. Если одна из этих целей не достигнута, то либо коммуна, замкнутая на своей территории, постепенно оказывается в полной изоляции и погибает, либо она становится бродячей бандой, потерявшей корни, отчуждённой от ситуаций, с которыми она сталкивается, и вызывающей у всех лишь недоверие. Это-то и произошло с участниками Великого похода 1934 года{73}. Две трети бойцов оттуда не вернулись.
3. Покончить с экономикой
Ядро коммуны — это как раз то, что к ней не относится, то, что она пропускает через себя, но не может присвоить, — такие черты были присущи res communes ещё в римском праве. «Общие вещи» — это океан, воздух, храмы, иными словами, то, что по определению нельзя присвоить. Можно набрать несколько литров воды из моря, или стать владельцем береговой полосы, или заполучить камни, из которых построен храм, но нельзя сделать собственностью священное место или море как таковое. Res communes — это то, что парадоксальным образом противится овеществлению, превращению в res, в вещи. Этим термином в публичном праве обозначается то, что к публичному праву не относится: то, что находится в общественном пользовании, и то, чему невозможно присвоить юридическую категорию. Язык, как правило, — это «общее»: если благодаря ему, через него мы выражаем мысли, то он не может быть ничьей собственностью. Им можно лишь пользоваться.
В последние годы экономисты особенно усердно разрабатывают новую теорию «общественных благ». «Общественные блага», по их мнению, — это совокупность тех вещей, которые хуже всего поддаются рыночной оценке, но без которых рынок бы не функционировал: окружающая среда, психическое и физическое здоровье, океаны, образование, культура, Великие озёра, и т. д., а также крупная инфраструктура (скоростные дороги, Интернет, телефонная связь, очистительные сооружения и т. д.). По словам экономистов, обеспокоенных состоянием планеты и в то же время пытающихся повысить эффективность работы рынка, для «общественных благ» необходимо ввести новую форму управления, которая опиралась бы не только на рынок. “Governing the Commons” — так называется бестселлер Элинор Остром, нобелевского лауреата по экономике 2009 года‚ где выделены восемь принципов «управления общим»{74}. Понимая, что в ещё не организованном «заведовании общими ресурсами» есть свободная ниша, Негри и ‚его сотоварищи прибрали к рукам эту, в сущности, совершенно либеральную теорию. Они даже распространили понятие общего на всё, что производит капитализм, поскольку, дескать, в конечном счёте всё это результат совместной работы представителем человечества, которые и должны присвоить себе продукт собственной деятельности в рамках весьма примечательной «демократии общего». Вечные активисты, которым всегда не хватает идей, тотчас же ринулись вслед за ними. В итоге сейчас они заявляют о своих правах на «здравоохранение, жильё, миграцию, социальную помощь, образование‚ Улучшенные условия труда в текстильном промышленности», как и на многие другие «общие блага», подлежащие присвоению. Если они продолжат в том же духе, то вскоре потребуют самоуправления для атомных электростанций и конечно же для Агентства национальной безопасности США, потому что Интернет должен принадлежать всем. Более изощрённые теоретики решили превратить «общее» в последний метафизический принцип, извлечённый из волшебной шляпы Запада. Это своего рода “arche”[52], — говорят они, — нечто, что «структурирует политическую деятельность, руководит и распоряжается ею», новое «начало», которое должно породить новые учреждения и новый вид мирового управления. Самой страшной во всём этом кажется их неспособность представить себе какой-либо иной вид революции, кроме этого мира, втиснутого в управление людьми и предметами по образцу бредовых идей Прудона и унылых фантазий Второго Интернационала. Современные коммуны вовсе не требуют доступа к каким—либо «общим благам» и не посягают на управление ими. Они сразу же создают новую форму общей жизни, иначе говоря, они строят общие взаимоотношения со всем тем, что им не принадлежит, начиная с самого мира.
И даже если это «общее» когда-нибудь перейдёт в руки нового племени бюрократов, ничто из того, что нас убивает, на деле не изменится. Вся социальная жизнь городов работает как некая гигантская деморализующая кампания. Каждого человека при каждом шаге сковывает общее устройство рыночной системы. Можно быть активистом в какой угодно организации, можно обзавестись бандой «дружков»‚ но в конечном счёте каждый спасает собственную шкуру, и нет причин полагать, что может быть иначе. Любое движение, любая настоящая встреча, любая протестная акция, любая забастовка, любая захваченная территория — это широкая трещина во мнимой очевидности нашей жизни, свидетельствующая о том, что совместная жизнь возможна и желательна, что она сулит нам богатство и радость. Порой кажется, что все вокруг будто сговорились, чтобы разуверить нас в этом, стереть все следы других жизненных укладов — и уже исчезнувших, и тех, что вскоре будут уничтожены. Отчаявшиеся люди, стоящие у штурвала корабля, больше всего боятся, что их пассажиры окажутся не такими убеждёнными нигилистами, как они сами. И действительно, всё устройство этого мира, точнее наша полная от него зависимость, ежедневно сводит на нет любую возможность иного образа жизни.
По мере того как тускнеет социальный глянец, подспудно, но ощутимо _ усиливается потребность в формировании силы. После окончания движения площадей во многих городах образовались общества взаимопомощи для защиты прав при выселении, забастовочные комитеты и районные собрания, а также кооперативы различной направленности. Производственные кооперативы, потребительские, жилищные, образовательные, кредитные и даже «комплексные кооперативы», которые намеревались участвовать во всех сферах жизни. При таком раскладе многие виды деятельности, прежде считавшиеся маргинальными, вышли далеко за пределы радикального гетто, в черте которого они преимущественно существовали. Таким образом, они достигли небывалого уровня значимости и действенности, в них стало не так душно. Все люди разные. Они вместе решают финансовые трудности, придумывают способ найти деньги или обойтись без них. Однако кооперативный столярный цех или автомастерская будут в тягость точно так же, как и наёмный труд, если они представляют собой цель, а не средство для совместной работы. Любое экономическое формирование обречено на погибель — оно уже погибло — если коммуна не откажется от своих притязаний на завершённость. Ведь коммуна — это то, что соединяет между собой все экономические сообщества, то, что проникает в них и переполняет их, она — связь, противодействующая их фиксации на самих себе. Этическая основа барселонского рабочего движения начала ХХ века может стать прототипом для сегодняшних опытов. Революционный характер этого движения обусловили вовсе не либертарные атенеи{75}, не мелкие распорядители, печатавшие контрабандную валюту со штампом CNT-FAI[53], не отраслевые профсоюзы, не рабочие кооперативы, не группы pistoleros[54], а связь между всеми ними, жизнь, расцветающая между всем этим, жизнь, которую нельзя измерить ни в одном из видов деятельности, ни в одной из организаций. На таком нерушимом фундаменте строилось это движение. Сто́ит заметить, что во время восстания, в июле 1936 года‚ единственными, кто был в состоянии связать в наступательных целях все элементы анархистского движения, оказались участники Nosotros[55] — маргинальной группировки, которую остальные члены движения до того момента подозревали в «анархо-большевизме» и которая месяцем раньше стала предметом публичного разбирательства, закончившегося для неё чуть ли не исключением из Федерации анархистов Иберии.
В большинстве европейских стран, на которых обрушился «кризис», началось массовое возрождение социальной и солидарной экономики и сопутствующей ей идеологии кооперативов и взаимного страхования. Всё более популярной становится мысль о том, что такой подход сможет стать «альтернативой капитализму». Мы же видим в нём скорее альтернативу сражению, альтернативу коммуне. Чтобы в этом убедиться, достаточно лишь обратить внимание на то, каким образом за последние двадцать лет Всемирный банк превратил социальную и солидарную экономику (например, в Южной Америке) в орудие политического усмирения. Не _ секрет, что похвальное намерение помочь развитию стран «Третьего мира» зародилось в 1960-е годы в уме ярого поборника противоповстанческих мер Роберта Макнамары — человека, занимавшего с 1961 по 1968 год пост министра обороны США и стоявшего за действиями США во Вьетнаме, за Агентом «оранж»{76} и операцией «Раскаты грома»{77}. По сути в этом экономическом проекте нет ничего экономического: это чистая политика, и принцип её прост. Чтобы обеспечить «безопасность» Соединённых Штатов Америки, то есть чтобы пресечь коммунистические восстания, необходимо лишить их основной причины — нищеты. Нет нищеты, нет и восстаний. Чистый Галюла. «Безопасность Республики, — писал Макнамара в 1968 году, — зависит не только и не столько от военного могущества, сколько от разработки стабильных экономических и политических систем — как у нас, так и в развивающихся странах по всему миру»{78}. В данном ракурсе борьба против бедности обладает несколькими преимуществами: во-первых, она позволяет скрыть тот факт, что истинная проблема заключается не в бедности, а в богатстве, иначе говоря, тот факт, что меньшинство держит в своих руках и власть, и основные средства производства; а во-вторых, она превращает эту политическую проблему в предмет социальной инженерии. Тем, кто смеётся над едва ли не систематическими неудачами, которыми, начиная с 1970-х годов, сопровождаются меры Всемирного банка, нацеленные на снижение уровня бедности, стоило бы знать, что действия эти, как правило, были совершенно успешными, если принять в расчёт их истинную цель: предотвращение восстания. И успех этот продлился до 1994 года.
Именно в 1994 году Национальная программа солидарности (PRONASOL), разработанная в Мексике при поддержке 170 000 местных «комитетов солидарности» для смягчения последствий социального расслоения, которое логичным образом должны были повлечь за собой соглашения о свободной торговле с США, привела к восстанию сапатистов. С тех пор Всемирный банк только и твердит, что о микрокредитах, «укреплении автономии и empowerment[56] бедных» (Доклад Всемирного банка 2001 года), кооперативах, страховых обществах, словом — о социальной и солидарной экономике. «Важно поощрять активное взаимодействие бедных слоёв населения с местными организациями, чтобы они могли контролировать государственные учреждения, вносить свой вклад в принятие решений на местном уровне и таким образом способствовали поддержанию верховенства закона в повседневной жизни», — гласит всё тот же Доклад. Понимать это следует так: завербовать в наши структуры местных лидеров, нейтрализовать оппозиционные группы, повысить значимость «человеческого капитала», ввести в рыночный оборот — пусть даже на второстепенном уровне — всё, что ранее в него не входило. Вовлечение десятков тысяч кооперативов и даже переоборудованных заводов в программу «Аргентина работает» — вот противоповстанческий шедевр Кристины Киршнер{79}, её меткий ответ на восстание 2001 года. Бразилия — со своим Национальным секретариатом солидарной экономики, деятельность которого уже в 2005 году охватывала 15 000 предприятий — тоже не отстаёт и прекрасно вписывается в success story[57] местного капитализма. «Мобилизация гражданского общества» и развитие «другой экономики» — это вовсе не выверенный ответ на «стратегию шока», как наивно полагает Ноами Кляйн, а лишь ещё одни тиски в её механизме. Вместе с кооперативами распространяется и форма-предприятие‚ альфа и омега неолиберализма. В отличие от греческих левых активистов, которые радуются, что в их стране за последние два года появилось множество самоуправляемых кооперативов, нам радоваться особенно нечему. Потому что Всемирный банк производит примерно те же подсчёты, причём с таким же удовлетворением. Существование маргинального экономического сектора, движущегося в социальном и солидарном направлении, никоим образом не отражается на концентрации политической, а следовательно, и экономической власти. Напротив, этот сектор даже защищает её действия от какого-либо обжалования. За таким защитным барьером греческие судовладельцы, армия и крупные предприятия могут продолжать свой business as usual[58]. Немножко национализма, щепотка социальной и солидарной экономики, и восстанию придётся подождать.
Чтобы экономика могла претендовать на статус «науки о механизмах поведения» или даже «прикладной психологии», необходимо было, чтобы на планете размножилось новое экономическое создание существо нужды. Существо нужды, нуждающийся, возникает далеко не естественным образом. Долгое время существовало лишь разнообразие жизненных укладов, а не нужд. Люди населяли некоторую часть этого мира и знали, как добыть себе пропитание, во что одеться, как развлечься и как соорудить жилище. Потребности же искусственно создала история, вырвав людей из их мира. И неважно, в какой форме это произошло: набеги, конфискация имущества, огораживание общинных земель или колониализация всё одно. Нужды — вот то, чем экономика наделила человека взамен отобранного у него мира. Эту предпосылку мы и берём за основу, отрицать её бесполезно. Но коммуна сама контролирует свои нужды вовсе не в целях автаркии, а потому что экономическая зависимость от мира — это политический и экзистенциальный показатель бесконечного обесценивания. Коммуна удовлетворяет нужды для того, чтобы истребить в нас нуждающееся существо. Там, где ощущается нехватка чего-либо, коммуна прежде всего стремится обеспечить себя средствами, позволяющими устранять эту нехватку так часто, как это потребуется. Кто-то «нуждается в жилье»? Просто построить дом недостаточно, следует организовать цех, в котором у кого угодно будет возможность быстро построить себе дом. Нужно место для собраний, дебатов и праздников? В этом случае надо занять или создать такое пространство, которым смогут пользоваться и те, кто «не имеет отношения к коммуне». Как мы видим, смысл не в изобилии, а в устранении потребности, то есть в причастности к коллективной силе, способной дать человеку чувство, что он противостоит миру не в одиночку. Одного восторга, который переполняет участников движения, здесь мало, нужно ещё и достаточное количество средств. Например, недавно под контролем рабочих было восстановлено производство на заводе Vio.Me в Салониках, и эту ситуацию необходимо отличать от множественных и в разной степени провальных попыток наладить самоуправление в Аргентине, которые, впрочем, и вдохновили движение Vio.Me. Различие здесь заключается в том, что изначально захват контроля над заводом представлял собой активное политическое действие с опорой на всё остальное греческое «движение», а не простую попытку создания альтернативной экономики. На той же аппаратуре, с помощью которой ранее изготавливались средства для укладки плитки, теперь стали производить антисептики, в частности, для амбулаторий, организованных активистами «движения». Как раз такая перекличка, возникающая между отдельными фрагментами движения, и характерна для коммуны. Если коммуна и «налаживает производство», то исключительно попутно, если она удовлетворяет наши «нужды», то как бы помимо всего прочего, помимо собственного стремления к коллективной жизни; притом производство и удовлетворение нужд не становятся самоцелью. Тех союзников, которые требуются для её развития, она найдёт непосредственно в открытом наступательном бою против этого мира. Развитие коммун — вот настоящий экономический кризис и единственный фактор отрицательного экономического роста.
4. Образовать общую силу.
Коммуна может образоваться в любой ситуации, в ответ на любую «проблему». Рабочие завода АМО, пионеры большевистского коммунализма, открыли первый в СССР дом-коммуну, потому что после войны и революции им катастрофически не хватало таких мест, где можно было провести отпуск. Один из обитателей дома-коммуны пишет в 1930 году следующее: «Когда по крыше коллективной дачи забарабанили долгие осенние дожди, под этой самой крышей и было принято решение: остаёмся зимовать». Подходящего момента для создания коммуны не существует просто потому, что не существует подходящего момента для наступления эпохи. Любая ситуация, если только последовательно к ней относиться, приводит нас к этому миру и связывает нас с ним, со всем невыживаемым, что в нём есть, а также со всеми его разломами и трещинами. Каждая частичка существования определяет форму всей жизни. Поскольку цель любой коммуны — это в действительности наш мир, то нельзя допустить, чтобы её жизнью полностью управляли задачи, вопросы или ситуации, которые были условиями её формирования и не более чем обстоятельствами встречи. Коммуна переходит на новый, плодотворный уровень развития, когда желание быть вместе и зарождающиеся в этом желании силы превосходят изначальные причины её образования.
Если в ходе последних восстаний улица нас чему-то и научила (не беря в расчёт популяризацию тактики массового протеста и теперь уже повсеместного использования противогазов — настоящего символа нашей эпохи, ставшей совершенно непригодной для дыхания), так это радости, которая важнее всего политического просвещения вместе взятого. Даже среди версальской шушеры с бритыми затылками не найдётся таких, кто бы за последние годы не пристрастился к исступлённым демонстрациям и к потасовкам с полицией. Каждый раз в чрезвычайных ситуациях, во время забастовок и акций захвата возникает нечто гораздо большее, чем все те требования, стратегии или надежды, которые изначально стояли на кону. Те, кто пришёл на площадь Таксим с протестом против вырубки шести сотен деревьев, нашли там другого подзащитного: саму площадь, которая превратилась в мученицу и в олицетворение силы, вновь обретённой после десяти лет политической кастрации и профилактического расчленения всего, что хоть отдалённо напоминало коллективную организацию.
Благодаря коммунам, образовавшимся во время захвата площадей Тахрир и Пуэрта-дель-Соль, в ходе некоторых американских оккупационных движений или в незабываемый сорокадневный период существования свободной республики Маддалены в долине Валь-ди-Суза мы поняли, что способны организоваться на множественных уровнях, которые никто не может привести к общему знаменателю. Вот что нас опьянило: чувство сопричастности, возможность ощутить общую силу, необъяснимую и временно неуязвимую. Неуязвимой она была потому, что радость, светившуюся в каждом мгновении, в каждом жесте, в каждой встрече, у нас никогда не могли забрать. Кто готовит еду на 1000 человек? Кто настраивает радио? Кто пишет официальные сообщения? Кто мечет камни в полицейских? Кто строит дом? Кто рубит дрова? Кто выступает на собрании? Мы не знаем и знать не хотим: все они — безымянная сила, как говорил новоиспечённый испанский Блум{80}, не подозревая, что заимствует это понятие у еретиков из секты братьев Свободного Духа, существовавшей в XIV веке. Уже само понимание того, что всё совершаемое, всё переживаемое причастно к некоему общему духу, общей силе, общему богатству, позволяет покончить с экономикой, то есть с расчётами, измерениями, оценкой, со всей этой жалкой бухгалтерской ментальностью, которая повсюду, как в любви, так и в ремесле, оставляет злобный след. Один наш друг, проживший долгое время в палатке на площади Синтагмы, удивился, когда мы спросили его, каким образом грекам удалось организовать продовольственное снабжение, если участники движения сожгли парламент и окончательно вывели из строя экономику страны: «Десять миллионов человек ни за что бы не стали умирать от голода. Даже если кое-где и начинались небольшие перепалки, то такого рода неурядицы не идут ни в какое сравнение с тем, что происходит обычно».
Особенность ситуации, в которой оказываются коммуны, заключается в том, что полностью в неё погрузившись, человек всегда находит там больше, чем отдаёт и чем ищет: с удивлением обнаруживаешь в себе силу, выносливость и изобретательность, о которой прежде и не догадывался, а также ощущаешь счастье от того, что изо дня в день стратегически проживаешь исключительную, чрезвычайную ситуацию. В этом смысле коммуна — это организация плодотворности. Она порождает всегда больше, чем требует. Это и объясняет необратимость потрясений, охвативших толпу, которая заполнила все площади и улицы Стамбула. Толпа, которая на протяжении нескольких недель вынуждена самостоятельно решать важнейшие вопросы снабжения, строительства, здравоохранения, захоронения или вооружения, не только учится самоорганизации, но и узнаёт то, о чём большинство и не догадывалось. Мы узнаём, что умеем организовываться и что коллективная сила приносит величайшую радость. Тот факт, что об этой плодотворной уличной жизни ни словом не обмолвились демократические теоретики «возвращения общественного пространства обществу», — вот достаточное доказательство той угрозы, которую она в себе несёт. При воспоминании об этих днях и ночах упорядоченная городская повседневность кажется ещё более невыносимой, и оттого ещё сильнее чувствуется её тщета.
Today Libya, tomorrow Wall Street[59]
1. История пятнадцати лет.
3 июля 2011 года после выселения Свободной Республики Маддалены десятки тысяч человек бесконечной чередой шли к строительной площадке, оккупированной силами полиции и армии. В тот день в долине Валь-ди-Суза разразилась настоящая битва. Демонстрантам в boschi[60], в лесах, даже удалось схватить и разоружить одного не в меру бойкого карабинера. Почти все, от парикмахера до старушки, вооружились противогазами. А те, кому возраст не позволил выйти из дома, кричали нам вдогонку с порога: “Ammazzateli!” — «Убейте их!» Оккупантов так и не удалось вытеснить из опорного пункта. На следующий день все итальянские газеты в один голос пересказывали враки полиции: «Маалокс и нашатырный спирт: герилья Чёрного Блока», и т. д. В ответ на эту лживую пропагандистскую кампанию была созвана пресс-конференция. Реакция участников движения звучала так: «Что ж, если штурмовать строительную площадку может только Чёрный Блок, значит мы все — Чёрный Блок!» Десятью годами ранее, практически день в день, холопская пресса точно так же объяснила побоище в Генуе: группировка неизвестного происхождения под названием Чёрный Блок проникла в ряды демонстрантов и собственноручно устроила в городе резню. В общественных спорах столкнулись лидеры демонстрации, утверждавшие, что под видом вышеупомянутого Чёрного Блока действовали на самом деле полицейские в штатском и те, кто считал эту группировку террористической организацией со штаб-квартирой за границей. По меньшей мере можно сказать, что полицейская риторика ничуть не изменилась, в отличие от самого движения, которое проделано внушительный путь.
С точки зрения нашей партии, стратегический анализ последних пятнадцати лет так или иначе начинается с антиглобалистского движения, этой последней всемирной атаки на капитализм. Неважно, что мы берём за точку отсчёта этого движения: демонстрацию против Маастрихтского договора, прошедшую в Амстердаме в 1997 году, женевские протесты 1998 года против ВТО, Carnival Against Capital[61], проведённый сначала в Лондоне в июне 1999 года‚ а затем в ноябре того же года в Сиэтле. И неважно, считаем ли мы, что пик движения наступил в Генуе, или что оно ещё теплилось в Хайлигендамме в 2007 году или в Торонто в июне 2010-го. Точно одно: в конце 1990-х годов возникло движение планетарного масштаба, направленное против крупных межцународных компаний и мировых правительственных структур (МВФ, Всемирный банк, Европейский союз, Большая восьмёрка, НАТО и т. д.). Глобальная контрреволюция, использовав в качестве предлога события 11 сентября, выступила с политическим ответом антиглобализму. Раскол, наметившийся после Генуи непосредственно внутри «западных обществ», необходимо было перекрыть любыми средствами. Вполне логично, что осенью 2008 года «кризис» назрел в самом сердце капиталистической системы, в той точке, которая была излюбленной мишенью антиглобалистской критики — в финансовой системе. Произошло это потому, что контрреволюция, какой бы массовой она ни была, способна лишь заморозить противоречия, но устранить их она не может. В итоге опять же вполне логично — на поверхности возникает именно то, что в течение семи лет безжалостно подавляли: «В декабре 2008 года, — подытожил один из наших греческих соратников, — по всей стране была Генуя, и продолжалась она целый месяц». За это время подо льдом созрели противоречия.
В истории антиглобалистское движение так и останется первым трогательным и беспомощным броском всемирной мелкой буржуазии против капитализма. Своеобразным предчувствием неминуемой пролетаризации. Среди исторических профессий мелкой буржуазии — таких как врач, журналист, адвокат, художник или преподаватель — нет ни одной специальности, которая не пригодилась бы для активизма: street medics[62], альтернативный репортёр Indymedia[63], legal team[64] или специалист в области солидарной экономики. Недолговечность антиглобализма, несостоятельного во всём, вплоть до выступлений против саммита, когда одна поднятая дубинка может взвинтить толпу точно стаю воробьёв, согласуется с неустойчивостью самой буржуазии как промежуточного «некласса», с её исторической нерешительностью и политической слабостью. Недостаточная реальность одного объясняет недостаточное сопротивление другого. Как только подул зимний ветер контрреволюции, движение за какие-то несколько сезонов рассыпалось в пыль.
Если душой антиглобализма была критика мирового правительственного аппарата, то можно сказать, что «кризис» конфисковал эту критику у её идеологов: борцов и активистов. Всё то, что было доступным лишь ограниченным кругам политизированных фигур, отныне стало неоспоримой очевидностью для всех. Никогда прежде — до осени 2008 года — не было столько смысла, причём до такой степени понятного всем смысла, в том, чтобы устраивать погромы в банках. Но именно поэтому никогда ещё не было так мало смысла в том, чтобы этим занималась только маленькая группка профессиональных мятежников. Начиная с 2008 года события разворачивались так, словно антиглобалистское движение растворилось в реальности. Оно исчезло собственно потому, что оно себя реализовало. Как будто вся его основная лексика перешла в общественное достояние: кто ещё сомневается в бессовестной «диктатуре финансов», в политической направленности реструктуризации, совершаемой по требованию МВФ, в алчном капиталистическом «разграблении окружающей среды», в безумной самонадеянности ядерного лобби, в повсеместной и совершенно наглой лжи, в неприкрытой коррупции управленцев? Кого ещё не приводит в содрогание односторонняя коронация неолибералмзма, служащая ему лекарством от собственного краха? Сто́ит вспомнить, что все те убеждения, на которые опирается сегодня здравый смыл, ещё десять лет назад высказывались лишь в кругах активистов.
«Люди» разграбили антиглобалистское движение целиком, включая весь арсенал его методов. У повстанцев на Пуэрта-дель-Соль была своя Legal Team, своя Medical Team[65]‚ свой Info point[66], свои «хактивисты» и походные палатки — точь—в-точь как на любой вчерашней акции протеста против саммита или в любом лагере “No Border”[67]. В самый центр испанской столицы были перенесены те же самые формы собраний, та же организация barrios[68] и комиссий и даже те же нелепые условные жесты, которые сопровождали антиглобалистское движение. Ранним утром 15 июня 2011 года барселонские активисты acampadas[69]{81}‚ собравшись многотысячной толпой, попытались заблокировать здание парламента Каталонии, чтобы сорвать принятие «плана жёсткой экономии» — точно так же, как несколькими годами ранее демонстранты не пускали представителей стран—членов МВФ в конференц-центр. Book Bloc[70] — акция, английского студенческого движения 2011 года — это перенесённая в контекст «социального движения» тактика Tute Bianche[71]{82}, которая применялась во время митингов против саммитов. 22 февраля 2014 года‚ когда в Нанте проходила демонстрация против строительства аэропорта, протестный метод, предусматривающий действия маленьких мобильных групп людей в масках, стал настолько популярным, что все разговоры о «Чёрном Блоке» были всего лишь попыткой подвести новое явление под старое понятие, если не просто вошедшей в употребление фразой министра внутренних дел. Когда полиция обнаруживает всюду лишь действия «радикальных группировок», то нетрудно понять, что таким образом она старается замаскировать проблему всеобщей радикализации.
2. Избавиться от тяги к местному.
Итак, наша партия вездесуща, но сейчас она не у дел. Когда антиглобалистское движение сошло на нет, то и перспектива всемирного движения таких же масштабов, как и сам капитализм (а значит, движения, способного ему противостоять) оказалась недостижимой. Следовательно, первый вопрос, возникший перед нами, звучит так: каким образом совокупность сил, погружённых в ситуацию, может приобрести мировое влияние? Каким образом совокупность коммун может образовать историческую партию? Иными словами, на определённом этапе нам нужно было отказаться от ритуальных протестов против саммитов со всеми этими профессиональными активистами, наводящими тоску puppetmasters[72]‚ предсказуемыми массовыми беспорядкам, бесконечными лозунгами и отсутствием смысла, чтобы почувствовать связь с теми территориями, на которых мы живём; нам нужно было избавиться от глобальной абстракции. Но как теперь избавиться от тяги к местному?
Традиционно революционеры полагают, что их партия сможет объединиться, обозначив общего врага. Это их неизлечимый диалектический недуг. «Диалектическая логика, — говорил Фуко, — это такая логика, которая сводит противоречащие термины к однородному элементу. Эту диалектическую логику я предлагаю заменить тем, что я бы назвал логикой стратегии. А логика стратегии не сводит противоречащие термины к однородному элементу, обещающему их разрешение в единстве. Она призвана установить, какие связи между разрозненными терминами возможны, а какие остаются несвязанными. Логика стратегии — это логика соединения разнородного, а не логика гомогенизации противоречивого»{83}.
Никогда никакая действенная связь между коммунами, между разнородными силами — силами в ситуации — не установится через выявление общего врага. Если до сих пор, после сорока лет борьбы, активисты так и не смогли чётко понять, кто их враг: отчуждение‚ эксплуатация, капитализм, сексизм, расизм, цивилизация или же вообще всё существование целиком, то это значит, что неверно поставлен вопрос, что этот вопрос в принципе не имеет смысла. Врага нельзя так просто обозначить, оторвавшись от всех наших установок и переместившись невесть в какое политическое или философское измерение. После такого разрыва все кошки серы, реальность окутана дымкой неизвестности, которую мы сами же и нагнали: всё кажется враждебным, холодным, безучастным. Активист может ополчиться против чего угодно, но так или иначе он сражается с некоей формой пустоты, своей собственной пустоты — с бессилием и ветряными мельницами. Для того, кто отталкивается от окружающего пространства, — от среды общения, от местности, в которой он живёт, от предприятия, на котором работает, — линия фронта намечается сама, опытным путём, при непосредственном контакте. Кто батрачит на сволочей? Кто не хочет пачкать руки? Кто рискует ради того, во что верит? До какой грани готов дойти противник? Перед чем он пойдёт на попятную? На что он опирается? Не какое-нибудь одностороннее решение, а сам опыт даёт нам ответ на эти вопросы — в каждой отдельной ситуации, при каждой отдельной встрече. Здесь враг уже не та эктоплазма, которую можно материализовать, просто обозначив её. Враг — Это нечто данное, навязанное каждому человеку, не отстранившемуся от того, кто он и где он, в попытке перенестись (из подобного отчуждения) в абстрактное пространство политики в настоящую пустыню. Да и даётся враг лишь тем, кому ещё хватает жизненной силы, чтобы инстинктивно не избегать столкновений.
Каждая провозглашённая коммуна порождает вокруг себя новую географию, а иногда даже формирует её на расстоянии. Там, где раньше простиралась лишь однообразная территория, равнина, где всё было взаимозаменяемо и неразличимо, где царила серость и равнозначность, коммуна выстраивает горную цепь, внушительный рельеф с ущельями, вершинами, ошеломляющими переходами между друзьями и неприступными обрывами между врагами. Всё уже не так просто, а если и просто, то по-другому. Любая коммуна создаёт политическую территорию, которая разрастается в длину и в ширину. И именно этим движением она прокладывает пути, ведущие к другим коммунам, сплетает нити и связи, образующие нашу партию. Наша сила зарождается не в процессе выявления врага, а в стремлении вписать одних в географию других.
Всех нас оставило сиротами то время, когда мир был ошибочно поделён на сообщников и друзей капиталистического блока. Когда советская подделка разбилась вдребезги, исчезла и вся понятная нам координатная сетка. Ни Одна идеология не позволяет издали отличить друга от врага, как бы отчаянно некоторые ни пытались восстановить обнадёживающую систему отсчёта, в которой Иран, Китай, Венесуэла или Башар аль-Асад выступают героями борьбы с империализмом. Кто может отсюда разглядеть суть восстания в Ливии? Кто может отделить на захваченной площади Таксим отголоски кемализма от стремления к новому миру? А Майдан? Как насчёт Майдана? Нужно пойти и посмотреть. Нужно встретиться. И распознать среди множества движений дружественные общины, потенциальных союзников, необходимые конфликты, руководствуясь логикой стратегии, а не диалектики.
«С самого начала, — написал более сорока лет назад наш соратник Делёз, — мы должны занимать более центристскую позицию, чем сами центристы. Очевидно, что революционная машина не может ограничиться местными и точечными схватками: она гиперцентрализована и побуждаема гипержеланием, а потому ей нужно быть всем сразу. Следовательно, проблема заключается в природе унификации, которая должна происходить трансверсально, через многообразие, а не вертикально, не так, чтобы подавить это многообразие, свойственное желанию»{84}. Как только между нами формируются взаимосвязи, то эта разрозненность, эта расколотая картография перестаёт быть слабым местом нашей партии и даже, наоборот, позволяет нам сбить прицел противника. Как говорил один из наших каирских друзей летом 2010 года: «Мне кажется, что до сих пор положение в Египте спасало только то, что у этой революции нет лидера. Вот что, видимо, больше всего ставит в тупик полицию, Государство и правительство. Некому отрубить голову, чтобы всё прекратилось. Как вирус постоянно мутирует для самосохранения, так и мы сохраняли эту народную организацию: лишённую какой—либо иерархии, совершенно горизонтальную, органическую, рассеянную». Структура, не имеющая ничего общего с Государством, с организацией, может быть только рассредоточенной и фрагментарной, и из этой россыпи она черпает энергию для расширения. Мы же должны создать условия для встречи, коммуникации, понимания и сговора между местными образованиями. Революционер отчасти взял на себя роль переводчика. У мятежа нет своего эсперанто. И не повстанцы должны учить язык анархистов, а анархисты должны стать полиглотами.
З. Сформировать силу, которая бы не была организацией.
Следующая трудность, возникшая перед нами, состоит вот в чём: как сформировать силу, которая бы не была организацией? Уже целый век ведутся споры о «стихийности или организацци», и должно быть, здесь тоже неверно поставлен вопрос, поскольку до сих пор обоснованного ответа найти не удалось. Эта мнимая проблематика опирается на слепоту, неспособность увидеть организационные формы, подспудно присутствующие во всём, что называется «стихийным». Любая жизнь, а тем более любая коллективная жизнь, сама распространяет типы существования, манеру речи, способы производства, разновидности любви, методы борьбы, то есть закономерности, привычки, язык — в общем, формы. Дело лишь в том, что мы научились не замечать форму всего живого. Форма для нас — это изваяние, структура или скелет, но уж никак не существо, которое движется, ест, танцует, поёт и бунтует. Истинные формы неотделимы от жизни, и прочувствовать их можно только в движении. Один из наших египетских товарищей рассказывал: «Никогда в Каире не было столько жизни, как во время первого восстания на площади Тахрир. Поскольку всё разом вышло из строя, каждый ухаживал за тем, что его окружало. Люди выносили мусор, сами подметали тротуары и кое-где даже перекрашивали их, рисовали на стенах фрески, заботились друг о друге. Даже движение на дорогах чудесным образом превратилось в свободный поток, как только с улиц исчезли регулировщики. Неожиданно мы осознали, что у нас всё это время отнимали право на самые простые действия, благодаря которым город принадлежит нам, а мы — ему. На площадь Тахрир приходили люди и совершенно естественно искали, чем помочь: они шли на кухню, переносили на носилках раненых, рисовали плакаты, мастерили щиты и пращи, общались, сочиняли песни. Мы обнаружили, что государственная организация была на самом деле полной дезорганизацией, потому что она не признавала человеческую способность к самоорганизации. На площщади Тахрир никто не отдавал приказов. Очевидно, что если бы кому-нибудь пришло в голову всех организовать, то немедленно воцарился бы хаос». Мы все хорошо помним знаменитое письмо Курбе времён Коммуны: «Париж — настоящий рай: ни полиции, ни глупостей, ни поборов, ни грызни. Париж катится сам, как по рельсам, всегда бы было так! Словом, полный восторг»{85}. Подобные восторженные рассказы очевидцев — постоянная величина в Истории, начиная с коллективизаций в Арагоне в 1936 году и заканчивая захватами площадей в последние годы: война всех против всех — это не то, что происходит, когда Государства нет, а то, что Государство искусно организует, пока оно есть.
Тем не менее если мы признаём формы, которые стихийно порождает жизнь, это ни в коем случае не значит, что мы можем поддерживать эти формы, расширять их и вносить надлежащие изменения, полагаясь на стихийность. Наоборот, такие действия требуют неусыпного внимания и жёсткой дисциплины. Но это не то оперативное, кибернетическое, сиюминутное внимание, свойственное всем активистам и менеджерам первого звена, которые боготворят систему, подвижность, feed-back[73] и горизонтальность и которые руководят всем снаружи, не вникая. Это не та внешняя, околовоенная дисциплина старых организаций, выросших из рабочих движений и превратившихся, кстати, почти всюду в придаток Государства. Внимание и дисциплина, которые мы имеем в виду, направлены на движущую силу, на ее состояние и на её укрепление. Они отслеживают признаки того, что может ей навредить, они предвицят то, что её увеличивает. Они никогда не путают невмешательство с наплевательством — бичом всех коммун. Они смотрят за тем, чтобы мы всё не перемещали, собираясь всем поделиться. Они вовсе не привилегия избранных, а всеобщее право на инициативу. Они представляют собой одновременно условие и предмет настоящего совместного пользования, а также залог его соразмерности. Они — наш оплот в борьбе против тирании неформального подхода. Они — сама материя нашей партии. Сорок лет неолиберальной контрреволюции вычеркнули из нашей памяти в первую очередь эту связь между дисциплиной и радостью. И теперь мы её вновь для себя открываем: истинная дисциплина ориентирована не на внешние атрибуты организации, а на укрепление внутренней силы.
4. Укреплять силу воздействия.
Волюнтаризм, точно врождённый недуг, терзает революционную традицию. Жить ради завтрашнего дня, шагать к победе — вот один из немногих способов пережить нескрываемый ужас настоящего. Другой способ, причём худший и банальнейший, — это цинизм. Однако в такие времена революционерам скорее бы следовало терпеливо укреплять свою силу. Этот вопрос долго отодвигала на второй план уже изжившая себя тема захвата власти, и теперь необходимость его решения застала нас врасплох. Отыщется немало бюрократов, точно знающих, как использовать силу нашего движения, а вернее, как сделать из неё средство — средство, которое с нами покончит. Но о силе как таковой мы задумываться не привыкли. Мы смутно представляем себе её существование, мы чувствуем её колебания, но обращаемся мы с ней так же небрежно, как и со всем «экзистенциальным». Наша относительная безграмотность в этой области сродни прогнившей начинке радикальных кругов: каждая мелкая инициативная группка, воюющая со свойственной ей патетикой за крупицы политического рынка, наивно полагает, что ей удастся укрепить свои позиции, если она ослабит соперников, осыпав их клеветой. Это ошибка. Мы становимся сильнее тогда, когда сражаемся с врагом, а не когда унижаем его. Людоед и тот ведёт себя достойней: он пожирает своего врага, а следовательно‚ он уважает его настолько, что хочет насытиться его силой.
Поскольку в данный момент мы не можем опираться на революционную традицию, нам сто́ит обратиться к сравнительной мифологии. Известно, что Дюмезиль, изучая индоевропейскую мифологию, пришёл к своей знаменитой трифункциональной теории: «За фигурами священников, воинов и производителей стоят иерархические “функции” магического и юридического господства, физической и в основе своей военной силы, умиротворённого и плодовитого изобилия»{86}. Оставим в стороне иерархию «функций» и поговорим лучше об измерениях. Скажем так: у каждой силы есть три измерения — дух, мощность и богатство. Укрепляться она может лишь при условии, что сохранит все три измерения вместе. Революционное движение как историческая движущая сила включает в себя духовную составляющую (которая может принимать любую форму: теоретическую, литературную, художественную или метафизическую), боеспособность (которая может выражаться в нападении или в самозащите) и изобилие материальных средств и территорий. Эти три измерения по-разному соединяются во времени и в пространстве, каждый раз порождая единственные в своём роде формы, мечты, силы и истории. Но каждый раз, когда одно из измерений теряет связь с остальными и отделяется, движение приходит в упадок. Оно перерастает в вооружённый отряд, в секту теоретиков или в альтернативную организацию. Красные бригады, ситуационисты, ночные клубы, то есть, простите, «общественные центры» Неповинующихся{87} — всё это стандартный алгоритм революционного провала. Чтобы укрепить силу воздействия, каждое революционное движение должно продвигаться равномерно во всех областях. Сидеть на привязи у наступательной стратегии значит в конечном итоге остаться без разумных идей и опошлить изобилие средств. Прекратить теоретическое движение значит подставить себя под удар капитализма и потерять способность воспринимать жизнь на наших территориях. Перестать строить миры своими руками значит обречь себя на призрачное существование.
«Что такое счастье? Чувство, что сила крепнет, что препятствие преодолевается», — писал один друг.
Стать революционером значит уготовить себе сложное, но незамедлительное счастье.
Хотели бы мы высказаться кратко. Обойтись без генеалогий, этимологий и цитат. Чтобы хватило одного стиха, одной песни.
Хотели бы мы, чтобы можно было просто написать на стене слово «революция», и тотчас же вся улица занялась бы пламенем.
Но пришлось распутывать клубок настоящего, время от времени сводя счёты с тысячелетней ложью. Пришлось сделать попытку переварить семь лет исторических судорог. И расшифровать мир, где замешательство расцвело на дереве заблуждений.
Мы нашли время написать эти слова в надежде, что остальные найдут время их прочитать. Писательство — лишь суета, если только не пишешь для друзей. В том числе для друзей, с которыми пока не знаком.
В грядущие годы мы будем всюду, где пахнет палёным. Во время передышек найти нас несложно.
Мы продолжим начатую здесь разъяснительную работу.
Будет ещё время и место для того, чтобы сплотить наши силы против логических мишеней.
Будет ещё время и место для того, чтобы собраться и всё обсудить.
Мы не знаем, пройдёт ли восстание как героический натиск или же оно обернётся всемирными рыданиями, превратится в резкий поток эмоций после десятилетий бесчувственности, убожества, глупости.
Нет гарантий тому, что фашистскую альтернативу не предпочтут революции.
Мы сделаем всё, что нужно.
Думать, нападать, строить — вот наш чудесный путь.
Этот текст — начало плана.
До очень скорого,
Невидимый комитет
Октябрь 2014
[1] Семейный кошелёк (португ.) — название социальной программы помощи малоимущим семьям (здесь и далее внизу страницы — примечания переводчика).
[2] «Пусть они все убираются» (исп.).
[3] «Все копы ублюдки» (англ.).
[4] «мозговой центр» (англ.).
[5] «Весёлого кризиса и счастливого нового страха» (англ.).
[6] «Большой», «Великий», здесь: «Тот самый» (англ.).
[7] последний довод (лат.).
[8] «Готовность 101: Апокалипсис зомби» (англ.).
[9] жилые районы, пригороды (англ.).
[10] борьба за выживание (англ.).
[11] Ходячие мертвецы (англ.) — название популярного амер. телесериала.
[12] офисные служащие (англ.).
[13] обязательный атрибут (англ.).
[14] «Навигатор для души» (англ.).
[15] «Он покровительствует нашим начинаниям. Новый порядок веков» (лат.).
[16] «Рай — это место, где никогда ничего не происходит» (англ.) — строчка из песни группы Talking Heads 1979 г.
[17] «Тайип, зима близко» (англ.).
[18] Захвати Уолл-стрит (англ.).
[19] новая жизнь (итал.).
[20] жить хорошо (исп.).
[21] «Реальная демократия сейчас!» (исп.).
[22] грязные войны (англ.).
[23] спекуляции, чрезмерной эксплуатации (креол.).
[24] «Новый цифровой мир» (англ.).
[25] «Открытое правительство» (англ.).
[26] открытый программный код (англ.).
[27] «Не будь злым, не навреди» (англ.), корпоративный лозунг компании Google.
[28] безличная личность (англ.).
[29] измеренное я, измеряемая личность (англ.).
[30] более умные и высокотехнологичные города (англ.).
[31] См. fablabs далее.
[32] хакерские пространства (англ.).
[33] производственные лаборатории (англ.).
[34] Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (англ.).
[35] Порядок из хаоса (лат.).
[36] «Правила для радикалов» (англ.).
[37] выгорание (англ.).
[38] «Городские операции в 2020 г.» (англ.).
[39] закрытые районы (англ.).
[40] мирные линии (англ.).
[41] противобанды (англ.)
[42] операции под ложным флагом (англ.)
[43] «Нет такой вещи как общество» (англ.).
[44] построение нации, нациообразование (англ.).
[45] заключительная вечеринка (англ.).
[46] кластеры, скопления, объединения (англ.).
[47] Охраняемая зона (ZAD, Zone à défendre, франц.).
[48] умные, высокотехнологичные города (англ.)
[49] Всё общее (лат.).
[50] сговор (лат.).
[51] коммунары, общинники (исп.).
[52] начало, исток (греч.).
[53] Национальная конфедерация труда — Федерация анархистов Иберии (исп., Confederatión National del Trabajo — Federación Anarquista Ibérica).
[54] боевики, стрелки (исп.).
[55] Мы (исп.).
[56] предоставление полномочий, расширение возможностей (англ.).
[57] история успеха (англ.).
[58] бизнес как обычно (англ.).
[59] Сегодня — Ливия, завтра — Уолл-Стрит (англ.).
[60] леса (итал.).
[61] Карнавал против капитала (англ.).
[62] уличные врачи (англ.).
[63] независимые СМИ (англ.).
[64] юридическая группа (англ.).
[65] медицинская группа (англ.).
[66] информационное бюро (англ.).
[67] «Нет границ» (англ.).
[68] кварталы, предместья (исп.).
[69] палаточные городки (исп.).
[70] Книжный блок (англ.).
[71] Белые комбинезоны (итал.).
[72] кукловоды (англ.).
[73] обратная связь, реакция (англ.).
{1} Тройное А — высший уровень кредитного рейтинга страны, который рассчитывается исходя из её финансовой активности, а также на основе её политической стабильности и государственных задолженностей. На сегодняшний день самыми влиятельными агентствами, присваивающими кредитные рейтинги государствам, являются Fitch, Moody’s и Standard & Poors.
{2} См.: Невидимый комитет. Грядущее восстание / Пер. с франц. А. Оклиной. М.: Ультракультура 2.0, 2011.
{3} Лозунг протестного движения «Захвати Уолл-Стрит» (Оссиру Wall Street), распространившийся после того, как в августе 2011 г. на платформе Tumblr появился одноимённый блог. В основе лозунга лежит идея социального неравенства и неравномерного распределения доходов в амер. обществе.
{4} См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 50 т. 2—е изд. Т. 7. М.: Гос. изд—во полит. лит-ры, 1958. С. 467.
{5} Также «тройка кредиторов» _— имеются в виду три международные организации (Европейская комиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд), которые оказывают финансовую помощь европ. странам, имеющим большие задолженности, а именно Греции, Ирландии и Португалии.
{6} В октябре 2005 г. в одном из парижских пригородов два подростка североафриканского происхождения погибли на трансформаторной подстанции, где они скрывались от полиции. Это происшествие всколыхнуло мощную волну массовых беспорядков, охватившую пригороды Парижа и других городов. В стране было введено чрезвычайное положение. В результате погромов и поджогов было разрушено множество домов и учреждений. После этих событий правительство активно занялось восстановлением и облагораживанием неблагополучных районов.
{7} См.: Greenspan A.. The Age of Turbulence: Adventures in a New World. New York: The Penguin Press, 2008. P. 268.
{8} См.: Невидимый комитет. Грядущее восстание. С. 94.
{9} АТТАК (L’Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne) — ассоциация за налогообложение финансовых операций и за гражданское действие — организация, образованная в 1998 г. во Франции, выступающая за демократический контроль над финансовыми рынками и ведущая борьбу против неолиберальной экономической системы.
{10} Алфабет-сити — район в Нижнем Манхэттене. Хобокен — город, расположенный на берегу Гудзона, напротив Манхэттена. Оба населенных пункта сильно пострадали от наводнений в 2012 г., когда на северо-восток США обрушился ураган «Сэнди».
{11} См.: Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / Пер. с франц. М.: Политиздат, 1990. С. 32.
{12} Фронтекс (Frontex — Frontières extérieures, «внешние границы», франц.) — созданное в 2004 г. агентство Европейского союза, деятельность которого направлена на обеспечение безопасности внешних границ государств-членов ЕС.
{13} См.: Паскаль Б. Мысли / Пер. с франц., вступ. статья, коммент. Ю. А. Гинзбург. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1995. С. 139.
{14} В конце марта 2009 г., за несколько дней до землетрясения в Л’Акуиле, начальник итал. службы гражданской безопасности Г. Бертолазо провёл медийное совещание с сейсмологами, чтобы успокоить жителей города. После его заверений город не был эвакуирован, и в результате погибло более 300 человек. Позже тот же Бертолазо, руководящий восстановительными работами, оказался замешан в коррупционном скандале: он обвинялся во взяточничестве при распределении тендеров на реконструкцию зданий и в предоставлении субсидий из государственного бюджета строительным компаниям, связанным с мафией.
{15} Александрос Григоропулос — 15-летний житель Афин, убитый полицией в 2008 г. После его смерти в Афинах и в других городах Греции вспыхнули массовые беспорядки. Марк Дагган — 29-летний житель лондонского района Тоттенхэм, застреленный полицией при попытке ареста. Его смерть послужила причиной массовых беспорядков, охвативших Англию в августе 2011 г. Мохаммед Буазизи — уличный торговец фруктами из тунисского города Сиди-Бузид, совершивший в декабре 2010 г. самосожжение перед мэрией города. Этот протест против коррумпированности и агрессии местных чиновников стал началом тунисской революции. Масиниса Герма — 18-летний алжирец кабильского происхождения, арестованный в апреле 2001 г., а затем при невыясненных обстоятельствах застреленный в полицейском участке. После его смерти в Алжире началось кабильское восстание, известное как «Чёрная весна».
{16} “Winter is coming” — девиз семьи Старков из амер. драматического сериала «Игра престолов», а также название первого эпизода этого сериала.
{17} Çapulcu — «бомжи», «нищие» (тур.). Слово, которым премьер-министр Турции Эрдоган назвал протестующих в парке Гези.
{18} Михаэль Кольхаас — главный герой одноименной новеллы Г. фон Клейста, обеспеченный торговец лошадьми, который, столкнувшись с произволом местных властей, собирает единомышленников среди простого народа и возглавляет мятеж против своих обидчиков. Действие новеллы разворачивается в Германии в ХVI в.
{19} Речь идёт о брошюре под названием «Возмущайтесь», см.: Hessel S. Indignez-vous. Montpellier: Indigène, 2010.
{20} См.: Ницше Ф. По ту сторону добра и зла / Пер. с нем. Н. Полилова // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 263.
{21} Хактивисты — политические активисты, использующие в своих действиях компьютерные технологии. Наиболее известными среди таковых считаются хакерские группы LulzSec и Anonymous, выступающие против деятельности крупных международных корпораций, а также против цензуры и правительственного вмешательства в Интернет.
{22} Имеется в виду «Учение о конституции» Карла Шмитта, см.: Schmitt C. Théorie de la Constitution. Paris: PUF, 1989. P. 384.
{23} Движение Occupy («Захвати») — международное протестное движение, возникшее из нью-йоркского движения Occupy Wall Street и охватившее десятки стран на всех континентах. Движение выступает против социального неравенства и экономической политики государств, а также против крупных международных компании.
{24} Народная ассамблея Оахаки (исп. APPO, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) — ассоциация различных профсоюзов и общественных организаций, образованная в 2006 г. в мексик. городе Оахака—де—Хуарес для координации народного протеста против мексик. властей. На протяжении полугода Народная ассамблея фактически удерживала власть над городом, взяв на себя его жизнеобеспечение.
{25} Имеется в виду Георгиос Папандреу (род. 1952), занимавший пост премьер—министра Греции в 2009—2011 гг.
{26} PRISM — секретная программа, разработанная в 2007 г. Агентством национальной безопасности США для слежки за передачей информации в Интернете.
{27} См.: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права // Руссо Ж..-Ж Трактаты / Изд. подг. В.С. Алексеев—Попов, Ю.М. Лотман, Н.А. Полторацкий, А.Д. Хаютин. М.: Наука, 1969. С. 223—224.
{28} См.: Бернейс Э. Пропаганда / Пер. с англ. И. Ющенко. М.: Hippo Publishing LTD, 2010. С. 1.
{29} См.: Маркс К. К критике Гегелевской философии права // Сочинения: В 50 т. 2—е изд. Т. 1. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1955. С. 275.
{30} См.: Макиавелли Н. Государь / Пер. с итал. Г. Муравьёвой. М.: Планета, 1990. С. 50.
{31} См.: Sahlins M. The Western Illusion of Human Nature. Chicago: Prickly Paradigm Press, 2008. P. 51.
{32} Джузеппе (Беппе) Грилло (род. 1948) — итал. актёр, юморист и политический активист, в 2009 г. основал политическую партию под названием Движение 5 звёзд.
{33} Дьёдонне Мбала Мбала (род. 1966) — франц. актёр, юморист и политический активист. В девяностых годах выступал в дуэте с еврейским актёром Эли Семуном и получил известность благодаря едким замечаниям по поводу расизма. Однако в двухтысячных годах Дьёдонне изменил свои политические взгляды, сблизился с правой партией Национальный фронт и стал ярым антисемитом. С тех пор его неоднократно привлекали к суду за разжигание расовой ненависти и за пропаганду терроризма.
{34} Юбер Лиоте (1854—1934) — франц. военачальник, принимавший активное участие в колониальных войнах, с 1912 по 1925 г. 6ыл генерал-резидентом Марокко, в 1921 г. стал маршалом Франции.
{35} См.: Zibechi R. Dispersar el poder: Los Movimentos sociales como poderes antiestatales. Buenos Aires: Tinta Limón, 2006. P. 77, 74.
{36} Закон о первом найме (Contrat première embauche), введённый во Франции в 2006 г. по инициативе премьер-министра Д. де Вильпена, предоставлял работодателю возможность увольнять молодого сотрудника в течение первых двух лет работы без объяснения причины, в то время как сам сотрудник, подав заявление об уходе, не имел права на пособие по безработице. Введение закона послужило причиной массовых забастовок, организованных профсоюзами. В результате волнений правительство пошло на попятную, и закон был отменён.
{37} См.: Беньямин В. Историко-философские тезисы / Пер. с нем. В. Биленкина // Левая Россия. № 7 (20). 2011. 19 марта.
{38} Всеобщая конфедерация труда (франц. Confédération générale du travail, CGT) — франц. национальное профсоюзное объединение, основанное в 1895 г.
{39} См.: Шмидт Э., Коэн Д. Новый цифровой мир / Пер. с англ. С. Филина. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 11.
{40} АРI — интерфейс программирования приложений, позволяющий сторонним программам взаимодействовать с некими сервисами (в данном случае с Facebook и Twitter), а также позволяющий создавать на основе этих сервисов новые программы.
{41} См.: Шмидт Э., Коэн Д. Новый цифровой мир. С. 254.
{42} См. там же. С. 255.
{43} См. там же. С. 196.
{44} См.: Cesarano G. Manuale di sopravvivenza. Bari: Edizioni Dedalo, 1974. P. 20.
{45} Главное управление внутренней безопасности Франции (Direction générale de la Sécurité intérieure).
{46} Имеются в виду сети обмена файлами, построенные на основе прямого подключения между пользователями (т. н. пиринговые или одноранговые). Нарушить их работу намного сложнее, чем работу централизованных сетей, которые могут быть ликвидированы путём отключения от центрального сервера. Наиболее известной такой сетью является Gnutella.
{47} Дословно название эссе Генри Дэвида Торо переводится как «Неповиновение гражданскому правительству». На рус. языке см.: Торо Г.Д. О гражданском неповиновении / Пер. с англ. О.В. Альбедипя // Новые пророки. Торо. Толстой. Ганди. Эмерсон. СПб.: Алетейя, 1996. С. 79—115.
{48} См.: Thoreau H.D. A Plea for Captain John Brown // The Essays of Henry David Thoreau. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 1992. Р. 62.
{49} Африканский национальный конгресс — политическая организация, основанная в ЮАР в 1912 г. и ведущая борьбу за равенство африканского населения ЮАР. С 1960 по 1990 г. организация существовала нелегально, а в 1994 г. одержала победу на демократических выборах и стала правящей партией страны.
{50} См.: Manifeste // Internationale lettriste. N 2. Paris. Février 1953. P. 1. Русский перевод манифеста Леттристского интернационала, выполненный С. Михайленко, доступен на сайте издательства «Гилея».
{51} Термин отсылает к работе франц. коллектива «Тиккун» «Теория девушки», см.: Тиккун. Теория Девушки. Предварительные материалы / Пер. с франц. С. Михайленко. М.: Гилея, 2014.
{52} См.: Foucault M. Lo Société punitive. Cours au Collège de France 1972—1973. Paris: Seuil, 2013. P. 15.
{53} См. там же.
{54} См.: Danet L. La Polémosphère // Sécurité Globale. 2009. № 4. P. 131—149.
{55} Цит. по: Desportes V. La Guerre probable. Penser autrement. Paris: Economica, 2007.
{56} Цит. по: Wicht B. Vers l’ordre oblique: La contre-guérilla à l’âge de l’infoguerre // Coutau-Bégaire H. (dir.). Stratégies irrégulières. Paris: Economica, coll. Bibliothèque stratégique, 2010.
{57} См.: Galula D. Counterinsurgency warfare. Theory and practice. New York; London: Frederick A. Paeger, 1964. P. 15, 17, 18 (рус. изд.: Галюла Д. Как вести противоповстанческую борьбу. Теория и практика. М.: Прогресс, 1965).
{58} Противобанды — один из методов борьбы с повстанческим или партизанским движением. Противобанды образуются из сил полиции или служб безопасности для дискредитации действий партизанских отрядов или повстанческих формирований.
{59} См.: Zibechi R. Dispersar el poder: Los Movimentos sociales como poderes antiestatales. P. 37.
{60} См. там же. Р. 41.
{61} Имеется в виду книга франц. социолога Алена Турена, см.: Touraine A. La Fin des sociétés. Paris: Seuil, 2013.
{62} См.: Bossuet J. Politique tirée de l’Écriture Sainte, Livre 1 (Conclusion) // Bossuet J. Oeuvres. Paris: Chez Firmin Didot Frères, 1841. Р. 315.
{63} Так наз. “Les années fric” (франц.) — термин, описывающий 1980-е гг. в европ. экономике.
{64} См.: Tönnies F. Gemeinschaft und Fesellschaft: Grundbegriffe der reinen Soziologie. Berlin: Karl Curtius, 1922. S. 39.
{65} См.: Jesi F. Spartakus. Simbologia della rivolta. Torino: Bollati Boringhieri, 2000. P. 24.
{66} Euronext NV — европ. фондовая биржа с офисами в Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне, Лондоне и Париже. Помимо основной своей деятельности компания также оказывает клиринговые услуги, то есть выступает посредником, при безналичных расчётах между предприятиями и странами. Clearstream — созданная в 2000 г. европ. расчётно-клиринговая организация с офисами в Германии и в Люксембурге.
{67} См.: Локк Дж. Два трактата о правлении // Сочинения: В 3—х т./ Ред. и сост. А.Л. Субботин. Т. 3. М.: Мысль, 1988. С. 339.
{68} Имеется в виду португ. поэт Мигел Торга.
{69} Рабочая партия Курдистана.
{70} В мае 1980 г. в южнокорейском городе Кванджу вспыхнуло массовое антиправительственное восстание. Повстанцам удалось оттеснить полицию и правительственные войска и взять под контроль город. 21 мая были сформированы гражданские управляющие комитеты, которые вели переговоры с властями и обеспечивали жизнедеятельность города. Однако местное самоуправление просуществовало лишь несколько дней: 27 мая правительственные войска ворвались в город и разгромили повстанцев.
{71} Хьюи Перси Ньютон (1942—1989) — афроамериканский политический активист, боровшийся за права чернокожего населения Америки и основавший в 1966 г. вместе с Б. Сейпом леворадикальную Партию чёрных пантер. Ньютон утверждал, что наций как таковых больше не существует, поскольку они преобразовались в сообщества (communities), а следовательно, в борьбе против политики США Партия чёрных пантер выступает не как интернациональная, а как интеркоммунальная организация.
{72} В Мексике: общественная работа, которую каждый житель общины должен выполнить для своего народа.
{73} Великий поход Красной армии Китая 1934—1936 гг. — одно из решающих событий гражданской войны в Китае, отход кит. коммунистов с занимаемых ими южных позиций и перебазирование армии на запад, а затем на север, через всю территорию страны В обход вражеских войск, которыми командовала консервативная партия Гоминьдан.
{74} См.: Остром Э. Управляя общим. Эволюция институтов коллективной деятельности. М.: Мысль, ИРИСЭН, 2011.
{75} Либертарные атенеи — созданные в начале ХХ в. образовательные центры для просвещения исп. рабочего класса, которые обрели огромную популярность и очень быстро стали центрами анархистской мысли, превратившись в настоящие народные школы. Некоторые атенеи существуют и по сей день, предлагая всевозможные курсы, лекции и культурные мероприятия, Однако большинство организаций преобразовалась в сквоты.
{76} Агент «оранж» (Agent orange) — гербицид, применявшийся амер. армией во Вьетнаме с 1961 по 1971 г. для уничтожения растительности в джунглях, где скрывались партизанские отряды. Вещество крайне ядовито и вызывает рак и различные мутации человеческого организма.
{77} Операция «Раскаты грома» (Rolling Thunder) — масштабная бомбардировочная кампания, которую авиация США проводила в Северном Вьетнаме с 1965 по 1968 г.
{78} Цитируемый фрагмент, вероятно, взят из кн.: McNamara R. The Essence of Security. Reflection in Office. New York: Harper & Row, 1968.
{79} Кристина Фернандес де Киршнер (род. 1953) — президент Аргентины с 2007 по 2015 г.
{80} Блум — концепт, введённый в обращение текстом «Теория Блума» в первом выпуске франц. журнала «Тиккун», см.: Théorie du Bloom // Tiqqun. № 1. 1999. P. 23—46. Авторы журнала впоследствии давали этому понятию следующее определение: «фигура обычного современного человека, лишённого экзистенциальной сущности и классовой принадлежности, целенаправленно сокращённая до голой жизни», см.: Глоссарий в помощь читателю «Тиккуна» // Тиккун. Теория Девушки. С. 128.
{81} Имеются в виду активисты движения “15M”, разбившие пала точный городок на площади Каталонии в Барселоне.
{82} Белые комбинезоны — протестное антиглобалистское движение, существовавшее в Италии с середины 1990-х до начала 2000-х гг. Активисты одевались в белые комбинезоны с плотной подкладкой, которые служили защитой при столкновениях с полицией во время демонстраций.
{83} См.: Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978—1979 учебном году / Пер. с франц. А.В. Дьякова. СПб.: Наука, 2010. С. 63.
{84} См.: Deleuze G. Préface // (Guattari F. Psychanalyse et transversalité. Paris: Maspero, 1972. P. I–Х|.
{85} Цитата из неопубликованного письма Гюстава Курбе к родителям от 30 апреля 1871 г., оригинал которого хранится в Национальной библиотеке Франции (Bibliothèque Nationale de France, Cabinet des Estampes, Papiers Courbet, boîte 1).
{86} См.: Dumézil G. Mythe et épopée. T. 1. Paris: Gallimard‚ 1968. P. 16.
{87} Неповинующиеся (Les Désobéissants) — франц. движение, ведущее борьбу за права и свободы человека, за права животных, за окружающую среду и социальное равенство, а также призывающее к мирным, ненасильственным акциям протеста.
